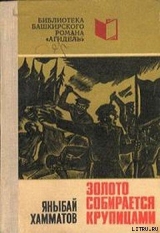
Текст книги "Золото собирается крупицами"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
7
Хисматулла пришел к шахте одним из первых.
На месте вырубленных берез над шахтой стоял большой подъемник, и старатели, пришедшие раньше Хисматуллы, сгрудились перед ним. Хисматулла заметил среди них старика Сайфетдина.
– Ишь ты, постарались! —сказал Сайфетдин. – По три человека спускает, не чета нашим корзинкам!
– Толку-то, – отвечал ему другой. – Все равно вручную, машина-то не работает, позавчера только воду насосами откачали! С тех пор как немец наш уехал, так и встала, —он указал на возвышавшуюся невдалеке черную громадину паровой машины. – Назначили Сабитова, прибежал он, раскудахтался – кто испортил, почему стоит, потом внутрь туда полез, руками немного покопался и говорит – дело фиговое, мол, механика надо из Оренбурга! Полез туда рукой снова, а оттуда как паром шуганет, тут же кубарем на землю свалился и без оглядки к себе в контору побежал, а по дороге все за штаны держался, наложил небось со страху-то!
Старатели одобрительно расхохотались.
– Пошли, что ли, – как бывалый шахтер; сказал Хисматулла, стараясь не показать, что не знает, как пользоваться подъемником.
Сайфетдин вошел с ним в клетку, и тотчас барабан закрутился, разматывая толстый стальной канат, и клетка медленно поползла вниз, раскачиваясь и ударяясь о деревянные стены колодца, обросшие мхом и плесенью. Становилось все темнее – казалось, что клетка падает куда-то в холодную бездонную пропасть. Сайфетдин, приподняв лампу, осветил лицо Хисматуллы.
– Как, сердце не дрожит?
– У кого, у меня, что ли? – обиделся Хисматулла. – Я же еще раньше спускался!
– Э, видел я ту мышиную норку, куда ты спускался! – рассмеялся Сайфетдин. – Это же не шахта была, а шурф!
Спускались очень долго, и страх снова сжал сердце Хисматуллы в крепкий кулак, особенно когда капающая сверху вода потушила лампу Сайфетдина, и лишь наверху, через копер, можно было увидеть маленькую светлую точку неба. Хисматулле казалось, что наравне с мерно падающим звуком капели слышен беспорядочный стук его сердца.
– Возьми меня за руку, а то упадешь, – вдруг сказал Сайфетдин, и почти тотчас дно клетки грузно ткнулось в землю. В шахте уже стояли несколько старателей и десятник Ганс, из немцев, бледнокожий, с одутловатым, в складках лицом. Сайфетдин снова зажег свою лампу, по весил ее на подхват. Тем временем рядом опустилась еще одна клетка, скоро в мрачной шахте стало оживленно. Забойщики топтались у стволов, осматривали стенки штреков, слышно было, как за креплениями что-то отваливается и трещит, лапти вязли в темном месиве глины. Пахло сырой землей и гнилой древесиной.
– Не выдержат крепления, – сказал кто-то.
– Это пусть аллах рассуждает, выдержат или не выдержат, а нам работать надо, – отозвался стоявший рядом Кулсубай.
– Может, Накышев боится, что кто-нибудь из родственников Фишера потребует шахту обрат но, потому и креплений не меняет?
– Ну да, его родственники и не знают про эту шахту! Знаешь, как Фишер над ней трясся? Все годы, пока болел, купить у него хотели, а он не продавал, все думал – выздоровеет и на ней разбогатеет!
– А какое нам дело до Фишера, когда его уже на свете нету? Фишеру, что ли, здесь работать? – раздраженно сказал Кулсубай.
– Не каркайт, не каркайт! – заорал вдруг немец-десятник. – Наша без вас знайт! Креп тер пит, шахта терпит, и ты терпит – хозяин знайт!
Освещая путь тусклыми дымными лампами, забойщики неторопливо двигались по длинному, как узкий и низкий коридор, проходу.
А Ганс уже остановился возле темных, похожих на норы, узких и длинных забоев.
– Пустой порода туда, богатый сюда клайт, – показывал он на тележку, – клетка другой чело век работайт.
– А куда же пустую породу, под ноги? И так тесно! – сказал Кулсубай.
– Не разговаривайт! – побагровел десятник. – Наша понимайт, шагай, работайт, живо!..
Забойщики опустились на четвереньки и поползли каждый в свой забой.
Сайфетдин поманил Хисматуллу пальцем:
– Идем покажу, что делать…
Низко нагнувшись, они вошли в темную дыру забоя.
– Поперечная байка называется огниво, а что такое стойка подхвата, ты знаешь, – озабоченно говорил идущий впереди Сайфетдин, – ты об нее еще в прошлый раз башкой трахнулся. Если земля обваливается, стойка в землю уходит, – понял?
Впереди показалась большая лужа, и Сайфетдин, передав лампу Хисматулле, стал тут же рыть отводную канавку в сторону главного штрека, торопливо объясняя:
– Пока воду не отведешь, работы не будет, канавку до штрека довести надо, а там насосом откачают…
– Может, лучше ведром вычерпать? – предложил Хисматулла.
– Ты вычерпаешь, а она через час опять соберется! Так будет себе и будет вытекать потихоньку.
Свалился державшийся каким-то чудом камень, шмякнулся в лужу, обдав Хисматуллу брызгами.
После того как прорыли канавку, освободили забой от старой породы и поставили крепления. Но легче работать не стало – все труднее было дышать, рубаха и штаны скоро промокли насквозь, разбухли, потяжелели от налипшей глины лапти.
По забою метались, точно дразня работающих, их суетливые тени, точно кто-то нарочно повторял каждое их движение, каждый жест.
Хисматулла еле ворочал лопатой, так она отяжелела от налипшей глины, ломило поясницу, но стоило немного отдохнуть, как потом нельзя было выпрямиться без боли.
– Эй, вы там спайт, что ли? – послышалось со стороны штрека.
– Сам небось сюда не лезет, боится штаны замарать, – тихо засмеялся Сайфетдин.
– Эй, кому я говорайт? – продолжал надрываться Ганс и вдруг резко и пронзительно свистнул.
– Дур-рак! – взорвался Сайфетдин. – А еще десятник называется! Ошалел, что ли, в шахте свистеть?!
– А что не отвечайт? Отвечайт, тогда не свистейт! Вам лишь бы день работайт, а там хоть умирайт! А кто перед хозяином говорайт? Я! – И, размахивая лампой, десятник пошел дальше по штреку.
– А почему нельзя свистеть? – спросил Хисматулла.
– Старики говорят – обвал будет, – мрачно ответил Сайфетдин. – Правда или нет – кто знает, но лучше в шахте не кричать и не свистеть – от беды подальше!
Он присел на корточки, отдохнул немного, поставил поудобнее лампу и, сняв мокрую рубашку, положил ее на большой камень, где уже лежал старый чекмень, и остался в тонком камзоле. При свете лампы казалось, что морщины на лице Сайфетдина стали резче и глубже.
– Как тебе не холодно! – Хисматулла по ежился.
– Работа человека греет, – Сайфетдин улыбнулся и показал на рубашку– Смотри, даже пар идет! – Он прислушался к дальнему, едва заметному стуку кирки в соседних забоях и по плевал на ладони: – Долго канителились, другие уже давно начали…
Он подкопал породу снизу и сразу же стал крушить киркой сверху легко, будто держал в руках игрушку. Большие темные руки его скользили по черенку ловко и быстро; пламя лампы от взмахов киркой заплясало, причудливо освещая забой; под ноги большими комками сыпался оставшийся без опоры верхний грунт.
– Здесь не так сила нужна, как ловкость, – не останавливаясь, заметил Сайфетдин. —Видишь, как кирку надо держать? Будешь так держать – меньше устанешь… И еще запомни – никаких лишних движений! И силы сэкономишь, и больше наработаешь, понял? – Он отбросил крупные камни к штреку, подкопнул еще, очистил место для кровли, приставил кирку к стене и, тяжело дыша, сказал: – Идем твой забой посмотрим, а потом крепить начну…
Выйдя к главному штреку, Сайфетдин, подняв лампу, внимательно осмотрел старые, полусгнившие крепления из толстого бревна и желтую глину между ними.
– Твой забой здесь начнем. Видишь, где жила идет? Может, здесь как раз самородки на тебя посыплются с лошадиную голову…
Хисматулла тоже посмотрел на стенку, но не смог различить жилу, о которой говорил Сайфетдин.
– Что толку, – сказал он уклончиво, – все равно не наша шахта и не наше золото!..
Умело орудуя киркой, Сайфетдин вывернул из-под подхватов гнилые стойки, и огнева повисли в воздухе, зацепившись концами за протянутый по всему штреку главный подхват. Выровняв место для нового забоя, он показал, с чего начать, и торопливо ушел; Хисматулла остался один.
Мерно капала вода, слышно было, как работают в соседних забоях, – словно все дятлы леса разом слетелись во вновь открытую шахту Фишера, чтобы выклевывать из глины зерна золота.
Уже после первой огневы у Хисматуллы за дрожали руки и колени, потемнело в глазах. Ему казалось, что время идет бесконечно медленно, и этот день в шахте продлится целый год, а может быть, и больше, и он никогда уже не увидит теплого солнца весны. Внезапно послышался резкий скрип полозьев, и Сайфетдин вытянул из своего забоя груженные породой маленькие сани. Веревка, привязанная к саням, глубоко врезалась в его жилистые темные ладони. Хисматулла поспешил ему на помощь.
– На сегодня хватит, пожалуй, – сказал старик, останавливаясь. – Прежней силы уже нет, да и дыхание не то... Э, да у тебя дело двигаемся! Сколько повесил?
– Одну огневу, а ты?
– Я четыре, для пятой место готовлю. Ничего, – добавил он, заметив, как огорчился парень, – не горюй, тебе для начала хватит!
Свалив породу с саней, Сайфетдин снова, как крот, полез в темную дыру забоя, держа лампу в зубах. За ним, скрипя, поползли сани с корзиной.
Хисматулла вычистил свой забой и подготовил место для второй огневы, руки уже плохо слушались его. При тусклом свете лампы никак нельзя было понять, день еще или уже вечер, и Хисматулле вдруг показалось, что он остался в шахте совершенно один Он чуть не закричал от страха, но заставил себя сдержаться и почти тотчас уловил стук кайлы где-то глубоко в шахте. Губы то и дело пересыхали, и Хисматулла, взяв кружку, набрал мутной, горьковато-кислой воды из ручейка, который, не переставая, струился по главному штреку. Подождав, пока вода отстоится, он жадно осушил кружку, чувствуя, как скрипит на зубах песок. Когда дали сигнал подъема, Хисматулла еле стоял на ногах…
Дернулся стальной канат, и клетка, груженная старателями, тяжело тронулась с места и медленно потащилась вверх по длинному, темному колодцу. Хисматулле показалось, что сразу стало легче дышать, и действительно, чем выше, тем чище становился воздух, исчез запах копоти и гнили, стало теплее. И чем ближе становилось маленькое оконце неба, сверкавшее наверху драгоценнее всех камней и самородков на свете, тем радостнее сияли глаза парня.
– Что, доволен? —усмехнулся Сайфетдин.
Хисматулла глубоко вздохнул и кивнул головой.
8
Поговорив с Хисматуллой, Гульямал так обрадовалась, что всю неделю ходила, как во сне. Улыбка не сходила с ее лица, даже если она хотела выглядеть серьезной.
– Чего лыбится? – с недоумением разводил руками ровняльщик. – Словно ей черт знает какое счастье привалило! Эй ты, над кем смеешься? Ты, может, надо мной смеешься?
– Может, и над тобой! – весело отвечала Гульямал и все думала о том, как Хисматулла придет к ней в гости.
«Придет же он мать навестить, не бросит ее! – рассуждала она. – Не сегодня так завтра, а если не завтра – то послезавтра… Даже если через неделю придет, какая разница? А если к матери придет, то меня-то не минует!..»
Вернувшись с прииска в субботу, она принялась чистить и прибирать дом, хотя и была очень усталая. До белизны отскоблила большим ножом некрашеный потолок, пол и нары, вымыла их с песком, побелила чувал, очаг и шесток, выстирала все грязное белье в щелочной воде и застелила нары самотканым красным паласом, на котором разбросала как бы небрежно подушки. Постель она аккуратно сложила на стоящий у стены сундук. Когда же Гульямал украсила косяки окон полотенцами, расшитыми цветным сукном, завесила передний угол комнаты цветастым занавесом и на нем, как бы напоказ, вывесила лучшие свои наряды, комната так свежо заблестела и заиграла чистотой и радостными красками, что можно было встречать любой праздник.
Окончив уборку, Гульямал принесла из подловки [15]Подловка
Чердак, куда выходит труба чувала
[Закрыть] сушеного мяса и повесила его на деревянном гвозде у шестка, и уже через минуту весело и споро застучал в деревянной ступе пестик – молодая женщина готовила толкан из конопляных зерен. Выложив толкан в большую чашку, она сбегала к соседям, одолжила у них кусок сахару, немного топленого масла и разложила все это на подносе. Только закончив все это, она присела отдохнуть на нары, да и то ненадолго: достала из-за чувала маленький, с ладонь, осколок старого зеркала, оглядела, себя, быстро скинула будничное платье и надела новое, с разбросанными по белому полю букетиками ярко-синих васильков, а поверх платья – нагрудник, обшитый серебряным позументом, и белый казакин с ярко-зеленой каймой по бортам. Перед тем же маленьким и почерневшим осколком зеркала она расчесала волосы надвое и перевила их длинной монистой и толстыми цветными нитками. Проделав все это, она спрятала обратно за чувал зеркало и села на нары.
Ей казалось, вот-вот Хисматулла подойдет к дому, и уже через минуту она услышит его шаги во дворе, откроется дверь и… Гульямал придирчиво осмотрела комнату – нет, ничем ее не попрекнешь, все чисто и свежо.
«Что же ему сказать? – думала Гульямал. – Здравствуй, Хисмат. Или нет, здравствуй, деверь, что так долго не заходил? Или лучше сказать просто – привет? Ничего, слова сами найдутся, лишь бы шел быстрее…»
И когда в сенях послышались чьи-то шаги, Гульямал даже вскочила от волнения, и голова ее закружилась, но тут же, чтобы парень не увидел, как она ждала его, она схватилась за метелку и стала быстро-быстро водить ею по чистому полу. Руки не слушались ее, и метелка выпала из ослабевших пальцев. Она подняла голову и увидела в дверях соседку Мархабу. В одной руке Мархаба держала щипцы, а другой прижимала к груди ребенка.
– Аллах! – воскликнула она. – Что это ты принарядилась, девочка? Гостей, что ли, ждешь?
– Да нет, просто так, – Гульямал потупилась. – Для себя… Все равно жизнь зря проходит, так пусть хоть чистой будет! Зачем же в пыли да грязи жить – ведь завтра праздник…
– Что ты, ты еще совсем молодая, – удивилась соседка. – Да и красивая! Только вот жаль, что достоинство свое теряешь, среди русских болтаешься… Вышла бы лучше замуж, у тебя ведь руки золотые, что бы ни делала – все спорится!
– Что ж такого в том, что я на прииске работаю? – с обидой возразила Гульямал.
– Да разве это бабье дело? Ни один умный мужчина туда работать не пойдет! Я буду лучше без мужа сидеть, голодная, босая и оборванная, а туда и шагу не ступлю! Не позорь себя, Гульямал… Столько настоящих джигитов к тебе сватов посылают, когда ты по улице идешь – ни одного мужчины нету, чтобы на тебя не оглянулся! Не руби свою молодость, девочка! Да если б мне твою красоту, да богатство, да хозяйство, я бы уж давно самого лучшего парня завлекла, хоть бы и женатого! Вон сын Фаткуллы Исламгали уже два года меня упрашивает: Сосватай мне Гульямал, сосватай мне Гульямал!
– Да на кой мне твой Исламгали? Сам с вершок, а борода с аршин, разве это мужчина? Я лучше за Хакима пойду, у него одна борода чего стоит!
Не понимая шутки, Мархаба ахнула:
– Милостивый аллах, ну не с ума ли ты сошла? Да что ты нашла хорошего в этом ворчуне?
– Э-э, откуда тебе знать? Может, он самый хороший мужчина в Сакмаеве!
Глаза Мархабы вытаращились так, что казалось, еще чуть-чуть, и они вылетят из орбит.
– Да я не вру, – с серьезным видом продолжала Гульямал. – Все про него говорят: Хаким старик, а какой же он старик? Это девушки только в семнадцать лет самый сок набирают, а мужчина в силу входит годам к пятидесяти! Знаешь, как говорят? Старый муж с серебром да лаской, а у молодого в руке плеть да нагайка.
– Не бес ли в тебя вселился? Или ты без мужа с ума сходишь? Нет, девочка, покажись-ка ты мулле…
Мархаба опустила сына на пол, и, освободившись от рук матери, ребенок побежал к очагу, шлепая босыми ножками. У очага спокойно дремал большой рыжий кот. Мальчик потянулся к нему ручонками, но Гульямал схватила его в охапку, подняла его и стала целовать в торчащий круглой пуговкой носик:
– Ам-ам! Съем тебя! Съем!..
Ребенок весело засмеялся.
– Не надо, сглазишь, – с испугом сказала Мархаба. – И в прошлый раз ты его сглазила, всю ночь плакал! Иди ко мне, сынок, иди, – Мархаба протянула руки, но ребенок отвернулся от нее и крепко обнял Гульямал за шею.
– Смотри-ка, не идет к тебе, – весело рас смеялась Гульямал. – Знает, у кого лучше.
Она дала мальчику кусок хлеба и стала покачивать его на колене.
– Где же твои штанишки, джигит, а? Над тобой же воробьи смеяться будут. Скажи маме, пусть сошьет тебе!
– Что ты, куда ему, даже у старших братьев его штанов нету! Идем, сынок, домой, идем… Скоро из лесу отец вернется, чаю поставим, скажи тетеньке спасибо за хлеб. – Нагнувшись, Мархаба вытерла нос сыну подолом платья, но сделала это так неуклюже, что мальчику стало больно, и он даже зажмурил глаза, но не пикнул. – А я к тебе по делу, девочка, одолжи муки на лапшу, если есть! Как только муж съездит на базар – верну…
Мархаба завернула деревянную чашку с мукой в платок, прихватила щипцами горячий уголь из очага и собралась уходить.
– Давай-ка я провожу тебя, хоть малыша донесу! – накинула платок Гульямал.
Проводив Мархабу, она зашла в землянку старухи Сайдеямал и, посидев там несколько минут и убедившись, что Хисматулла не приходил отправилась домой.
На улице было темно, даже луна не показалась из-за туч, и только стеклянно стучали, сталкиваясь в вышине, голые ветки деревьев, и где-то на краю поселка протяжно выла чья-то собака.
Дома Гульямал, не раздеваясь, бросилась на нары и заплакала навзрыд, обнимая подушку. «Значит, он был здесь еще на прошлой неделе, – захлебываясь, шептала она. – И даже не подумал ко мне зайти!.. Видно, не судьба! Не может он забыть эту сумасшедшую, не может! И что в ней хорошего? И раньше-то ничего не было, а теперь и подавно!»
Она медленно разделась и легла, все еще всхлипывая, но чувство обиды не проходило, и сон не шел.
«Что же это я, как глупая– девчонка, разревелась оттого, что он не пришел тогда? – подумала Гульямал. —Может, в самом деле занят был… Сайдеямал сказала, что времени у него не было! Может, завтра придет? – Гульямал закрыла глаза, но тут же, как наяву, увидела перед собой рассерженное лицо Хисматуллы, с которым он подошел к ней на прииске. – Да чем же хуже Нафисы? Ни на одного из тех, кто ко мне после смерти мужа подбирался, я и взгляда не бросила, никто обо мне плохо сказать не может! Никогда не была я, как она, посмешищем на глазах у всего народа, муж меня из дома не выгонял! И что у меня еще есть на свете, кроме этой любви? Видит аллах, ничего! – Гульямал прерывисто вздохнула и перевернулась на другой бок. – Может, поймет он все-таки…»
Скрипнула калитка, и чьи-то неуверенные шаги послышались во дворе, затихли под окном. Гульямал показалось, что сердце ее остановилось. В дверь тихо постучали.
– Кто там? – спросила Гульямал.
Ей никто не ответил. «Это он», – радостно улыбнулась Гульямал и откинула щеколду. Тотчас сильные жадные руки подняли ее с пола и бросили на постель.
– Хисмат! Сумасшедший!.. – весело рас смеялась Гульямал. – Да у тебя руки прямо железные!
Тотчас что-то тяжелое навалилось на нее, и к щеке прижалась жесткая колючая борода, в нос ударил запах винного перегара.
– Кто это, ты кто? – не своим голосом крикнула Гульямал, пытаясь вырваться из непрошеных объятий.
– Тише, невестушка, тише, – зашептала борода. – Что шумишь?
– Гилман-мулла? – вскрикнула молодая женщина и схватила муллу за бороду, все сильнее задирая ее кверху.
Мулла молча сопел, стараясь стащить с Гульямал одежду.
– Отпусти! Отпусти! – снова истошно закричала Гульямал. – Помоги-ите! Тебе говорят, от пусти!
Наконец, увидев, что у нее нет другого выхода, Гульямал изо всей силы вцепилась зубами в ухо муллы так, что сразу почувствовала солоноватый привкус крови.
– Ай-яй! – подскочив, завопил мулла, хватаясь за окровавленную мочку. – Глупая баба, отродье шайтана!
Гульямал схватила толстую железную кочергу:
– А ну, катись отсюда! Чтоб духу не было!
– Да я не буду, не буду, – взмолился мулла, держась за ухо. – Сейчас уйду! Только прошу тебя, невестушка, молчи, не говори никому! Я ведь с пьяных глаз… Нарочно хотел, чтобы испытать тебя!..
– Знаю я, что ты хотел! – не опуская кочерги, спокойно сказала Гульямал. – Ну, долго я тебя ждать буду? Одна нога здесь, другая – там!..
Вернувшись под утро домой, мулла Гилман увидел, что его рябое, как пчелиные соты, лицо вдоль и поперек исполосовано царапинами. «Никакого уважения к моему сану! – с яростью подумал он. – Другая женщина на месте этой потаскушки сама бы за мной бегала, не то что царапаться!»
Он обмазал лицо топленым маслом, чтобы царапины быстрее зажили, вымыл теплой водой больное ухо и велел подать себе чаю.
Прихлебывая с блюдечка янтарно-желтую, крепкую жидкость, он ловил на себе любопытные взгляды прислуживающей ему девушки и все больше мрачнел.
– Чего уставилась? – крикнул он наконец, – Брысь отсюда, отродье шайтана!
Девушка быстро юркнула за дверь, и. мулла остался один.
«Черт, теперь по всему поселку разнесется, – с досадой думал он. —А какая все-таки у нее грудь, ай-яй-яй! Что бы такое сделать, чтобы она знала свое место?»
Но прошло несколько дней, а о происшедшем в деревне не было ни слуху ни духу. «Вот это баба! Мало того, что каждая грудь, как спелая дыня, она еще и молчать умеет! – восхитился Гилман. – Да, значит, недаром говорят, что если настоящий мужчина сохранит тайну величиной с оседланного коня, то настоящая женщина может сохранить тайну не меньше люльки с ребенком! И все-таки надо ей как-нибудь отомстить, хоть припугнуть на всякий случай!»
Все эти дни он не говорил о Гульямал, как обычно, ничего плохого, не называл ее дочерью шайтана и старался не попадаться ей на глаза, обходил ее дом стороной, – все боялся, но, увидев, что Гульямал молчит, решил, что просто так этого дела оставить нельзя.
«Вот что – надо у нее обыск устроить, – надумал он наконец. – Все равно они сейчас по всему поселку идут», – и тут же пошел к уряднику.
– У Гульямал хранятся бумаги этого Хисматуллы, что с неверными связался, как же вы ни чего не знаете об этом?
Пока полицейские шарили за чувалом, разбрасывая вещи из сундуков и лазили в подловку, Гульямал молча стояла у стены, насмешливо глядя на муллу, устроившегося на нарах, и под этим взглядом мулла ежился и все никак не мог усесться поудобнее, но Гульямал только улыбалась и так ничего и не сказала.
– Наверняка знает, где его бумаги, – сказал Мухаррам, когда они вышли из дома Гульямал, так и не найдя ничего похожего на листовки. – Видел, как она улыбалась? Когда человек ничего не знает, он так не улыбается, да еще вовремя обыска!
– Да, да, должно быть, знает, – с радостью подтвердил Гилман. – Вообще опасная женщина, кафыр в юбке, веру свою продала, на прииске работает… Надо бы что-нибудь сделать, чтобы ей юбку прищемить!








