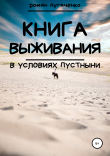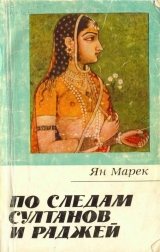
Текст книги "По следам султанов и раджей"
Автор книги: Ян Марек
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Мы спали как убитые, хотя деревянная кровать с переплетенными лямками вместо матраса – далеко не самая удобная постель для европейца, а наволочки выглядели так, как будто по крайней мере месяц не были в прачечной. Главное, что над нами сжалился хозяин и одолжил шерстяные покрывала. Иначе холод вряд ли дал бы нам заснуть.
Наш хозяин разбудил нас задолго до рассвета. Он стоял со старым подносом в руках и говорил:
– Бед–ти хазир хей (Чай в постель готов).
Наверное, мы не очень ясно ему растолковали, что не собираемся придерживаться старых колониальных обычаев, вроде утреннего чая за два часа до завтрака, и вообще я не понимаю, почему англичане так любят «бед–ти».
Хозяин оставил нас в покое и дал поспать еще часа два. Затем он появился и сказал, что мы можем идти купаться. В ванной, в которой, конечно, никакой ванны не было и мы по–индийски экономно поливали друг друга водой из кувшина, вода была настолько ледяной, что у нас зуб на зуб не попадал. Когда мы уже почти вымылись, распахнулась дверь, ведущая во двор, – во всех индийских ванных комнатах, как мне кажется, по крайней мере три двери и все они не закрываются, – вошел слуга с двумя блестящими медными ведрами с горячей водой. Лучше поздно, чем никогда, – после ледяного душа горячая вода хоть немного разгонит кровь.
Осилив обильный английский завтрак и запив его большим количеством крепкого чая, мы отправились искать дорогу в Кхаджурахо. Она идет через Бунделькханд на Восток до Ревы, которая расположена на главной магистрали Нагпур – Илахабад. Однако указатели как будто в воду канули. Нам ничего не оставалось, как спросить дорогу к ближайшему городу, известному местным людям. Случайно этим городом оказался оставленный жителями город Орчха, куда мы, собственно, и хотели ехать для осмотра четвертого дворца. До него недалеко, всего около десяти километров. Через четверть часа мы будем уже там.
Орчха оставалась главной резиденцией бундельских раджпутов до тех пор, пока в XVIII столетии туда не пришли маратхи и не перенесли город со всеми его жителями в Джханси. Надо отметить, что правитель Орчхи раджа Бир Сингх Део сумел выбрать великолепное место для резиденции. На гребне низкого скалистого выступа, обтекаемого с трех сторон рекою Бетва, он приказал построить княжеский дворец и опоясал его рядами стен. Река, шумящая прямо под ними, придавала крепости живописный вид, а заодно служила ей естественной защитой.
Бир Сингх Део навлек на себя гнев Акбара, когда по настоянию сына Великого Могола, Селима, будущего императора Джахангира, организовал убийство любимого министра Акбара Абу–ль Фазла, одного из лучших историков–хроникеров Индии. Когда же могольский трон занял Джахангир, новый император отблагодарил раджу за службу и сделал его первым приближенным своего двора.
Оставив машину на небольшой площади перед храмом, мы вышли на террасу, заросшую колючим кустарником.
Нет необходимости долго сравнивать, чтобы понять, что между дворцами в Орчхе и Датии много общего. Оба дворца – свидетельство того, что их архитектор широко использовали мусульманский архитектурный стиль того времени. Особенно это касается художественного оформления зданий. И все же эти индуистские дворцы во многом отличаются от мусульманских. Они не складываются из многочисленных независимых друг от друга хрупких летних дворцов на территории великолепных садов, имеющих геометрические формы, а ограничиваются одним зданием в несколько этажей. Могольский дворец с множеством павильонов, связанных между собой бесконечными аркадами, выглядит скорее как дворцовый городок. Индуистский же дворец включает в себя несколько помещений под одной крышей – от трех до пяти залов, связанных между собой узкими балконами с закрытым парапетом. План индуистского дворца настолько сложен, что на первый взгляд кажется лабиринтом.
Действительно, заблудиться в нем нетрудно. Мы решили спуститься с верхних этажей вниз, но вскоре обнаружили: ходим по какому–то замкнутому кругу, и стали прокладывать путь, высовываясь из окон и ориентируясь по реке. Только так нам удалось разобраться в сложных переплетениях комнат и выйти к лестнице.
Наконец, мы сбежали вниз по полуразрушенным ступеням. Выйдя наружу, остановились еще раз на мосту, соединяющем крепость с городком, и мысленно сравнили этот дворец с могольскими резиденциями. Абрисы дворца разрывались большим количеством открытых павильончиков, беседок, башенок и висячих галерей. Окна с вырезанными из камня ажурными сетками дробили поверхность могучих внешних стен дворца.
Просто диву даешься, что все эти дворцы еще стоят. Создавались они во времена большой политической неустойчивости по приказу малоизвестных раджей, находившихся у власти непродолжительное время. В течение многих лет дворцы оставались осиротевшими, в них никто не жил и у них никогда не было официальной охраны. И несмотря на все, они простояли в неблагоприятных климатических условиях тропиков более трехсот лет. По своему великолепию и художественным украшениям они стоят в одном ряду с известными имперскими зданиями той же эпохи, а кое в чем даже их превосходят.
Вдали за мостом над Бетвой виднелись очертания железнодорожного моста. Чтобы попасть в тот же день в Кхаджурахо и вернуться назад, мы должны были воспользоваться именно этим мостом. Обычно здесь переправляются через реку на большом пароме, в тот момент воды в реке было мало, а желающих переехать много. Такую переправу пришлось бы ждать целую вечность. К тому же дорога к реке идет по крутому скату, и путешествие могло бы плачевно закончиться как для нас, так и для машины.
На полкилометра растянулась длинная очередь упряжек и грузовых машин. Через каждые четверть часа очередь приходила в движение и продвигалась на небольшое расстояние – все ближе к глинистому под углом в тридцать градусов обрыву. Если неопытный водитель хоть на секунду задержался бы перед сходнями на паром, то в багажник его машины наверняка врезалось бы дышло буйволиной упряжки, которая неудержимо, как дикий слон, несется вниз с обрывистого берега. В густых облаках пыли слышатся тревожные голоса. Это парни стараются всячески удержать испуганных буйволов на крепкой веревке. Для этого они изо всех сил зарываются пятками в мягкий грунт обрыва, пытаясь предотвратить падение повозки в воду.
Нам не хотелось ждать здесь несколько часов, поэтому мы поехали к начальнику станции в Орчхе, чтобы получить разрешение проехать по железнодорожному мосту. Само собой разумеется, дело это оказалось далеко не простым.
Начальник, он же дежурный по станции, просматривал в темной канцелярии утренние газеты. Нашу просьбу, очевидно, он принял за бесполезную трату времени.
– Вы подали просьбу о проезде по мосту в письменной форме сорок восемь часов назад? – задал он казенный вопрос. – Нет? Тогда, к сожалению, ничем помочь не могу. Я должен придерживаться инструкции.
Нам удалось убедить его позвонить своему начальству в Джханси. Мы надеялись, что для машины с дипломатическим номером будет сделано исключение. Пока он пытался заказать разговор, мы прогуливались по платформе. Мимо станции с грохотом пронесся товарный поезд. Локомотив остановился далеко за станцией рядом с бамбуковыми хижинами. В тот же момент из одной из них показалась фигура женщины, она прилаживала медные кувшины на голове, затем появились другие женщины. Через минуту они, выстроившись в цепочку, двинулись по насыпи к локомотиву. Нигде в поле зрения не было видно никакого колодца или водокачки, откуда женщины могли бы набрать воду. Нас очень заинтересовало, что произойдет дальше. Женщины двигались гуськом. Они вплотную подошли к блестящему локомотиву и, приложив руки к груди, поздоровались с машинистом. Тот, осторожно осмотревшись, опустил шланг и открыл выпускной кран котла. Скоро все кувшины, миски и кастрюли были заполнены кипящей водой. Хозяйки дали воде немного остынуть и исчезли так же легко и быстро, как и появились.
Когда мы снова заглянули в канцелярию, начальник встретил нас более любезно и даже пригласил сесть. Тут же он заполнил официальный бланк. Я предложил ему свою помощь и продиктовал на хинди: «Частной автомашине под номером DLD–2526, управляемой владельцем таким–то, 26 декабря разрешается проезд по железнодорожному мосту у станции Орчха. Проезд туда: вслед за поездом № 437 от 10 до 11 часов; обратно: до приезда поезда № 442 от 18 до 19 часов. Получена плата в размере 24 рупий 70 пайс, наличными». Штамп и подпись.
Стоимость нашей поездки, таким образом, немного повышалась, этих денег, наверное, хватило бы на бензин до Кхаджурахо и назад, однако кто знает, сколько бы стоил ремонт кузова, пробитого рогами буйвола. Начальник даже вышел с нами на платформу и объяснил, как попасть на мост. Поезд № 437 тем временем уже прошел, и путь через мост был свободен.
На мосту из сторожевой будки навстречу нам вышел часовой, взял в руки наши документы, долго и внимательно изучал их, сравнивал номер машины. Лишь убедившись, что все в порядке, он поднял шлагбаум. Мы осторожно въехали на деревянные брусья, положенные рядом с рельсами. Часовой закрыл за нами шлагбаум, взял из–под навеса велосипед и по отведенной для пешеходов дорожке поехал на другую сторону. Машина с грохотом двигалась за ним по гнилым доскам, мы поглядывали вниз и на берег, где возницы, притормаживая упряжку, сердито крутили молодым волам хвосты.
На другом берегу реки все повторилось сначала: часовой спрыгнул с велосипеда, поднял шлагбаум, и мы проехали. Он опустил шлагбаум и, нажимая на педали, направился назад. Если за день здесь обычно проходит двадцать составов и часовой каждый раз должен поднимать и опускать шлагбаум, то работы у этого бедняги по горло.
Кажется, теперь на нашем пути до Кхаджурахо преград уже больше не будет. Правда, на пути от Ранипура до Навгаона мы должны еще переехать реку Дхасан. Вроде бы через нее есть брод. Через час езды мы увидели широко раскинувшееся, каменистое русло реки. У въезда в реку асфальтированная лента дороги переходит в узкую невысокую дамбу, скрепляющую дно брода. Зимой ширина реки сужается до нескольких десятков метров, но зато в самом узком ее месте течение очень сильное, и вода мчится с угрожающим рокотом. Мы направили машину против течения и въехали в спененный порог.
В середине брода мы миновали примитивный водомер, красно–белый шест. Вода едва доходила до половины белой шкалы, что означает возможность проезда и легковых машин. Когда из воды виднеется лишь красная часть, то здесь могут проезжать только грузовики, ну а если под водой скроется весь шест, то и грузовым машинам ничего не остается, как развернуться и пуститься в трехсоткилометровый объезд через канпурский мост.
Наконец, в полдень нас приветствовали конусообразные башни храмов Кхаджурахо. Возле все еще царил ничем не нарушаемый покой заброшенной деревеньки. Кхаджурахо расположен вдали от современных транспортных артерий. (Через несколько лет после нашего путешествия индийское правительство построило аэродром в близлежащем городке Панна.)
В Чехословакии о Кхаджурахо написано уже немало. В настоящее время участникам туристических поездок в Индию экскурсоводы неизменно показывают этот наиболее сохранившийся и хорошо поддерживаемый ансамбль средневековых индуистских храмов Северной Индии. Храмы Кхаджурахо известны не столько благодаря особенностям архитектурного стиля, сколько благодаря отважной эротике многих своих рельефов, которые в натуралистической манере и наглядной форме изображают любовные сцены до мельчайших подробностей.
Любовная сцена – митхуна, как сюжет, присутствует в индийском скульптурном искусстве с древнейших времен. Согласно основам древнеиндийской «Шилпашастры», науке о строительном искусстве, любовные сцены должны, по меньшей мере, быть частью храмового оформления, потому что любовь всегда считалась одним из четырех смыслов человеческой жизни (пуру–шартха). Она стояла в одном ряду с соблюдением святых предписаний (дхарма), удовлетворением материальных потребностей (артха) и достижением спасения (мокша). В одной из глав «Шилпашастры» дословно говорится: «На храмах пусть будут изображены главным образом сцены из любовных игр Шивы и Кришны и любовной борьбы кающихся». Действительно, на многих местных храмах имеются рельефы, на которых любовные пары изображены в крепких объятиях друг друга, притом мужчина весьма похож на кающегося грешника – он наголо пострижен и в одной руке держит четки.
По желтым парковым дорожкам мы обошли вокруг главного храма Кхаджурахо, восхищаясь гармоничными кривыми линиями его ребристых, взметнувшихся ввысь куполов. На фризах чередуются рельефы, изображающие интимнейшие слияния человеческих тел в самых разных позах. Задумавшись, я поднял глаза и обвел взглядом храмовые стены. На них не было ни одного рельефа, на котором не изображались бы в объятиях друг друга любовные пары или даже четверки.
Кхаджурахо был столичным городом индуистского княжества Чанделлов. Если бы раджа Киртиварман в конце XI века не перенес свою резиденцию в новую столицу Махоба, то сегодня нечего было бы и осматривать, так как мусульманские наездники наверняка сровняли бы с землей идолопоклоннические храмы своих врагов, как это произошло во многих других княжеских городах Северной Индии.
Храмы разрушали часто, и в то время это имело не только религиозное, но и политическое значение: неприятель лишался духовной опоры. Мусульмане старались как можно эффективнее надругаться над идолами иноверцев: камни с барельефами выламывали из храмовых стен и клали перед входом в построенные мечети, так чтобы по ним прошло как можно больше правоверных. Благодаря тому что во время мусульманских вторжений значение Кхаджурахо упало до уровня простого провинциального городка, его храмы избежали позорной участи. Мусульмане, правда, ограбили храмы, но до скульптурных изображений даже не дотронулись.
Некогда сильное индусское княжество Пратихаров в X веке распалось на свободный союз прежних провинций, и в качестве регентов беспомощных правителей на трон Канауджа вступили чанделльские властители. Князь Чанделла Дханга (954—1002) перенес правительственную резиденцию и вместе с ней царскую казну из Канауджа в Кхаджурахо и стал, таким образом, основателем сравнительно сильного государства в Центральной Индии. Правда, через несколько лет это государство исчезло так же неожиданно, как и возникло. В 1002 г. князь Дханга был побежден султаном Сабуктегином, а его преемник Ганда потерял, наверное, счет своим проигранным битвам. Следующего правителя Видьядхара (1019—1045) мусульмане просто «освободили» от всех его драгоценностей и слонов и сделали своим вассалом.
В дело поражений Чанделлов внесли немалый вклад подчиненные им министры Калачури из Чеди, стремившиеся захватить княжескую власть.
Министрам Калачури удалось добиться от правителей династии Чанделлов введения в практику нового эротического культа. Дханга, а затем и Ганда вскоре поверили в то, что с помощью таинственных эротических сил они могут превратиться в живых богов. Они стали пренебрегать своими княжескими обязанностями и отдавали все свои силы лишь диким сексуальным ритуалам. Огромные средства шли на строительство великолепных храмов и украшение их стен эротическими скульптурами.
Есть основания предполагать, что скульптуры главных храмов изображают самих божественных правителей. Там, где в других индуистских храмах мог бы стоять рельеф с изображением в той или иной форме бога Шивы, находим не бога, а голого смертного в отважных сексуальных позах с одной, а чаще с несколькими красавицами, выделяющимися своими роскошными формами. На стенах храма Кандария можно увидеть три такие скульптуры, расположенные друг над другом. На первой снизу красоток осчастливливает старец, в середине – мужчина в расцвете лет, а наверху это делает юноша. Можно предположить, что здесь представлены портреты трех правителей династии Чанделлов: Дханги, его преемника Ганды и коронованного принца Видьядхары. На стенах соседнего храма Вишванатха, сооруженного позднее, скульпторы заменили изображение старого правителя Дханги, который к тому времени умер и стал по тогдашним представлениям богом, истинным индуистским богом Шивой.
Эротические сцены имеются и на стенах других индийских храмов, однако нигде они не занимают центральное почетное место, которое выделено для изображения богов, а не для человеческих существ, пусть даже обожествленных с помощью таинственных эротических сил.
Многие ученые не согласны с точкой зрения о господстве разлагающего эротического культа. Они указывают на то, что храмы Кхаджурахо принадлежали разным индуистским сектам, и скульптурные группы символизируют соединение человеческой души с бесконечным божественным началом. В подтверждение данной теории они справедливо отмечают, что эротические скульптуры есть и в других индуистских храмах.
Индийский Шираз– Джаунпур? – с удивлением переспросил представитель правительственного туристического агентства в Нью–Дели. – У меня нет о нем никакой информации, туда никто из туристов не ездит. Что вас там интересует?
– Памятники того времени, когда Дели не значил ничего, а Джаунпур – все. Именно там самые высокие индийские мечети без минаретов, самый древний и до настоящего времени используемый мост императора Акбара и еще много разных достопримечательностей.
На эти слова я получил следующий совет: долететь до Варанаси самолетом, остановиться в роскошной гостинице «Clark's» и оттуда на такси совершить экскурсию в Джаунпур. Совет, несомненно, мудрый, но я решил на некоторое время отложить посещение Джаунпура. Позднее, приехав в Варанаси для работы в Бенаресском индусском университете, я вспомнил, что господин Прасад, председатель пражского Союза индийских студентов, кроме адвоката Шривастава из Фаизабада рекомендовал мне обратиться за помощью также и к другому знакомому своей семьи, господину Раму Нараяну, ювелиру из Джаунпура. Я написал Нараяну, и он ответил мне сердечным приглашением. Так что теперь уже ничто не стояло на моем пути в Джаунпур.
Перед поездкой я выяснил, что из Варанаси до Джаунпура каждые двадцать минут отправляется такси, правда при условии, что наберется необходимое количество пассажиров, а это значит, что в машину набьется раза в два больше пассажиров, чем разрешено официально. Ни один водитель не отъедет от стоянки до тех пор, пока в его четырехместный небольшой «фиат» старой марки не втиснется по крайней мере семь пассажиров – четыре на заднее сиденье и трое на переднее, рядом с водителем. Когда на стоянке появляется европеец, все таксисты – сама услужливость. Они рассчитывают на то, что сахиб не захочет ехать в тесноте и заплатит полную стоимость проезда – двадцать пять рупий. Вроде бы это не так уж и много, но почему я должен ездить не так, как все? Когда водитель узнал, что я не собираюсь платить больше трех рупий, то есть столько же, сколько обычный пассажир, лицо его вытянулось. Он окинул меня презрительным взглядом и, казалось, готов был плюнуть от переполнявшего его негодования.
К счастью, достаточное количество пассажиров набралось быстро: до Джаунпура поезда ходят редко, а плата за такси при полной загрузке получается сравнительно невысокой. К тому же времени на поездку в такси уходит почти в два раза меньше, чем на автобусе или на поезде. Наконец на заднее сиденье втиснулся последний пассажир. Водитель докурил сигарету и, примостившись на краешке сиденья, изо всех сил хлопнул дверью. За счет такого маневра теперь он мог дотянуться до рычагов управления. Я пристроился с другой стороны и поэтому сумел опустить стекло и высунуть наружу руку и плечо. Другой рукой я обнимал соседа. Водитель высунулся из окна машины почти наполовину, и мы отправились в путь.
Местность за Варанаси похожа на плодородную равнину где–нибудь в Чехословакии. Весенний ветерок гонял игривые волны по зеленой поверхности всходов и проказничал во взъерошенных кронах деревьев и акаций на краю поля. Светлую зелень больших полей сахарного тростника время от времени сменяли более темные прямоугольники фруктовых садов, расположенных вблизи деревенек.
У одного из таких садов водитель такси притормозил и объявил пассажирам:
– Трое из вас теперь должны выйти. Когда я проезжал утром, здесь был контроль. Пришлось бы заплатить штраф, и даже после этого нас всех дальше бы не пустили. Пройдите задами, а я подожду вас за деревней.
Так как я сидел с краю, то вышел первым и перескочил через ров в поле. Вслед за мной на межу выпрыгнули еще два молодых человека. Один из них представился инженером по сельскому хозяйству. Мы шли задами к глубокому деревенскому колодцу. Вокруг него ходили по кругу четыре пары буйволов. Они вращали специальный привод, который качал воду в оросительные канавы.
Вроде бы ничего особенного здесь нет – в любой самой заброшенной деревеньке можно увидеть подобную картину. Однако я заметил, что от колодца к изоляторам на деревянных столбах тянулись электропровода, которые потом разбегались по деревенским избам. Неужели буйволы не только качают воду, но и одновременно приводят в движение генератор? Так оно и оказалось. Когда мы подошли ближе, то увидели, что на валу привода крутилось огромное зубчатое колесо, которое, в свою очередь, переводило крутящий момент на привод генератора.
– Это здешняя мини–электростанция на буйволиной тяге, – вступает в разговор со мной инженер. – Конечно, она не будет стоять здесь вечно, но в настоящее время она выгодна. Энергию с гидроэлектростанции еще несколько лет мы будем вынуждены ждать, пока в генератор мы запрягли буйволов. Получение электричества здесь не основная задача. Главное – выкачать воду. Традиционное оросительное колесо поднимает на поверхность примерно 250 литров воды в минуту, а наш насос выкачивает из колодца в шесть раз больше. В оросительные каналы тут течет примерно 1500 литров в минуту, а это уже немало. Такое количество воды не требуется для орошения, а так как насос может поднимать воду до высоты 100 метров, мы построим около него закрытую водонапорную башню, и питьевая вода побежит по разведенным трубам в деревенские дома. Водопроводные краны сэкономят женщинам время, которое сейчас они тратят на то, чтобы ходить к колодцу и выстаивать очередь. В резервуар входит 120 тысяч литров, что приблизительно в два раза больше, чем вся деревня расходует за день. Буйволы черпают такое количество воды меньше чем за полчаса. Для того чтобы мы могли наиболее полно использовать их энергию, строим вон там на холме еще одну кирпичную водонапорную башню, вода из которой пойдет на орошение полей. Это стоящее дело, так как резервуар вместит почти три миллиона литров воды. Его можно заполнять по ночам так, чтобы днем вода под напором подавалась в оросительные каналы и без помощи насоса.
Я плохо разбираюсь в проблемах орошения, но все–таки спросил, каким образом буйволы приводят в движение динамо. Ведь никто, собственно, не может заставить ходить буйволиную упряжку по кругу с одинаковой скоростью. Поэтому напряжение будет неустойчивым. Кроме того, размеры генератора почти карманные; я никак не мог понять, как его энергии хватает для освещения всей деревни.
– С буйволами нам пришлось здорово помучиться, – согласился инженер. – В конце концов, мы были вынуждены поставить специальное устройство, которое выравнивает количество оборотов. Я понимаю, генератор вам кажется маленьким, однако больший буйволы не смогли бы привести в движение. Усилия быков переводятся зубчатым колесом через систему цепной передачи на привод генератора приблизительно так, как это делается при езде на велосипеде. Наша система – как бы велосипед с коробкой передач, только включаются все передачи одновременно. Первая ступень переводит два буйволиных оборота за минуту в двадцать, другая повышает скорость с двадцати до ста пятидесяти, что уже достаточно для приведения в движение насоса. Третья трансформирует скорость ста пятидесяти оборотов в минуту в тысячу триста двадцать, что означает уже производство электроэнергии. Пока, однако, можно приводить в движение лишь что–нибудь одно: либо насос, либо генератор, иначе буйволы не смогли бы тянуть два привода одновременно.
Мне кажется, что с такой тягой невозможно произвести большого количества энергии. Окупается ли вообще сама установка генератора?
– Конечно, окупается, – утверждал мой собеседник. – Видели бы вы, что сделало электричество за сравнительно короткое время с деревенскими жителями! Дети сразу же стали лучше учиться, потому что могут готовить уроки и после того, как стемнеет, взрослые получили возможность слушать радио. Электричество помогает нам разбивать кастовые перегородки, так как оно пришло ко всем одновременно. Оно так дешево, что доступно каждому. Кроме того, электричество используется не только для освещения. Днем, когда буйволы работают, динамо производит примерно четыре с половиной киловатта. Такой мощности хватает для электроснабжения столярной мастерской и кузницы. Ночью, когда буйволы спят, электроэнергия поступает от сухих аккумуляторов. Можем себе позволить освещать каждый дом одной лампочкой в 25 ватт и пятнадцатью лампочками в 100 ватт улицу. А это в наших условиях уже что–то значит.
Восхищаюсь людьми, которые не стали ждать, когда о них позаботится правительство, а смогли использовать местные ресурсы для удовлетворения самых насущных требований индийской деревни. Тем временем водитель такси, прошедший дорожный контроль и ожидающий нас за деревней, уже нетерпеливо сигналил. Я кинулся к машине, но инженер продолжал идти не спеша, как бы подчеркивая своей невозмутимостью, что водитель все равно будет нас ждать.
Действительно, таксист терпеливо ждал и даже не возмущался. Полицейский патруль остался им доволен и даже похвалил за то, что он не перегружает машину, как это делают некоторые.
– Мир желает быть обманутым, – вздохнул он покорно. – Патруль хотел бы, чтобы я брал только четырех пассажиров. Так я не заработал бы на бензин. А если две рупии надбавлю, так со мной никто не поедет. Ничего не поделаешь, придется нарушать закон и дальше.
Он с мольбой во взоре посмотрел на крикливый рисунок с надписью: «Ищу убежище под вашей охраной, о Радха, о Кришна», стиснул руль двумя руками, попросил соседа разрешения включить скорость, так как рычаг коробки скоростей находился у того между ног, нажал на газ, и мы поехали дальше. В десять часов мы переехали по большому мосту через реку Саи и оказались у цели.
Джаунпур, город Джауна, незаслуженно пренебрегаемый сегодня туристами, был столицей небольшого, но сильного мусульманского государства, сыгравшего значительную роль в истории Индии. В конце XIV века Делийский султанат находился в упадке. На делийский трон попадали все менее способные правители. Вместо того чтобы подчинить мятежных индуистских феодалов, восстававших против господства мусульман, сильной центральной властью, султаны занимались лишь мелочными придворными интригами и спокойно смотрели на то, как наместники провинций все больше прибирали власть к своим рукам. Решающий удар делийским султанам нанес жестокий завоеватель Тимур, который в 1398—1399 гг. совершил грабительские походы в Индию. Тимур не смог надолго закрепиться в Индии, но Дели был так сильно разрушен, что почти на целое столетие перестал существовать как культурный центр мусульманской Индии и уступил свое место Джаунпуру, избежавшему последствий этого ужасного нашествия.
Согласно мусульманским легендам, Джаунпур получил свое название благодаря султану Мухаммеду Туглаку, которого до его восшествия на престол звали Джауна–хан. Говорят, после смерти он, явившись во сне своему двоюродному брату и преемнику Фироз–шаху, приказал построить на реке Гомати город и назвать в его честь Джаунпур.
Еще до опустошительного вторжения Тимура в Индию в Джаунпуре обосновался придворный евнух делийских султанов Малик Сарвар. Демонстрируя свою независимость от былых господ и в знак того, что он суверенный правитель восточных областей империи, Малик Сарвар принял титул Малик–уш–шарк – «Владыка Востока». На джаунпурском троне его сменил приемный сын Шамс–уд–дин Мубарак из рода мултанских сайидов, а после него в Джаунпуре правили его потомки. В имени каждого из них стояло неизменное «Шарки» – «Восточный».
Младший брат Шамс–уд–дина Ибрагим был одним из образованнейших правителей мусульманской Индии. Во время его правления в государстве царил мир и покой. Он был ревностным поборником мусульманского образования, основывал в своеобразном стиле новые мечети, строил при них школы, караван–сараи и больницы, организовывал библиотеки и приглашал к своему двору ученых и поэтов не только из разграбленного и выжженного Дели, но и из далекого Ирана. За время его правления Джаунпур прославился как центр индо–персидской культуры и получил за это лестное название «Индийский Шираз».
Такси остановилось возле пригородного базара, гудящего, словно улей, от криков лавочников. В центр города таксист нас не повез, так как машина просто не смогла бы двигаться по переполненным узким улицам. Из группы рикш, которые нас тут же окружили, я выбрал смуглого юношу с быстрыми глазами. Наверняка он будет знать, где живет мой незнакомый знакомый.
– Рам Нараян? Ювелир? Его вилла за рекой в Зафарабаде, – обрадовался юноша. Впереди – длинная дорога, а значит, солидный бакшиш.
– Да нет, его магазин находится в центре города, – охладил я его восторженность.
– Так вам, видно, нужен Рам Нараян, парфюмер? Тот, который живет на улице красильщиков?
Теперь я попадаю в тупик, так как ничего не знаю о том, чтобы у человека, который меня, вероятно, ожидает, была бы такая пахучая профессия. С трудом я припоминаю, что, кажется, он был джаунпурским старостой.
– Что же вы сразу–то этого не сказали, – обрадовался рикша, – так это Рам Нараяна, банкир с Красных ворот.
Юноша развернул свой трехколесный велосипед, привстал на нем, нажимая на педали, позвонил в звоночек и, распугивая переполнивших улицу людей, понесся с горки вниз, в центр, в хаос старого города.
Мы остановились на маленькой площади с водоемом перед открытыми дверьми выложенного кафелем магазинчика, над которым сияла надпись: «Рам Нараяна Бэнкерс». Всюду тишина, лишь сверху доносятся приглушенные голоса. Я пошел на голоса, скрипя по ступенькам узкой отвесной, как гимнастическая стенка, лестницы. В темной прихожей за деревянной перегородкой на секунду меня охватил ужас, но здесь меня уже приветствовал сын господина Нараяна. Он сказал, что его отец неожиданно заболел и сейчас находится на обследовании у вайдьи – «индийского врача». Тем не менее господин Нараян–младший выразил готовность сопровождать меня в прогулке по городу вместе со своими двумя приятелями. Он мигом послал за ними мальчишку из соседнего дома, а передо мной разложил коробочки с серебряными монетами, амулетами и украшениями. Мой визит будет также способствовать процветанию бизнеса его отца. Едва я успел выбрать старый талисман с красиво выгравированной арабской молитвой, как у магазина появился господин Пракаш, преподаватель джаунпурского правительственного колледжа, вместе со своим коллегой по работе.