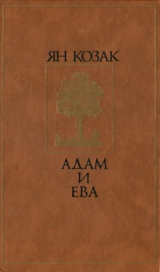
Текст книги "Адам и Ева"
Автор книги: Ян Козак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Прости, – прервал он меня. – Я хотел сказать – можно ли нам надеяться. Ну и как же, действительно есть надежда?
– Это уже лучше, – усмехнулся я. – Отдельные деревца выдержали даже нынешние арктические холода, в то время как рядом с ними более устойчивые из косточковых погибли. Я понял почему. Но надо проверить. Точнее – убедиться и учесть при дальнейшей работе.
– Это уже кое-что. – Ситарж кивнул.
– Разумеется, померзнуть они могут, – рассуждал я дальше. – При определенных условиях. Иногда, если выдаются суровые зимы, персики вымерзают и в Италии, и в Греции, и в Испании. На их место всегда высаживают новые. И это окупается.
– Сколько земли ты просишь? – спросил секретарь. – Сколько нужно?
– Два гектара. Для начала. Два гектара на северном склоне. Один участок мы взяли в прошлом году у частновладельца. Запущенный пустынный откос, всего несколько одичавших груш и слив. Этот участок и определили под персиковый сад, для посадки все уже подготовлено. Пятьсот саженцев на один гектар.
– А расходы?
– Расходы по смете, она уже утверждена! Девятнадцать тысяч на гектар посадок. Через пять лет сад начнет плодоносить в полную силу, и, если судить по опытным деревцам, которые уже давали плоды, мы могли бы рассчитывать на триста центнеров с гектара. Но пусть даже уродится сто двадцать центнеров. При закупочной цене семь крон за килограмм мы выручим восемьдесят четыре тысячи. Даже при таком урожае расходы были бы возмещены с лихвой за один год – причем в четырехкратном размере. Это куда рентабельнее, чем тем же способом выращенные яблони. И сам факт акклиматизации персиков означал бы переворот в плодоводстве.
Я почувствовал, что меня заносит. Но это был запал расчета, дела. Я прочно стоял на почве реальности.
– Тебе не доводилось слышать такую новую поговорку? «Хмельник – работник, виноград – сущий ад, зелен сад – прямо клад». Это про наше хозяйство сказано. Просмотри-ка последний годовой баланс.
Ситарж взглянул на меня. Смотрел долго, пристально.
– Ну да, эти твои пальметты, – задумчиво проговорил он.
– Да не мои, я только внедрил их в нашу практику. Использовал в крупном хозяйстве.
– Эти твои пальметты, – повторил он. – Насколько мне известно, их теперь внедряют повсюду. Они открыли нам кредит в областном управлении и в министерстве. Тебе об этом известно? Наш район до сих пор на них существует. Поверили, открыли кредит, и наверху все чаще идут теперь нам навстречу… – Он хитровато прищурил глаза, вздохнул. – Послушай-ка… А если это решение уже нельзя отменить… Что бы ты предпринял?
– Продолжал бы свое дело! Конечно, в худших условиях. Арендовал бы землю у какого-нибудь садовода. Мы теперь вдвоем с женой работаем. Пришлось бы…
Ситарж усмехнулся, незаметно, будто про себя. Поднялся. Словно невзначай оперся о мое плечо и дружески сжал его, как будто успокаивая меня. Подошел к телефону и позвонил Паточке.
Паточки на месте не оказалось, уехал в какой-то кооператив.
– Ну что же, – сказал Ситарж, кладя трубку. – Обсудим попозже. Два гектара… Кредит, пожалуй, ты тоже мог бы получить. Может, и впрямь отменить приговор? Что ты на это скажешь, а? Оставить в плане два гектара под новую опытную плантацию для персиковых деревьев. Как ты на это посмотришь? – ухмыльнулся он.
– Всегда приятно слышать разумные слова.
Я бы предпочел, ничего не говоря, обнять и расцеловать его. Мысленно я уже скликал своих коллег; засучив рукава, мы принимались за дело.
Я встал.
– Погоди, – остановил он. – Не торопись. Ты долго ждал. Подождешь еще.
И что бы вы думали? Откупорил бутылочку сватовавржинецкого, и мы чокнулись за доброе начало новой работы.
– Человек, – сказал я, когда мы хлебнули по глотку, – способен вынести стократ больше, если сам на себя поклажу взвалит. Если возьмется по своей воле, а не по чужому приказу. Хорошо, если бы товарищи, облеченные властью, не забывали этой простой истины. Ведь без нее не овладеть искусством разумного и толкового управления.
Пока мы разговаривали, Олдржих сидел не шелохнувшись, как мышонок. Он радовался, что принят первым секретарем, но вместе с тем робел, не зная, как прием закончится и чем все это обернется. Поэтому, когда Ситарж обращался к нему, осторожничал, отвечал неопределенно. Однако постепенно приободрился. В разговоре я упомянул, что Олдржих прежде работал у меня. Мы вместе рассаживали яблони пальметтами и пеклись о персиках; он сослужил мне большую службу. (Бедняга не понимал, про что речь, и возликовал.) С этого мгновенья он наслаждался визитом, его самоуверенность возросла непомерно.
Прощаясь, он прямо рассыпался в любезностях; чувствовал себя обласканным. Теперь он гордился тем, что на глазах у всех мы вместе выходили от первого секретаря. Самодовольно оглядывался вокруг. Сдается, он многое дал бы за то, чтобы все видели, как он чокался с Ситаржем.
– Слава богу, еще не перевелись у нас такие люди, как Ситарж. Из всех плодов, милый Олдржих, самый прекрасный и удачный – это человек, оказавшийся на своем месте и хорошо прижившийся.
– Как я рад, что пошел с тобой (он уже позабыл, что идти со мной вообще отказывался), хоть и не знаю, как отнесется к этому Паточка. Полезно выслушать мудрые наставления. Но ты, Адам, когда-нибудь нарвешься на неприятность. Не все такие, как Ситарж.
– Ну ладно, поживем – увидим. А пока – что ты скажешь о происшедшем?
– Ну теперь все повернулось по-другому. Теперь речь идет об эксперименте, официально получившем одобрение, а такое предприятие нужно только поддерживать. Это наверняка рентабельно.
– А сам-то ты до этого додуматься не мог?
– Да отстань! Я всего-навсего референт, а решают там, наверху.
Впрочем, ему стало неловко; он понял, что его перехитрили, и снова стал церемонным и чопорным. И тут же заспешил – дескать, работа.
Я нисколько не жалел о его уходе. Был сыт его обществом по горло. К тому же и без него хватало впечатлений, хотелось наедине в них разобраться.
С легким сердцем вернулся я домой. Солнце клонилось к закату. Я порядком проголодался, но настроение было приподнятое, огромная тяжесть свалилась с плеч.
У ограды нашего сада почти из-под ног у меня выскочили два расшалившихся зайца. Выскочили из зеленых всходов и начали петлять по дороге. Третий ушан – у него было разорвано ухо – стоял на задних лапках во рву и фыркал. Я постоял, посмотрел, а потом повернул к деревьям. На какое-то мгновенье даже забыл, почему спешил домой. Душа купалась в тихой, пронизанной солнечными лучами синеве, вишневые ветви, усыпанные набухающими почками, поймали меня в свои сети, я запутался в них. Тем более что с крон деревьев и с небесной выси лилось веселое птичье пение. Ах, как замечательна музыка пробуждающейся весны! Эти сладкие, переливающиеся в воздухе трели вместе с тончайшими ароматами проникали прямо в сердце.
И тут я увидел Еву. Она высматривала, не иду ли я. Завидев меня, Ева бросила мотыжку. Она разбивала под окнами мавританский газон и небольшой садик. Это ей нравилось, а если дело было Еве по душе, она бралась за него увлеченно и горячо. К счастью, нравилось ей то, что было необходимо и дому: хозяйство мое за годы вдовства основательно пришло в упадок. Томек, мой внезапно обретенный сынок, путался у Евы под ногами с жестянкой в руках. Маленький рыбак собирал в нее дождевых червей и всякую ползучую тварь. Жестянку он хотел куда-нибудь припрятать до тех пор, пока мы не отправимся ловить линей и карпов. Понятливый, чуткий мальчуган. Живой, хоть и несколько нервный, напуганный. Теперь-то он уже осмелел, мы с ним друзья. Глазенки так и сияют от радости, когда я беру его на закорки. Кладет свои горячие ладошки мне на лоб; держится крепко-крепко, смеется и взвизгивает, если я подпрыгиваю на ходу. И просто захлебывается от счастья, розовеет от радостного возбуждения, когда мы сидим на берегу, а поплавок ныряет и уходит под воду. Вот и теперь, увидев меня, он что-то кричит и показывает жестянку. Но Ева чуть отстранила его, и передо мной возникло ее напряженное лицо, она прямо сгорала от нетерпения и любопытства.
– Наконец-то! – воскликнула она, откинув волосы со лба. – Где ты пропадал так долго? Как дела?
Обычно я ничего про себя не таю, слушайте, мне не жалко. Делюсь с Евой своими заботами, и она знает почти обо всем, что меня мучит или, наоборот, переполняет радостью.
– Ну, убедил ты этих глупцов?
Не дожидаясь моего ответа, она заранее клянет всех, кто мне мешает. А сама мне прямо в рот заглядывает, не спуская пытливого, нетерпеливого взгляда. И тут ни с того ни с сего на меня находит желание ее «помучить». Прикидываюсь таким несчастным и бедненьким, беспомощно пожимаю плечами, досадливо отмахиваюсь. «А-а, все они одним миром мазаны… Чертова работа! Ничего я не добился!» – означает этот жест. Но на всякий случай я отворачиваюсь.
– И потому тебе не хотелось возвращаться домой? Да что они, с ума посходили, что ли? – возмущается она.
Я креплюсь. Задерживаю рвущийся смех и чуть не лопаюсь от натуги. Искоса наблюдаю, как Ева кипит и пылает праведным гневом. Напускается на всех, кто стоит на моем пути, награждает их самыми ядовитыми эпитетами и честит почем зря. (Ах, это звучит как самая сладкая музыка!) Золотая ты моя девочка! Сколько пыла у моей Евы! (К счастью, ее хватает на все!) Щеки пылают, глаза мечут молнии. Наверное, я представляюсь ей солдатом, раненным на поле боя: еле волочусь, нога переломлена, тело – сплошной шрам, а маркитантка Ева помогает мне идти. И для меня это – радость. Не могу сказать, когда она мне нравится больше, когда так вот кипятится или когда чуть не захлебывается от смеха. По натуре она веселая, радость из нее прямо ключом бьет. Но умеет и приласкаться, словно кошка. А кот сидит рядом и урчит, довольный.
Ева, чертовка, вскружила мне голову, а ведь так недолго и совсем ее потерять! Но я уныло опускаю ее и отворачиваюсь. Едва сдерживаю смех.
И тут Ева стихает и настораживается, заподозрив что-то неладное. И уже хватает меня за плечи, поворачивает к себе лицом и упорно, жадно всматривается мне в глаза.
– А ну, взгляни-ка на меня!
Я все еще притворяюсь сокрушенным, кусаю себе губы. Радость во мне бурлит, как подземный поток. И вдруг вырывается на поверхность… Актер из меня никудышный. Глаза и губы вечно выдают. А сейчас и вовсе радость жизни играет в каждой жилке.
– Ах, разбойник! – с облегчением вздохнув, треплет она мои вихры. – А я-то раскипятилась. Снова ты меня обхитрил. Так с чем же ты вернулся? Впрочем, можешь не говорить. И так видно. Ишь расплылся в улыбке.
И вдруг покатывается со смеху, лицо раскраснелось, крепкие белые зубы блестят меж красиво очерченных губ.
– И у тебя, что называется, рот до ушей, – сдержанно замечаю я. – Могу поспорить, если бы не мешали уши, он бы растянулся еще больше.
– Конечно, именно так бы я и смеялась. А теперь расскажи, что произошло на самом деле.
Я уже не заставляю себя упрашивать и охотно все выкладываю. Она слушает.
– Очень я рада, Адам, что ты не поддался. Может, за это я тебя и люблю. Может… только смотри, не очень-то заносись… Может, этим ты меня и подкупил.
– Подкупил? – возмутился я. – Фу, какие шутки, Ева. Я тебя не подкупал. Только очень сильно тосковал по тебе.
– Полноте! – воскликнула она. – Ну да ладно, за это я тебе все прощаю. Но ведь целый день не давал о себе знать, а я тут прямо обмирала со страху! Куда только не звонила, да никто не мог мне сказать, где ты запропал. В следующий раз не забывай, что здесь тебя ждут уже трое. Вот послушай-ка…
Взяв мою руку, она прижала ее к своему уже заметно округлившемуся животу. Но тут Томек потянул меня за брючину. Чтоб я посмотрел на дождевых червей и личинок. Одна из этих тварей извивалась в его пальцах, испачканных землей.
– Ах ты поросенок! – прикрикнула на него Ева. – Беги-ка в подвал и спрячь там это лакомство до рыбалки. И вымой руки, уже пора обедать!
– А когда мы пойдем ловить рыбу? – с замиранием сердца спрашивает Томек, и щечки его окрашиваются румянцем.
– Скоро! – обещаю я. – Когда начнется клев.
– И я поймаю большущую рыбину! – мечтательно восклицает мальчик.
– Ну, само собой. Только надо чуть обождать.
Глазенки маленького удильщика разгорелись. Они теперь как глубокие омуты, в которых плавают карпы, лини, плотвички и окуни, выпрыгивая из воды на гладкую поверхность. В его глазках все отражается как в волшебном зеркале.
– Подожди малость – пусть подрастут. А теперь беги, да поживее! – торопит его Ева. И, не оглядываясь больше на сына, она просто и доверительно прижимает мою ладонь к своему животу. Глаза ее плутовски поблескивают.
– Чувствуешь? Прислушайся хорошенько! Тебе, Адам, все удается. У тебя любое дело спорится.
Она счастливо усмехается, а меня прямо распирает от гордости!
– Доброе посей, доброе и взойдет…
– Что же, посев не плохой, – в тон отзывается она. И прячется в моих объятьях. Золотисто-карие глаза ее сияют нежным, теплым светом. Счастливое, дышащее здоровьем и негой лицо Евы напоминает мне рассветное июньское солнце.
Прижав ее к себе, я молчу, у меня першит в горле.
– Ева, а не стоит ли тебе поберечься? – спрашиваю наконец.
– Пока что мне двигаться совсем нетрудно. Ты не бойся. Да и этому сверчку, что во мне, движения тоже на пользу. Пусть не привыкает за печкой отсиживаться. Ну, а теперь хватит. Мы с малышом проголодались. Пойдем-ка, Адам, с нами.
И тут я ощущаю чудовищный голод.
– А что ты приготовила?
– Увидишь. Сейчас все подам на стол.
Она ушла.
Я поджидаю Томека. Наверное, уговаривает себя не бояться темного подвала. Вспоминает про нас и пересиливает страх.
Опускается апрельский вечер, солнце прячется за горизонт. Смеркается, день уходит, он был удачным, добрым, полновесным. Я доволен. Неважно, как он начался, важно, как заканчивается, рассуждаю я сам с собой. Завтра с утра нужно позвонить насчет саженцев, послезавтра мы их привезем. Сейчас лучшее время для высадки. А ведь оно бежит куда как быстро!
В душистом весеннем воздухе раздается свист дрозда. Я слушаю его с наслаждением… А в нос бьет аромат картофельной похлебки с грибами, перебивая запах разбуженной весенней земли. Перепачканный Томек вылезает наконец из подвала.
– А ну-ка, лещ, вылезай, попался, брат! – поднимаю я его.
Он отбивается, дрыгая ножками, и смеется. Прыгает, как лещ на крючке.
И тут слышится голос Евы:
– Ну так что же, голубчики! Долго мне вас еще ждать?
4
Как это было в нашем раю
Наработались мы вволю. Мокли под дождем, жарились на солнце. Прореживали, опрыскивали, удобряли. Заменяли старые, давно взращенные высокоствольные сорта яблонь на низкорослые, насаживали новые вишневые плантации. Обносили проволочными сетками тысячи новых молоденьких и слабеньких селекционных саженцев для защиты от острых зубов кроликов и зайцев. Наша персиковая плантация расширялась год от года.
Молодые деревца пока не родят, но они принялись. Свежие молодые веточки удлиняются, тянутся вверх и в стороны, окидываются листочками. Их низкие кустообразные макушки напоминают улыбчивых девушек с перепутанными кудряшками локонов. Приятно посмотреть. Первые персики, которые посадили мы с Евой, быстро взрослеют, набирают силу. Мы не оставляем их без внимания. На будущий год они должны принести плоды.
Над нами до сих пор смеются. «Зряшная работа. И чего ты с ними возишься? И Еву запряг. Хотите решетом воду вычерпать!» Ну и черт с ними. Мы-то видим, что дело идет на лад. Что же нам помогает не отказаться от него? Уверенность, что оно полезно и нужно всем – это во-первых. А во-вторых – необходимость доказать и самим себе, и всякому неверующему, что трудовые руки, творческий ум и стойкая душа – залог успеха в большом и полезном деле.
Я ползаю с заступом по травянистому склону, а воображение продолжает работать, рисует радужные картины, одну заманчивее другой. Разве, выкапывая яму и сажая в нее молоденький прутик селекционного растения, трудно вообразить себе, как это деревце уже зеленеет, цветет и плодоносит? Разве мысленно ты не собираешь уже красноватые, золотисто-желтые, коричневатые, мраморные или розовощекие сочные, душистые фрукты? Не ощущаешь их на своей ладони и не глотаешь слюнки? Разве, засевая хлеб, не думаешь о жатве и об урожае? А когда возводишь стену – не представляешь себе всего дома? А если у тебя есть возможность еще и поделиться этими своими фантазиями с родным и близким человеком – иногда менее, иногда более близким, как, скажем, Ева, – разве тогда не стараешься, не напрягаешь силы еще охотней?
Вот уже пятый год мы вместе. Славно все получилось. Своим смехом и воркотней Ева наполняет дом и сад. Она любит повеселиться, попеть, но и поругаться, если надо излить свой гнев. Даже острое (а порой и соленое) словцо не смущает ее слуха. Мы с ней понимаем друг друга. Улучив свободную минуту, она, как и я, любит побродить по благовонным рощам и лесным посадкам Роудницкого края; пройтись по золотисто-зеленым переливчатым полям. (Окидывает взглядом каждый цветок язычески огненного мака, а под окном, меж грядами капусты, из года в год зажигает летом круглое солнце подсолнечника – на случай, если вдруг солнце скроется за облака?..)
Любит она и посидеть на берегу Лабской запруды с удочкой в руках и тут же отведать свежей, только что выловленной, на угольках испеченной рыбки. И Ева, и дети обожают наши рыбацкие экспедиции. Еще одна добродетель украшает ее: она умеет готовить. К примеру, до хруста поджаренные картофельные лепешки с тонкими ломтиками свежих грибов. (Этот рецепт мы придумали вместе: у меня при одной мысли о нем сосет под ложечкой.) Кладовка и холодильник у нас всегда полны… Конечно, она любит и умеет со вкусом одеваться. (А кто из женщин этого не любит?) И я ничуть не возражаю. Напротив. Сам этого хочу. Разве Ева – не моя гордость? Когда она идет по улице своей упругой легкой походкой, редко кто не обратит внимания – иногда с удовольствием, а то и с завистью – на ее стройные ноги.
В саду Ева уже давно освоилась и чувствует себя совладыкой (он ведь в равной мере принадлежит и ей) этого королевства. Лодырей, которые спешат поскорее отделаться от работы, а то и портят ее, она тотчас поставит на место: сама она никакого труда не боится. А что до хомута, в который я будто бы ее впряг, как говорят некоторые, так на это я отвечу вот что. Свои бесконечные анализы и графики, химикалии, пробирки и дощечки Ева с великим удовольствием меняет на работу в саду; здесь она отдыхает. Берет мотыгу и сажает новые деревца, садится на трактор и развозит искусственные и естественные удобрения, обогащает почву. Но больше всего кружит у деревьев, которые мы сажали вместе. Скорее всего, ради меня. (Такие мысли я самодовольно внушаю себе сам.) Но это, конечно, шутка! Просто Ева делает, что ей нравится: любит поработать, поесть, а иногда и рюмочку выпить. Тут мы тоже понимаем друг друга. Да, как бы не забыть: она преисполнена сатанинской гордости за то, что мы делаем вместе. (Горе несчастному, кто вздумает чинить нам препятствия в работе!) Неужто этого не достаточно? Но, по правде сказать, иногда мне думается, что Ева не столь вынослива, сколь упорна. У нее своя голова на плечах; снедает ее молодой, только что ею в себе открытый и разбуженный задор. (Иногда мы ссоримся – чаще всего из-за того, что нужно было бы сделать или уже сделано; она всегда пытается настоять на своем. Спасибо ей за это. Жизнь тотчас становится веселее!)
Как-то мне захотелось ее немножко поддеть. Я припомнил книгу Чапека «Год садовода». Книгу о том, как стать завзятым садовником. Это, оказывается, очень просто! Прививаешь, подстригаешь веточки и вдруг – такой неумеха! – оцарапаешь себе палец. Через кожу в кровь попадет нечто вроде отравы – и вот уже одним одержимым садоводом на свете стало больше.
– А ведь тут что-то есть! – отозвалась Ева и прикрикнула: – Не смейся! Я и не представляла, что во мне тоже сидит такой вот фанатик! Мне всегда нравилась жизнь, Адам, но только теперь я ухватила ее за вихры. А я, дурочка, еще раздумывала! Годы ухлопала, с утра до вечера просиживая за анализами почвенных образцов, и только теперь вижу, что к чему. Когда у меня тут же, под рукой все растет, цветет и плодоносит. И где только у меня глаза были!
Я усмехаюсь, а на сердце тепло. Черенок прижился. Тот, что главнее всех. (Привил на совесть, Адам, похваливаю сам себя.) Моя радость, вбирая в себя радость Евы, ширится и растет. Сок из двух корневых систем брызжет сильнее, много сильнее, чем из одной…
Однажды осенью я вернулся домой поздно. В областном центре созывали актив. Что там разбирали – убей бог, не помню. А тут еще Гавелка, наш новый директор, попросил меня выступить в прениях. Я наболтал с три короба. Или чуть поменьше. От волнения мысль работала быстро и четко. Вот тогда-то и родился наш проект…
Странное дело. Живешь в своем углу. Живешь долгие годы, каждый придорожный камень, каждую межу, каждый куст знаешь, и вдруг наступает мгновенье, когда знакомые места предстают по-новому, обнаруживают новые свои возможности, новые, прекрасные формы. Уезжая из дома на собрание, я еще от ворот окинул взглядом по-осеннему бурые склоны противоположной долины, где были раскиданы лесопосадки, а на пограничных межах полей рос кустарник.
И меня осенило: ведь на всем этом пространстве могли бы протянуться сплошные ряды деревьев, один огромный сад, кладовая наших дивных плодов! Эта мысль настолько завладела мной, что все остальное я послал к черту.
Дело обстояло так: сразу за оградой нашего сада, на другой стороне большака, – несколько гектаров приусадебной земли соседнего кооператива. Земли совсем мало – восемь-десять гектаров, не больше. А за ней чуть не до самой Лабы тянется широкая, как блюдо, ложбина. Десятки гектаров пологих полей Калешовской фермы, простирающихся вокруг бывшей усадьбы князей Лобковиц. Жалкое стадо, каких-нибудь восемь десятков плохо обихоженных коровенок – и это на такие вот обширные владения, словно самим господом богом предназначенные для огромного фруктового сада. Соединив оба наших хозяйства, мы создали бы современный специализированный садоводческий ареал. Интенсивно возделываемые плантации плодовых культур. И конечно же – персиков.
Когда я вернулся с актива, Ева уже спала. Я разбудил ее. Сел, не снимая пальто, на край кровати и потряс ее. Она испуганно встрепенулась спросонья, не поняла, в чем дело, зажмурилась, терла глаза.
– Случилось что?
– Случилось.
Увидев меня в пальто, она, готовая к новым неприятностям, приподнялась на локте. И я, спеша и волнуясь, выложил ей все мои новости, все соображения, весь мой проект.
Она поняла не вдруг, какое-то время молчала и испуганно смотрела на меня. И только немного погодя смысл моих слов дошел до нее.
– Погоди. – Ева села на постели. – Повтори-ка все еще раз сначала.
И задала мне несколько вопросов. Очень существенных и деловых (кстати замечу: просыпаясь, она бывала куда более деловой, чем вечером, когда готовилась ко сну).
– Каких размеров, по-твоему, должен быть сад?
– Ну, скажем… около сотни гектаров. А кроме того… Там, на окраине, можно прихватить еще чуток земли у Крабчицкого и Добржиньского хозяйств. Хорошо бы подровнять территориальные границы…
– Так далеко лучше не заглядывать, – прервала меня Ева. – С этакими идеями тебя отовсюду в три шеи погнали бы. И хлопот не оберешься, ты не находишь? Перебрасывать ферму, строить при ней коровник, а кроме того – вкладывать деньги в новый сад.
– Само собой. Без труда и без денег ни одно крупное современное производство не организуешь… А садоводство уже давно пора перевести на современные рельсы. Конечно, это в перспективе, но и перспективный план тоже следует разработать. – Обхватив Еву за плечи, я снова со смехом встряхнул ее. – Вот видишь! Сдвинуть с места удается лишь то, за что можно ухватиться, взяться руками, потрясти! Понимаешь?.. Целые десятки гектаров зерновых культур, свеклы, картофеля, овощей, невиданное крупномасштабное производство, а мы должны все еще жить по старинке? Мелкому производству – конец. Его давно пора послать к черту! Да разве в прежних условиях производства можно применить достижения науки, механизации, техники в полной мере?
Ева молчала.
– Успокойся, – сказала она чуть погодя. – Поди-ка сними и повесь пальто.
Когда я вернулся (разумеется, с бутылкой вавржинецкого в руках), она сидела на краю постели, спустив ноги на коврик и подперев голову ладонями.
– И как ты мыслишь это сделать? – спросила она.
– Очень просто. Взять и сделать. Провести анализ почвенных структур и на его основе, а также с учетом наклона местности, рассчитать площадь отдельных участков, ввести уже проверенный состав выращиваемых культур и подсчитать предполагаемую прибыль. То есть разработать и предложить руководству госхоза проект ведения такого хозяйства.
– И ты уже все продумал?
– Нет, не все. О том и речь. Вот теперь мы это и сделаем.
– Кто это мы? Кто сделает?
– И ты еще спрашиваешь? Ты да я. А потом вся наша бригада.
Всплеснув руками, она удивленно заморгала.
– Ну, чего молчишь? Слышала, что я сказал?
– Как не слышала… – Она запнулась. – Да я просто дух перевести не могу!
Ева долго молча смотрела на меня. Но постепенно лицо ее стало оттаивать, оживать. А губы… Ах, эти ее губы… Любое волнение прежде всего отражалось у нее на губах. Раньше, чем во взгляде… Странные, особенные у нее губы. Бывало, заколотится у нее сердце – и они становятся пунцовыми от прихлынувшей крови. По подвижному рисунку рта я могу прочитать ее мысли отчетливее, чем если бы они были выражены в словах. Трогательные подрагивания ее губ всегда выразительнее слов, начертанных большими буквами. Бегущая световая газета в темноте ночи… Только потом вспыхивают глаза… Губы у Евы живут как бы отдельно, сами по себе.
– Ты считаешь… Ты на самом деле думаешь, что мы это осилим? – спросила она. А на ее губах уже читался ответ.
– Выпьем, – предложил я, подсаживаясь к ней. – Разумеется, осилим. Ведь мы знаем, чего хотим. «Преодолей, пробейся, не прислуживайся», – продекламировал я свое любимое изречение.
На сей раз мы отхлебнули прямо из бутылки.
– Да ради такого дела я готова и прислуживаться. Лишь бы удалось.
Ева одушевилась. Идея увлекла ее. Я это видел, я знал, что так будет.
Для нас начались дни и недели неустанной работы – бесконечными вечерами, по субботам и воскресеньям. Столы и шкафы, забитые книгами по специальности (я привозил их из Праги); груды бумажек с моими выписками, заметками и анализами. Ева целыми днями пропадала в поле и на межах. Отбирала образчики почв, сортировала их, анализировала, сравнивала. С некоторыми даже сама ездила в Мельник, в лабораторию, где работала прежде. Мучилась страхом, как бы чего не напутать. Собственноручно нанесла на карту все разновидности почвенной структуры, и, когда наконец разложила передо мной на столе эту пестревшую разными красками картину, глаза ее прямо-таки полыхали. Склоняясь над разноцветной мозаикой квадратов и прямоугольников, над причудливыми эллипсами, заштрихованными землянично-красной, бледно-коричневой, бледно-зеленой краской и желтью – на местах произрастания ржи, картошки, свеклы и люцерны, и все это там, где пока что были лишь травянистые берега, заросшие кустами терновника, шиповника, боярышника, – мы видели, как у нас на глазах поднимается сад. Ева уже вдыхала, впитывала в себя аромат сочных вызревших фруктов. Ноздри у нее раздувались и трепетали…
Мы условливались, какой участок отдать под персиковые плантации, где провести границу вишневых посадок, откуда и куда, по каким местам должны протянуться полосы яблоневых пальметт. Мы ссорились, спорили, пока наконец не приходили к согласью. Чудесные дни… Словно сейчас слышу, как она говорит: «Знаешь, такое чувство, будто до смерти устала, а все же, когда подходит вечер, жалеешь, что день окончился и больше нет сил, и не можешь дождаться утра, чтоб начать все сначала».
Часам к десяти вечера она была голодна как волк. Мгновенно появлялись поджаренные шницели, хлеб и соленые огурчики. (Известное присловье: соленье творит веселье.) Чай. Во время занятий – никакого вина, ни-ни… Золотистая струйка меда, тающего в огненном, обжигающем золотистом чаю, поданном в стакане. Чай Ева всегда наливала в стаканы: она наслаждалась всем – цветом, ароматом, вкусом этого напитка.
Еще какое-то время мы работали, а потом принимали ванну. Впрочем, Ева признавала только душ – стремительный ток горячей и тепловатой, вперемежку, воды, растекающейся по всему телу. Я же до краев наполнял ванну приятно теплой водой, а потом обливался холодным ключевым душем. Потом – еще часика два поработать. И наконец добраться до постели.
Ева спала как убитая. Сон у нее всегда был глубокий. Но в ту пору утром ее просто нельзя было добудиться. Она медлила, потягивалась; вставала с черными кругами под глазами. Если нужно было уходить, клала на веки примочки…
И вот однажды вечером работа была закончена.
– А теперь иди ко мне, – сказала Ева, угнездившись в постели после очень холодного на сей раз душа. И счастливо, широко улыбнулась мне. – Деревьев на земле мы уже напрививали вдоволь.
Общая работа, взаимная любовь и страсть сроднили нас. В эти дни и ночи, среди смеха, боли, крика, в пору печалей, радости и наслаждений наших душ и тел, кровь наша смешалась. Она бурлила и полнилась жизнью не только в нас. На свет появилась Луцка.
Луцка!
Вижу ее… улыбчивую крошку с курчавыми каштановыми волосиками (это украшение она получила от меня), с ротиком ярким, словно клубничка, щебечущую, словно ласточка. Неуемную вездесущую лепетунью. Чего не знает, тут же и придумает. Присела за домом на корточки, дует на седую головку одуванчика, а когда опушенные семена взлетают в нагретый солнцем воздух, принимается их ловить.
– Куда они летят? – спрашивает малышка. Она не достает мне даже до колена. – А почему каждый пушок летит отдельно?
– Так рассеваются семена, – поясняю. – Там, где упадут они на землю, вырастут новые одуванчики, расцветут новые золотистые цветочки-солнышки, чтобы всем на свете стало веселее. Все, что растет, бегает, летает либо плавает, любая травинка или дерево, всякая птаха, бабочка, рыба, раки и лягушки, любая зверушка на нашей земле появляется на свет своим способом. Либо прорастает, либо вылупливается из яичка или родится.
– И я?
– И ты.
– А как родилась я?
– Ты?
Поднимаю озадаченно брови, оглядываюсь на Еву.
Ева наклонилась над корзиной с мокрым бельем, собирается отбеливать простыни и пододеяльники, и тут вместо нас отозвался Томек. Ухмыльнулся, глядя на Луцку (вечно у них схватки: ему иногда приходится за ней приглядывать), и кричит: «А ты родилась от гусыни!»








