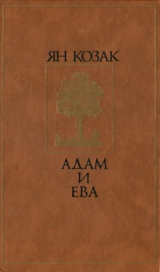
Текст книги "Адам и Ева"
Автор книги: Ян Козак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Я вошел в лабораторию. Поздоровавшись, Ева пригласила меня сесть. Слегка улыбнулась, неуверенно и пытливо. А я молчал: был рад уже тому, что вижу ее.
– С чем пожаловали? Вас я уж и не ждала. Но приходу рада. Что же вам угодно?
– Видеть вас, – ответил я. – А еще… позавтракать с вами. Разве плохо начать день вместе?
Как-то она упоминала, что утром у нее много хлопот с маленьким Томеком. Пока отправишь его в детский садик, завтракать уже некогда, да и не хочется – поэтому она завтракает на работе, после того, как разместит пробирки и колбы, наполнит их да включит приборы.
– Позавтракать? – Она удивилась. В глазах заплясали веселые искорки. – Да я вроде уже перекусила сегодня.
– Но, Ева… Не заставите же вы меня завтракать в одиночестве!
Она упивалась моей растерянностью. С любопытством наблюдала, как неловко – у меня руку и впрямь словно клещами защемило – разворачиваю я обертки, вынимая оттуда хрустящие соленые рогалики и тонко нарезанные ломтики бекона, сладкий перец и помидоры.
– Вот это угощение! – воскликнула она.
Вымыв перец и помидоры, поставила их на стол в двух тарелках.
– Я не из тех доходяг, которые едят только потому, что так заведено, – объяснил я. – Я люблю поесть. А если можно разделить трапезу с кем-нибудь близким, то тем более.
Она испытующе поглядела на меня, а потом с аппетитом, без ужимок и кривлянья, принялась за еду. В прошлый раз она так же, без жеманства, приняла мое яблоко, а теперь своими крепкими зубками расправлялась с нашим первым общим завтраком. В глазах ее уже не было ни вызова, ни раздражения, ни озорной игривости – она успокоилась, отдыхала, и взгляд ее выражал тихую, глубокую, подлинную радость.
Я взял ее руку в свои ладони. В ответ она улыбнулась милой, трогательной, чуть ли не робкой улыбкой и вся засветилась – как молодое и теплое, лучезарное весеннее солнце. Мы не могли наглядеться друг на друга, не разнимали рук… Но тут зазвонил телефон…
Чашечка крепкого кофе развязала нам языки. Ева первой заговорила об Олдржихе.
– Он приезжал сюда. Но больше не приедет, – сказала она, сделав решительный жест рукой. – Все кончено.
Больше она ничего не произнесла. Но ее недвусмысленного отрицательного жеста было достаточно. Радость переполняла меня, все во мне ликовало.
Я пригласил Еву на воскресную прогулку. Мне хотелось, чтобы она увидела, над чем я тружусь, посмотрела наш сад. Я мечтал вместе с нею подняться на Ржип. Первое свидание с Евой! Я предложил заехать за ней.
Она посмотрела на меня с укоризной. Нижняя губа у нее чуть дрогнула, выдавая волнение. Казалось, дрожь охватила все ее существо.
– Вы ведь знаете, я не одна.
– Конечно, – кивнул я. – Но мы и Томека возьмем.
Она помолчала. Потом поежилась и сделала неопределенное движение рукой, словно извиняясь.
– Простите, я не смогу, – и отрицательно покачала головой.
– Хорошо. Тогда встретимся в субботу. Хоть ненадолго. Я приеду, и мы немножко погуляем. Хотите?
Это предложение она приняла. И облегченно вздохнула. Лицо ее прояснилось, стало спокойным и счастливым.
Счастливейшие минуты жизни… и потом – завтрак! Сегодняшняя встреча ничем не напоминала предыдущую. Та была прекрасна, но… Чувствовались тогда и каприз, и игра, и несколько чрезмерное кокетство. А теперь, за завтраком, Ева была сама задушевность. Какая же она на самом деле?
В субботу после обеда мы отправились пешком вдоль берега Лабы. Стоял холодный и сырой ноябрьский день. Воздух был пропитан тяжелым запахом влажной земли, прелого листа, рубленой свекольной ботвы. За поредевшими зарослями ивового кустарника стояли грузовики, куда грузили остатки выкопанной, но не увезенной свеклы. Слышно было, как фыркают лошади и буксуют колеса по размытой дороге, откуда-то издалека доносился гудок грузовой баржи. На кустарниках, голых стволах деревьев, на увядшей траве и тростнике клочьями повис туман.
Мы остановились на плотине. Лаба покойно несла свои по-осеннему темные воды. Лишь кое-где волнистая рябь выдавала стремнины. Молча смотрелись в зеркало вод обнаженные, стряхнувшие листву тополя. Молчали и мы. Держались за руку, изредка касаясь друг друга плечами. Я чувствовал себя неуверенно. Евы словно и не было рядом. Она избегала моих взглядов, неотрывно следя за плавно катившимися волнами реки. И словно целиком погрузилась в себя, растерянная и чем-то встревоженная.
– Ева!
Она вздрогнула. Вскинула голову и улыбнулась. Неуверенно и робко.
Я обнял ее, крепко прижав к груди. Подняв руки, она обвила ими мою шею – сильным, судорожным объятьем. Губы ее полураскрылись – и жадно прильнули к моим. Страстный любовный порыв, безудержное желанье охватило ее. Я чувствовал, что она вся пылает. Вдруг, резко оттолкнув меня, Ева вырвалась из моих объятий. Я ничего не понял и оглянулся. Вокруг не было ни души, на берегу только мы двое да кустарник.
Я снова протянул к ней руки. Она отпрянула. Но я удержал ее, заглянул в лицо. И безнадежно отступил: ее глаза были полны отчаяния.
– Что произошло? – срывающимся голосом проговорил я.
Она молчала. Молчала мучительно долго. Наконец, словно борясь с собой, отрицательно замотала головой.
– Нет, ни к чему все это. И лучше уж отрубить сразу. Конечно, не хотелось бы… – вздохнула она. – Но ты не приходи ко мне больше, слышишь?
Посмотрела на меня затравленным и измученным взглядом. И пошла.
Ушла. Убежала.
Я глядел ей вслед, потрясенный. Какое-то мгновенье стоял, словно стреноженный. А потом бросился за ней.
– Что случилось? Что с тобой, Ева?
Она ничего не желала слышать. Будто оглохла. Плотно сжала губы, но все равно чувствовалось, что они дрожат.
Прошло несколько дней. Мне казалось, мир рухнул. И душа у меня выгорела.
Что произошло? Я ничего не понимал. Проклинал все наши встречи. Восстанавливал в памяти минуты, когда лицо ее то светилось безудержной радостью или лукавым озорством, то вдруг становилось серьезным и выражало глубокое внимание. Мне то слышался ее счастливый веселый смех, то перед глазами возникало потерянное, отчаянное лицо… Уж не примирилась ли она с мужем, вдруг он вернулся к ней и сыну? Такое тоже мелькало в голове.
Разумеется, смириться со сложившимся положением дел я не мог. И в ближайший понедельник отправился к Еве. На работе ее не было. Я набрал номер телефона. Тщетно. Скорее всего, взяв отпуск, Ева с Томеком уехала к родителям. А потом и мне пришлось на две недели отлучиться в Братиславу на семинар садоводов. Я написал ей оттуда письмо, рассчитывая по возвращении получить ответ… Как я просматривал свою почту! Как перетряхивал газеты и официальные послания, надеясь обнаружить среди них желанный конверт. Все было напрасно.
Мне мерещилось, что Олдржих кружит вокруг и язвительно издевается надо мной. Его неотступный взгляд я чувствовал на себе всюду – за работой в саду и за письменным столом в конторе. Он ни разу не спросил меня о Еве, но его утешало, что я неотлучно у него на глазах и никуда не рвусь.
Не ответила Ева и на второе мое письмо.
На переломе года у Олдржиха резко обострилось чувство собственной значимости. Его послали учиться в Усти-над-Лабой, в наш областной центр. Когда он возвратился, ему предложили работу референта в отделе сельского хозяйства районного национального комитета. Это Олдржиху-то! Я возражал против такого назначения. Просто не мог себе представить, как это он станет копаться в бумагах, а тем более что-то решать и кем-то руководить. Это он-то! Какая нелепость! Назначение приводило меня в ярость, но меня никто не поддержал. Пришлось даже выслушать подозрительное предположение, уж не завидую ли я часом. Наша партийная организация и руководство госхоза хитро рассудили, что иметь в комитете своего человека – дело выгодное.
Олдржих был на коне. Словно получил официальное поощрение и компенсацию за перенесенные прежде страдания и муки. Словно мстил мне, сводя счеты.
А тут ударили сильные, чуть не арктические холода. Заботы и тревоги обрушились на меня снежной лавиной и росли день ото дня. Расхаживая по саду, я с тревогой думал о том, как уберечь деревья от морозов. Заботила меня судьба всех саженцев, но особенно опасался я за своих любимцев – за персики. Я готов был согревать их дыханьем, закутывать в одеяльца – только бы спасти. Ведь сад был единственной отрадой, которая мне теперь оставалась.
Стоишь, бывало, в старом пастушеском кожухе, с шерстяным шарфом на шее, в ушанке, надвинутой чуть не на нос, и начинает чудиться, что в заколдованной этой мертвой тишине, в смертельной зимней спячке стонут и плачут деревья. Слышны их всхлипывания. «Умрут ведь, закоченеют, – шепчу я себе. – Не вынесут холодов. Хоть и не умеют они метаться от боли, да ведь все равно живые, у них и душа есть. И эта душа отлетает». Мороз обжигает их, и боль передается мне. Я ощущаю эту лютую, свирепую стужу в своем сердце. И страдаю и мучусь вместе с ними; вместе с ними коченеет и цепенеет моя душа.
Мне не впервой оставаться в полном одиночестве.
Почти четыре года назад я потерял жену. Это был прочный союз, хотя первые несколько лет были очень тяжелыми. Врачи находили, что у Милены не может быть детей. И чем меньше надежд оставляли ей доктора, тем сильнее тосковала она по ребенку. Плакала ночи напролет. Но после операции и курортов наконец забеременела. Мы словно заново родились и с нетерпением ждали появления младенца. Снова и снова Милена считала месяцы, недели, дни. Она точно очистилась от какого-то греха, снедавшего ее душу. И даже запела. Старательно береглась, и я помогал ей, чем только мог. Но как-то поехала к врачу и не вернулась. Автомобильная катастрофа. Радовались мы всего пять месяцев…
Я чувствовал себя камнем, брошенным на дно реки: жил сам собой, сам по себе и сам в себе, неизменно вновь и вновь воскрешая картины ее страданий. Мне казалось, что жизнь кончена. И где, как не в работе, оставалось искать забвения, утешения и помощи? И лекарства для незаживающей, мучительной раны.
Но недаром говорится, что время и труд – лучшие лекари.
В один прекрасный день я с удивлением отметил, что, работая в саду, насвистываю какой-то мотивчик. И что у меня вполне сносно на душе. И я радуюсь, предвкушая, как начнут наливаться соком маленькие еще, бледненькие яблочки. И как мы соберем урожай. В то время у нас начала плодоносить первая яблоневая пальметта и мы готовились насадить вторую…
Мороз щиплет лицо. Отяжелевшие веки закрываются сами собой, ноздри слипаются, а щеки надо растирать, чтоб не поморозить.
Я возвращаюсь. Сбрасываю кожух. На очереди еще один томительный, пустой вечер. Сажусь за книгу, но поминутно откладываю ее в сторону… Дышу на замерзшее окно и сквозь отпотевшее, но быстро затуманивающееся стекло гляжу на дрожащее от холода звездное небо. И сердце у меня дрожит, как искристый небесный свод. Меня гнетет страх, что все мои труды, моя последняя радость, пойдут прахом, погибнут. Мне зябко, я ложусь в постель, но не сплю. Думаю. О жизни, обо всем, что взбредет в голову.
Ева.
Чем объяснить, что она так прикипела к моему сердцу? Каким околдовала его колдовством? И почему именно ее я полюбил? Не возьму в толк, не знаю. Но неотступно думаю о ней. Все в ней привлекательно. Черты лица… Фигура… Конечно… И потом – эта искрометная живость в минуты душевного равновесия. Она ждала, она решилась. Я это видел, я не мог обмануться. Она стремилась к близости. И все-таки что-то связывало ее и наконец сковало совсем; она запуталась. Вот только в чем?.. Когда мы встретились, она сразу приглянулась мне; я был даже рад, эгоистически рад, что ей довелось изведать, почем фунт лиха. Не так ли было и со мною? Кто выстоял, несмотря на страдание, тот стал сильнее, тот сможет выдержать и горшие испытания. Он шире душой и щедрее сердцем… Сложнее и понятливее. Благодарен за понимание, за доставленную радость. А этот ее бывший муж? Не мог придумать для нее ничего лучше, как обречь еще и на разрыв. Вот о чем я размышлял непрестанно.
Значит, все потеряно! Снова я один. А труды рук моих губит мороз…
Я выглядываю в окно. Оно все затянуто густой изморозью. Где-то за стеклом угадываются мерцающие звезды. А я съежился в комок, словно и меня сейчас обжигает, режет, сечет смертельный холод. Пробирает до костей… Мысли мои о том, что могло случиться и не случилось. Я опустошен. У меня вынули сердце и душу. Я сливаюсь со всем, что там, снаружи, за окнами, где крепчает трескучий мороз. Я весь дрожу и проклинаю стужу. И молю небо послать снег, чтобы он мягкой подушкой прикрыл землю.
Наконец-то пришла весна. Лазурное, словно начисто вымытое небо дышит теплом, лишь изредка кое-где проплывает ослепительно белое облачко. Солнце словно решило возместить нам ущерб за свои зимние упущения. Светит и греет с раннего утра.
Прутики верб уже порозовели, а на межах и в канавках среди прошлогодней травы проглядывают головки мать-и-мачехи и первой молодой зелени. Воздух напоен влажным дыханием земли и звенит птичьим щебетом.
А у меня перехватывает дыханье. Изо дня в день обхожу я свой сад, от деревца к деревцу, снова и снова пристально осматриваю их. Я едва бреду, с трудом передвигаю ноги… Сердце мое обливается кровью, а на глаза набегают слезы. Какая жалостная участь – смотреть в лицо деревьям, которые ты сам посадил, пестовал, холил, лечил, и вот теперь они стоят мертвые посреди весны, раскрывающей свои объятья. Топорщатся их голые стволы, торчат, как скелеты. Ветви уцелели, а душа – вон. Все персики и абрикосы на плантации вымерзли. Их спалило морозом, не выжило ни одно деревце. Яблоням и грушам тоже пришлось несладко. Хотя по некоторым веточкам уже побежали соки, но почки распускаются далеко не на всех. На многих стволах и ветках чернеют трещины. Этим горемыкам предстоит долгое лечение, восстановление или ампутация обмороженных мест. Столько труда пошло прахом. И сам я кажусь себе калекой, побитым морозом, убогим и сирым.
Мне жаль себя, я горюю и предаюсь воспоминаниям. Как же это было давно, когда молодым выпускником агрономического училища я впервые пришел сюда и заложил этот сад: впервые взял в руки мотыгу и заступ и, выкопав яму, посадил первое деревце. Из старых досок воздвиг сарайчик для инструмента. Сколько изматывающей работы потребовалось, сколько крови и пота было пролито, прежде чем на пустынном, заросшем сорняком склоне, где поодиночке росли высоченные старые яблони да редкие ореховые деревья, раскинулся наш сад. Я давно уже врос корнями в эту почву. Пережил с нею бури и метели, град и стужу, ливни и изнурительную жару. Дни и ночи, в будни и праздники я страдал и радовался вместе с садом. Сколько пропало трудов и надежд! Зря старался, Адам, зря изводил себя работой!
Так вот стою я у своих персиков и чувствую себя словно на похоронах самого близкого друга. Тру глаза и вздыхаю… Мысленно представляю себе лица и слышу голоса людей, которые, глядя на мои труды, с ухмылкой предрекали мне неудачу.
«Дождался, Адам! Мы ли не упреждали? Это тебе хороший урок! Такой крах надолго излечит тебя от глупостей. Небось поумнеешь!»
Все вели себя так, словно я спятил. А почему? Да потому лишь, что сами – по лени или из боязни – не рисковали предпринять что-нибудь новое. А может, они были правы? Что, это они-то правы? Про себя я постоянно веду с ними бесконечный спор. И хотя терпеть мне невмоготу, высказываться вслух остерегаюсь: приходится признать, что они не ошиблись. И покориться. Что же теперь остается?
Так я рассуждаю и жалею себя, озираясь, как затравленный зверь. И вдруг отмечаю, что не меня одного постигла эта беда. Давний мой неприятель, снегирь, без толку мечется с дерева на дерево. Вот уж продувная бестия! Любит полакомиться почками и бутонами; своим прожорливым клювиком выщипывает почки абрикосов, персиков и вишен. Иногда после его пиршеств в кроне дерев всю землю вокруг ствола усеивают красноватые чешуйки и ветви не приносят плодов. Теперь он в растерянности – попусту ищет, чего бы поклевать. Хорошенькое для меня утешенье, ничего не скажешь.
И все-таки… этот воришка вывел меня из летаргии. Из сада его надо выжить. Я знаю, чем его донять! У меня и без него цветущих деревьев раз-два и обчелся, а тут еще он будет вышелушивать и губить почки…
Снегирек высек во мне первую искру жизни. За работу, Адам!
Со вздохом оглядываюсь вокруг.
Бреду по разоренной персиковой плантации, по этому мрачному кладбищу надежд – и вдруг замираю от изумления. Ничего не могу понять. Не обманывает ли меня зрение? У самого края участка вижу отросток молодого персикового деревца. Оторопев от удивления, разглядываю кожицу с легким красноватым налетом, едва заметным и прекрасным, как багрянец раннего рассвета. Как робкая, неуловимая улыбка, тронувшая застывшие на морозе девичьи губки.
Протягиваю к веточке дрожащую руку. Дотрагиваюсь, затаив дыханье, легонько сгибаю. Жива?.. Чувство такое, будто я нащупал у тяжелораненого слабенький пульс. Жива! Оглядевшись, начинаю расхаживать туда-сюда… Поразительно. Здесь, именно здесь, только с краю участка, на нескольких рослых, вытянувшихся саженцах заметны признаки жизни. Я придирчиво изучаю все вокруг – но увы! Ничего больше нет. И все-таки… отчего они выжили только здесь?..
У меня нет ни мотыги, ни заступа, и я руками разгребаю слой сырого грунта вокруг деревца. Стоя на коленях, отбрасываю мягкий настил руками… А теперь обдираю пальцы о твердую, заскорузлую на солнце, неразрыхленную, быльем поросшую землю. Перемазанные землей пальцы кровоточат; кровь прилила к голове, кровь пришла в движенье, заиграла. Сердце бьется отчаянно, беспокойно. Не понимаю, не могу поверить…
Выжило всего несколько саженцев, вокруг которых почву не взрыхлили. Они ослабли, но корни у них не померзли. Циркулируют соки. Не тут ли кроется причина? Возможно ль? Уж не грежу ли я? Не сошел ли с ума?
Снова принимаюсь за работу. Снова голыми руками разрываю и отбрасываю почву, снова и снова исследую все вокруг. Кругом мертвые, морозом опаленные деревца, а рядом – живые, начинающие дышать. Да, это факт, почву здесь не рыхлили. Но кто же догадался?
Вдруг сообразив, я усмехаюсь. От удовольствия потираю ободранные в кровь, измазанные землей руки. Да ведь это же Олдржих! Этот лодырь! Треклятый негодяй! Сейчас мне хочется расцеловать его в обе щеки!
Я вспомнил: когда мы окапывали посадки и настилали вокруг дерев слой грунта, Олдржих торопился к Еве. Не разрыхлив землю у корней, он просто насыпал вокруг саженцев мульчу. И успел-таки к Еве. (Тогда я говорил себе – вот какой чудодейственной силой обладает любовь!) Торопыга, мой обожаемый прохвост, окаянный мой пустомеля и обманщик! Он защитил, спас меня от неотвратимой беды. Я готов пуститься в пляс. Все во мне ликует и смеется. К черту сожаления! В душе проснулась надежда. Я уже не чувствую себя побежденным, не скорблю по загубленным трудам. Разве, несмотря на все постигшие меня несчастья, я не стал богаче? Несмотря на дорогую цену, которой оплачен мой опыт, разве не приблизился к цели? Я чувствую себя более сильным и более мудрым, чем прежде. Чтобы изведать счастье первооткрывателя, не обязательно быть изобретателем, ученым, художником или космонавтом, не обязательно проводить время у кибернетических машин. Я смеюсь и кричу про себя: «Глупый, глупый Адам! И как это раньше не пришло тебе в голову? Окапывать осенью персиковые деревья, рыхлить вокруг них почву можно только там, где они родились. На юге. А в наших условиях? Разве лишь для того, чтобы холод легче добирался до корней. Ах, каким же ты был ослом, Адам! Велика ли важность, что все другие деревья принято окапывать? Глупец, неисправимый глупец!» Ругаюсь, а самого не покидает ощущение счастья. И тут меня осеняет еще одна идея. А что, если высаживать саженцы весною, а не осенью? Они приживутся, примутся до наступления наших свирепых морозов. Уже на первом году жизни наберут сил, станут более выносливы. Прикорневая земля останется неразрыхленной и морозу не так легко будет проникнуть вглубь!
Сердце мое бушует вовсю. Жажда жизни, дремавшая во мне, теперь пробудилась, новые силы бьют через край. Обретенная мудрость и жажда жизни! Так что же потеряно? – спрашиваю я сам себя. Время и труд. Но то, что приобретено, куда ценнее. По-моему, мир только теперь родился заново…
Итак, нужно было снова приниматься за работу. Чтобы вернуть разоренный и разрушенный сад к жизни, работать пришлось ох как много! И действовать решительно, чтобы потери не множились, а раны затянулись как можно быстрее. На поврежденных стволах могли угнездиться какие угодно вредители. Нельзя было терять ни минуты. Следовало провести основательное опрыскивание и одновременно удобрить почву, чтобы помочь ей как можно скорее подкормить исстрадавшиеся деревья. Погода нам благоприятствовала, зато с химикалиями и удобрениями, которые были нужны до зарезу, пришлось изрядно помучиться. Ведь мороз набедокурил не только у нас. Но к счастью, в наших кладовых кое-что нашлось. Всякий хозяин уже в начале зимы знает, что ему потребуется весною. А поскольку с реализацией заявок у нас не торопятся, я придерживаюсь своего правила; уж не знаю, понравится это признание или нет, но всегда нужно попридержать кое-что на черный день. Малая толика сэкономленных у нас запасов очень нам помогла.
Вкалывали мы с утра до вечера, едва с ног не валились. Но в труде, спасающем то, что еще можно спасти, есть особый вкус. Ликует и молодеет душа.
Как-то около полудня я возвращался домой с опрыскивателем за плечами, весь в поту, забрызганный рacтвоpoм. И вдруг ноги мои сами собой остановились, на косогоре, на фоне ясного, залитого солнцем неба, цвела молодая чудесная вишня. Она очаровала меня своей свежестью и целомудренной красотой. Пережив непогоду и стужу, она выстояла и, усыпанная белыми, почти прозрачными цветами, являла теперь свою молодую силу. С естественной непринужденностью, как невеста, горделиво выставляла она всем на обозрение свою блистающую, чистую красоту, открывая солнцу и пчелам зовущие объятья.
Я долго не мог отвести взгляда от ее кроны, пронизанной лучами солнца; стоял как зачарованный и неотрывно смотрел перед собой. И вдруг ощутил, что в этом пронизанном весной, благоуханном воздухе витает еще чей-то образ… Ева… Это ее милой черноволосой головкой я любуюсь, ее искрящимися лукавством глазами, что нимало не стыдятся отражать ненасытный жар, молодой и нерастраченный огонь женской души. Любуюсь нежной и смуглой кожей ее освещенного радостью лица с блуждающей на губах мягкой и доверчивой улыбкой. В звучное жужжанье насекомых вплелся и ее счастливый, заливистый и звонкий смех. Его задушевность согревала сердце…
Такое творилось со мной всю зиму; наверное, я и в самом деле ни на мгновенье не переставал думать о Еве. И теперь, как только проглянуло теплое весеннее солнце, рука об руку бродил с ней по саду… Что-то рассказывал, а она слушала, положив голову мне на плечо… А ночью… Смотрю в окно на мерцающее звездами небо. Лунные лучи окутывают меня паутиной сна. Ева проскользнула ко мне под одеяло, она со мной, лежит рядом. Она моя. С незапамятных времен – моя.
Как часто принадлежала она мне в сновидениях! И все-таки сердце мое давно уже так не исходило истомой, как сегодня.
Вернувшись домой, я подсел к письменному столу и покосился на телефон…
Во мне все еще жило ощущение весеннего аромата разбуженной солнцем земли, цветов и свежей зелени; память о той незабываемо прекрасной минуте возле окинувшейся белым цветом вишенки-невесты, о том страстном томлении, что так мощно и настоятельно пробудилось во мне. Оно было так сильно, что я не мог унять дрожь. В нем слились все мои радости и страсти; мои жизненные невзгоды, мгновенья добрые и злые, мои мечтанья, уже похороненные и еще не умершие во мне; все оставшиеся мне дни и ночи, время, отведенное мне судьбою.
Я поднял телефонную трубку.
Зазвенел звонок, к телефону подошла она, Ева…
Я выговорил только ее имя и почувствовал, как кровь жарко прилила к щекам.
Она отгадала, кто звонит. Наверняка. Но не отозвалась. Долго молчала. Я явственно слышал ее прерывистое дыханье.
– Адам?..
Узнала и все-таки переспросила.
Как быстротечны мгновенья…
– Я… Захотелось услышать, как ты смеешься, Ева. Я люблю твой смех. Мне бы…
Голос мой не слушался меня, я стал запинаться. Мы оба смолкли…
– Повтори это еще раз, Адам… – прошептала она, помолчав.
– Мне бы хотелось, Ева, услышать твой смех. Мне недостает его. Когда я слышу, как ты смеешься, у меня теплее на душе.
Время неслось стрелой.
Прижав трубку к уху, я слышал каждый ее вздох, ее мучительные попытки унять биенье сердца. Волнение выдавало Еву.
Наконец в трубке прозвучал ее глухой, какой-то сдавленный голос:
– Приезжай, Адам.
Какой чудесный день! И как раз на девятое мая! Такой же солнечный и свежий, как в сорок пятом. Радостные картины окончания войны с самого утра немыслимым образом переплетаются с нетерпеливым ожиданием встречи с Евой. Эти чувства напоминали тогдашнее мое представление о счастье. Страстное напряжение, охватывающее при мысли, что ты на пороге новой жизни.
Ева…
Мы пошли на Ржип. В конце концов. На несколько месяцев позднее того, как я впервые предложил ей подняться на эту могучую, славную своей историей гору.
Яркий солнечный день так и манил на прогулку.
Взявшись за руки, мы шли по тропинке, вившейся средь молодо зеленеющего поля. В небе заливались жаворонки, ласковое солнышко обнимало нас. Теплая Евина ладонь, которую я держал в руке, согревала мне сердце. Не сводя друг с друга глаз, мы говорили не умолкая, особенно я.
Ведь Ржип – это тот уголок, где прошло мое детство. Ева внимательно слушала.
А я рассказывал, как детьми мы играли тут в войну. Мы или обороняли, или захватывали дорогу на Ржип. С отцом нам случалось здесь и браконьерствовать – мы ставили силки на зайцев. Ну а уж сколько здесь грибов! Пропасть!
Я говорил без умолку, чтобы скрыть бурю, что бушевала во мне. И не была ли моя болтовня ее проявлением? Скорее всего, именно так. Да, конечно, это было так.
А Ева с увлечением слушала. Изредка даже весело, заговорщицки смеялась. Особенно когда я рассказывал о своих юношеских романах. Разыгрывались они как раз здесь. Это забавляло ее. Но вдруг, остановившись, она окинула меня сияющим, искрящимся взглядом и с вызовом сказала:
– Каков гуляка! Может, ты и до сих пор этим увлекаешься? Вот уж я бы этого не позволила!
И рассмеялась.
Да, так и заявила: «… уж я бы этого…» А ведь я признавался всего лишь в своих ребяческих увлечениях. Мне почудилось? Вряд ли, в ее словах, в самом тоне, каким они были произнесены, звучало тщательно скрываемое беспокойство. Фраза была сказана не просто так, а с каким-то тайным значеньем. Каким? В голосе Евы чувствовалась настороженность. Нет, я не ошибся. В ней словно что-то застыло от страха. Не заговорила ли тут ревность? Но ревность – и Ева? Ведь она скорее склонна к кокетству. Меня ее выпад ободрил и обрадовал.
– Вот уж нет! – с жаром оправдывался я. – Ни в коем разе, нет, Ева.
Я с наслаждением вслушивался в звучание ее имени, в доверительную близость этого обращения.
Словно спохватившись, что проболталась, Ева поспешно попыталась откреститься от сказанного.
– Нет, я другое имела в виду. – (Выдала-таки себя!) – Я тебе верю. Мне хотелось бы знать о тебе все, как можно больше. Да, да, продолжай, Адам.
Нас обоих охватило волнение. Больше всего мне хотелось сейчас сжать ее в своих объятьях. Но я никак не мог справиться с самим собой, еще не свыкся с этим ее переходом от долгого, как вечность, молчания к внезапной просьбе: «Приезжай, Адам!» Меня не оставляло чувство робости и смущения. С той самой минуты, когда она таким доверительным и мягким, неподражаемо женским движением, залившись легким румянцем, непринужденно вложила ладошку в мою руку и когда я неуверенно пожал ее. Присутствие Евы радовало и одновременно сковывало меня.
Нарушив ход моего рассказа, она сбила меня с толку. О чем, собственно, я говорил?
Мы медленно поднимались к подножью Ржипа разъезженной полевой дорогой, которая тянулась невдалеке от длинной липовой аллеи. Здесь начинался отлогий склон, поросший травой, редкими кустами шиповника, терновником и цветущим боярышником. То там, то сям попадались старые одичалые черешни. Каждый шаг рождал воспоминания детства. Детские шалости и проказы…
Ева легонько сжала мне руку.
– О чем ты задумался? Скажи! – потребовала она и застала меня врасплох.
– Взгляни, этот дикий пустынный склон – роскошная, но бесполезная декорация! Ты не находишь, Ева? В такой-то местности! А ведь здесь можно было бы разбить сад. Как по-твоему? Сад у подножья горы Ржип… – Я пришел в восторг от своей неожиданной идеи… Она осенила меня во время прогулки с Евой!
– А не прихоть, не причуда ли это, Адам? Мне здешние кустарники по душе. Я люблю шиповник и боярышник. И акации тоже… Девчонкой я любила обсасывать их цветы… сердцевина у них такая сладкая… А цветущий шиповник… Зимой его красные плоды так трогательно выглядывают из-под снежных чепцов. Я любила дохнуть на них и смотреть, как подтаивает снег. Мне казалось, что шиповник роняет слезы. – Ева рассмеялась и в шутку заключила: – А тебе бы все только пересадить да окультурить!
Я чуть помолчал. Она говорила со мной так доверчиво, задушевно, будто исповедовалась.
Но идею свою я начал защищать. Причуда? Фантазия? Да ведь наш первый сад мы так вот и заложили… Ева снова пожала мне руку и задала несколько вопросов. На удивление конкретных… Ну да, конечно. Ведь она все понимает. Все-таки специалист. Потом задумалась.
– Я тебе не надоел? Извини, пожалуйста…
– Да нет, с чего ты взял!
Мое извинение смутило Еву, ее щеки полыхнули румянцем.
– Мне нравится, когда ты так воодушевляешься, – сказала она, понизив голос.
Как будто приласкала меня.
Мы поднялись на вершину Ржипа. Беловатая опоковая ротонда. Остановились возле нее. Да, да, это все та же часовенка. В свое время князь Собеслав повелел поставить ее в честь своей победы, он наголову разбил тогда войска немецкого князя Лотаря. Ротонда, конечно, еще романского стиля и напоминает сосочек на прекрасной округлой груди горы. Сказать или нет? Нет, лучше промолчу.
Я вел Еву дальше. Еле заметной, почти тайной тропкой, что вилась среди буйного кустарника, под раскидистыми, зазеленевшими уже буками, мы прошли к северному скалистому боку горы.
– Вот оно, это место.
Я обещал Еве показать мой с детства любимый уголок.
Отодвинулся, уступая ей дорогу: для двоих тропинка была чересчур узка.
Невольно вскрикнув, Ева обмерла:
– Какая красота!
Для нее это было полной неожиданностью. Лес вдруг обрывался… И открылось каменистое, до зубчатых скал обнаженное тело горы. Кроны буков, окружавших подножье Ржипа, виднелись глубоко под нами. Полуденный воздух был напоен густым ароматом леса, кустарника, прогретого мха и богородской травки, которая взобралась даже сюда, на замшелые базальтовые отроги.








