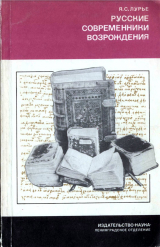
Текст книги "Русские современники Возрождения"
Автор книги: Яков Лурье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– И ты… таковаго царя или князя да не послушавши, на нечестие и лукавьство приводища тя (направляющего тебя), аще (даже если) мучит, аще смертию претить (угрожает)!{125}
По решительности и откровенности высказанного им мнения автор трактата, адресованного иконописцу, пожалуй, превосходил всех своих современников – даже автора «Слова о рахманах». Но гнев автора трактата был вызван только одной причиной – «неверием» князя, подымавшего руку на церковь и ее имущество. Вопросы же общественного неравенства, встававшие и в «Слове о рахманах», и в «Повести о Дракуле», его явно не волновали.
И главное – смелость его была смелостью отчаяния. В споре, которые вели обличители ереси со своими противниками в 80-х и начале 90-х годов, все время присутствовал один мотив: ожидание надвигающегося и скорого конца мира. Что сулил близкий 7000-й год? В послании Иоасафу, написанном в 1489 г., Геннадий прежде всего просил бывшего ростовского владыку посоветоваться с Паисием и Нилом о том, него ждать, когда «прейдут три лоты» и кончится «седмая тысяща»; он вспоминал слова, сказанные ему еретиком Алексеем:
– И мы, деи (дескать), тогды будемь надобны{126}.
Еретики ждали 7000-го года с надеждой, Геннадий – со страхом и недоумением. Если мир не кончится, окажутся «надобны» еретики, если кончится, то все человеческие дела и споры – суета сует. Семитысячный год неуклонно приближался.
«Того бо державный во всем послушаше»
Новый год в то время на Руси начинался осенью. Семитысячный год наступил утром 1 сентября 1491 года. Люди остались живыми – мир не кончился. А спустя несколько дней произошло событие, которое, конечно, не было равно светопреставлению, по многих все же сильно взволновало.
Великий князь Иван Васильевич пригласил к себе брата – Андрея, княжившего в Угличе. Отношения между Иваном и Андреем давно уже не были братскими; однако за три года до этого Иван Васильевич торжественно поклялся брату, что не имеет против него никаких враждебных намерений – углицкий князь поэтому без страха отозвался на приглашение великого князя. Братья немного побеседовали, затем Иван Васильевич ушел, а на его место явился боярин Ряполовский и, неожиданно всплакнув, оповестил гостя, что тот «пойман» (арестован) «богом да братом своим старейшим». Тем временем в Угличе, в княжеском дворце на берегу Волги, были захвачены дети Андрея и его бояре, а из Волоколамска вызван другой брат Ивана – Борис. Борис Волоцкий знал уже о судьбе Андрея, он участвовал во всех выступлениях углицкого князя и мог поэтому догадываться, что его ждет в Москве. Однако час его еще не пришел – великий князь отпустил Бориса домой, и, уехавший в страхе, он вернулся в великой радости. Но испытанное волнение оказалось слишком сильным – волоцкий князь не пережил углицкого; спустя два года Андрей умер, замученный тюремщиками, и почти тогда же в московскую великокняжескую усыпальницу привезли мертвого Бориса{127}.
Смерть обоих братьев произвела сильное впечатление на современников. Иосиф Санин, чей монастырь был построен главным образом от щедрот князя Бориса Волоцкого, посвятил памяти умерших князей прочувствованное послание. Рассуждения о «царе-мучителе» обретали конкретный смысл. Иосиф многозначительно напоминал в послании о Каине, тоже некогда погубившем брата, хвалил покойных князей за твердость в вере и горевал, что они покинули нашу землю как раз в то время, когда в мире умножились грехи и появилось самое страшное зло – ереси{128}.
Федор Васильевич Курицын был несомненно одним из тех, в кого метил Иосиф Волоцкий. Нет оснований приписывать Курицыну участие в «поимании» князя Андрея, но несомненно, что смерть обоих князей его ничуть не огорчила: в его глазах они были прежде всего столпами старого удельного строя, людьми прошлого. Одно за другим уничтожались и присоединялись к великокняжеским владениям последние удельные княжества. В 1486 году умер белозерский князь Михаил Андреевич, и Белоозеро было окончательно подчинено Москве. Тем самым рушилась и относительная независимость Кириллова монастыря.
Курицына такое усиление власти государя могло только радовать. Гораздо труднее было Федору Васильевичу примириться с другой расправой, учиненной в 1490 г. с ведома и согласия великого князя. За два года до несостоявшегося «конца мира» Иван Васильевич, уступая настояниям церковников и желая, может быть, очистить свою душу перед надвигавшимся светопреставлением (еретики могли быть и предтечами Антихриста!), предал соборному суду наиболее опасных новгородских вольнодумцев. Поп-еретик Алексей, не веривший, что в 1492 году наступит конец мира, умер за два года до этой даты – «не дождал» (как потом злорадно писал Геннадий){129} исполнения своего пророчества, но его товарищи были осуждены, отлучены от церкви и разосланы по разным концам государства для наказания. Особенно старательно осуществил это наказание новгородский владыка. Опыт иноземцев, который Геннадий ценил не менее Федора Курицына, но по-своему, пригодился ему: рассказ об испанской инквизиции в «Речах посла цесарева» получил теперь практическое значение. Следуя «шпанскому королю» или опираясь на восточноправославную практику, Геннадий превратил расправу с еретиками Денисом, Захаром и другими в зрелище поучительное и не лишенное забавности – как ее понимал новгородский владыка. Одетые в шутовские наряды, в берестяных шлемах с надписью «Сатанино воинство», еретики были посажены на коней лицом назад и проведены по шумным новгородским улицам, а затем береста на головах осужденных была подожжена. Это была не смертная казнь – сгорели только шлемы и волосы осужденных, да еще кожа на голове; по Денис, проявивший во время следствия твердость и не признавший себя виновным ни в чем, кроме «невоздержания языка», ее не выдержал: когда с него сняли шлем, он заблеял по-козлиному – предался вселившемуся в него «бесу хульному», как удовлетворенно заметил Иосиф Волоцкий в «Просветителе»{130}.
Федор Васильевич знал, конечно, о судьбе Дениса и его товарищей. Курицын разделял далеко не все воззрения своих новгородских знакомцев – некоторые их взгляды (например, отрицание всей церковной иерархии, а возможно и сомнение в догмате о Троице) могли казаться ему сомнительными и опасными; но расправа над людьми, с которыми он был так или иначе связан, наверняка не могла не огорчить его. Немного утешало, однако, то обстоятельство, что и гонители еретиков не добились того, чего они хотели. Далеко не все, на кого они доносили, были подвергнуты суду; некоторые из новгородских еретиков избежали наказания, а московских еретиков преследования совсем не коснулись.
Ни Геннадий, ни Иосиф Волоцкий никак не могли считать себя удовлетворенными. Геннадий писал митрополиту и собору епископов, что еретическая «беда» началась с приезда Курицына «из Угорские земли», что еретики собираются у Курицына, что «оп-то у них печальник (покровитель)» и «начальник», «а о государевой чести попечения не имеет». Никакого влияния эти заявления не имели, никаких доносов на своего дьяка великий князь не принимал. Мало того: спустя некоторое время обличители ереси смогли убедиться, что поставленный в 1490 г. на митрополию и начавший свою деятельность осуждением новгородских еретиков Зосима им вовсе не союзник. Напротив, вслед за великокняжеским дьяком и митрополит стал покровительствовать уцелевшим от расправы вольнодумцам. Глава новгородских еретиков успенский протопоп Алексей не был вопреки настояниям Геннадия посмертно проклят собором, не тронуты были и его ученики, сыновья и зять Иван Максимов, сын осужденного попа Максима. Теперь они стали столь же частыми гостями у Зосимы, какими были в 80-х годах Алексей и Денис у Курицына. В послании суздальскому епископу Нифонту, иерарху, на которого оп еще считал возможным надеяться и которого даже именовал «главой всем», Иосиф Волоцкий писал, что еретики «не выходят и спят» у митрополита. Самого Зосиму он объявлял теперь «сатаниным сосудом» и «антихристовым предтечей». Он приводил даже, ссылаясь на своего брата Васснана, «собственные слова», якобы сказанные главой церкви, позволявшим себе отрицать бессмертие души: «Умер, деи (дескать) ин (кто-нибудь), то умер – по та места (до тех пор) и был»{131}.
Но жалобы на митрополита мало помогали: можно было поколебать положение Зосимы, но «начальник» еретиков оставался неуязвимым. «Того бо державный во всем послушаше (ибо его князь во всем слушался)», – написал о Федоре Курицыне в своих личных экземплярах – двух списках «Просветителя» Иосиф Волоцкий пятнадцать лет спустя. Написал и зачеркнул – даже после окончания еретической «бури» так откровенно говорить о влиянии дьяка-вольнодумца на «державного» было небезопасно{132}. А в 90-х годах бороться с Курицыным было обличителям и совсем не по силам. Сподвижники Геннадия говорили даже, что их враг неспроста приобрел такую власть, что дело не обошлось без «звездозакония» (колдовство по звездам) и чародейства.
Звезда Федора Васильевича и вправду была в зените. Все сношения с иностранными государствами происходили при его участии, он принимал в конце 80-х и в 90-х годах послов «цесаря» (германского императора) Поппеля и фон Турна, передавал им «речи» Ивана III. Именно он, услышав от «цесарева» посла предложение поставить московского великого князя «кралем», ответил от имени своего государя гордыми словами:
– Мы божию милостию государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей… а поставления как есмя наперед (прежде) сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим{133}.
В 1494 г. он отвозил в Вильно дочь Ивана III Елену, выданную замуж за великого князя литовского Александра, сына Кавимира, а на обратном пути посетил Ливонию. В милость попал и брат Федора – Иван-Волк, перенявший у старшего брата его склонность к религиозному свободомыслию и дипломатические таланты: Иван-Волк несколько раз ездил с посольством в Германию.
Преобразования, к которым стремился Федор Курицын, приобретали реальные черты. Великий князь уступил Геннадию и его собратьям, согласившись на осуждение новгородских еретиков, но он продолжал отбирать земли у церкви, а заодно и у опальных князей и бояр – новгородских и даже московских. Вместо них на этих землях появлялись новые хозяева – помещики, обязанные государству военной службой, представители захудалых и малоземельных родов и, что было уже совсем необычно, бывшие рабы – холопы тех самых бояр, которые попали в опалу.
Не состоявшийся «конец мира» дал в руки сподвижникам Курицына важный козырь в спорах с противниками. Митрополит Зосима выпустил в свет новую пасхалию взамен той, которая была доведена только до 1492 г., и в предисловии дал новые и смелые толкования евангельских слов: «И будут перви последний и последний перви». «Первые» – это греки, ныне же, когда Константинополь пал и греки стали «последними», роль их переходит к «государю и самодержцу всея Руси» Ивану III и к «новому граду Констянтину – Москве и всей Русской земле и иным новым землям». Но это был не единственный вывод, сделанный русскими вольнодумцами из споров о «конце мира». Неизбежное светопреставление предсказывали отцы церкви. Предсказание не сбылось – значит «святые отцы солгали». Но если они солгали в одном случае, следовательно, могли солгать и в других. Ведь именно «отцами церкви» было установлено и монашество. Правильное ли это установление? Не противоречит ли оно тому, что сам Иисус Христос не был монахом? Не следует ли русскому государю вовсе уничтожить монастыри?{134}
Слухи о грядущих переменах одни других мрачнее ходили по монастырям. Иосифу Волоцкому и его сподвижникам приходилось теперь уже не нападать, а защищаться от еретиков. Обличители ереси напоминали о монастырской благотворительности, указывали на толпы нищих, получающих милостыню от монастырей, но доводы эти звучали не очень убедительно. Нищие, действительно, постоянно толпились около обителей, но монашеская милостыня не уменьшала, а увеличивала их число – чем больше было монастырей, тем больше нищих. Чтобы унять опасные толки, Иосиф – глава богатой обители, требовал от монахов, владевших иногда немалыми ценностями, полного отказа от личной собственности: в обители не должно быть бедных и богатых монахов; все они равны в одежде и пище; у себя в келье монах не должен иметь даже собственной книги, иконы или чаши. Лишить монахов собственных «келейных сборников», подобных ефросиновским, Иосиф, естественно, был не прочь. Но мог ли волоколамский игумен действительно рассчитывать на спасительность своих строгих правил? Великому князю нужны ведь были не монашеские книги, а монастырские земли.
Расстановка сил при великокняжеском дворе также не сулила ничего доброго Иосифу Волоцкому и его сторонникам. Обстановка была довольно сложной. Иван III был женат дважды. Первая его жена, как мы уже упоминали, умерла рано. Вторично Ивап III женился на Зое Палеолог – «цареградской царевне», племяннице византийского императора, на Руси ее переименовали в Софию. Сведения о жизни Зои на Западе довольно скудны – есть предположение, что до Ивана III она успела побывать замужем за итальянским принцем, но рано овдовела. Воспитана она была при дворе римского папы в католическом духе и при том весьма строгом. Поэтому идеи Возрождения не были восприняты ею: гуманисты, влюбленные в те годы во все греческое, еще в Риме пытались завязать знакомство с наследницей Палеологов, но испытали разочарование. Единственное, чем поразила их царевна, была ее непомерная полнота (наиболее язвительный из ее итальянских гостей уверял даже, что после посещения Зои ему всю ночь снились масло, сало и другая жирная снедь){135}. В одном отношении, однако, итальянский опыт, соединенный с богатыми византийскими традициями, помог Зое-Софии в России, – приехав в Москву и оказавшись в центре придворных интриг, тучная «царевна» обнаружила в них необычайное проворство.
Первая жена Ивана III – «тверянка» – успела родить ему сына – Ивана Молодого, который считался наследником великого князя. Иван Иванович был женат на дочери молдавского господаря Стефана Великого, Елене, занимался военными и дипломатическими делами и считался даже соправителем своего отца. Но в 1490 г. он внезапно умер, и перед Иваном Васильевичем опять встал вопрос о преемнике. У Софии к этому времени тоже родился сын – Василий, но великий князь вопреки настояниям жены хотел сделать наследником не Василия, а Дмитрия, своего внука, сына Ивана Молодого и Елены Стефановны. Это был не только семейный спор. Елена, дочь Стефана Великого, воспитанная в Молдавии, где было немало гуситов, сочувственно относилась к Курицыну и его товарищам и участвовала в еретическом кружке. София, напротив, никакой склонности к свободомыслию из Италии не привезла: как и Геннадий, из всех западных нововведений она больше всех ценила одно – инквизицию. Недаром рассказ об испанской инквизиции был передан новгородскому владыке слугой Софии Палеолог, приехавшим с нею на Русь, – Юрием Траханиотом.
В конце 1497 г. борьба стала открытой. Узнав о том, что Иван III собирается назначить Дмитрия своим соправителем, София добыла «зелье» – яд, который мог ей понадобиться для борьбы с соперниками; по плану заговорщиков, поддерживавших великую княгиню, Василий Иванович должен был бежать на север, на Вологду и Белоозеро, захватить хранившуюся там великокняжескую казну и начать открытую борьбу. Но он не успел этого сделать: заговор был раскрыт, яд у «цареградской царевны» отобран, и великий князь стал жить в «береженьи» от своей чересчур предприимчивой супруги. Сына он велел запереть во дворце под надежной охраной, заговорщиков казнил. А спустя несколько месяцев внук Ивана III Дмитрий, сын еретички Елены Стефановны, был объявлен великим князем Владимирским и Московским и коронован венцом, о котором до того времени не упоминалось в летописях, – шапкой Мономаха.
Провал заговора Василия и коронация Дмитрия-внука совпали еще с одним важным событием – появлением Судебника 1497 г., первого общерусского кодекса законов после древней «Русской правды». Имел ли Курицын какое-либо отношение к введению этого кодекса? Исследователи усматривали связь между рассуждениями о борьбе со «злом, татьбой и разбоем» в «Повести о Дракуле» и провозглашением «правого суда», направленного против «татьбы», «разбоя» и всякого «лихого дела» в Судебнике. Но в «Повести о Дракуле» говорилось не только о борьбе со «злом», но и о равенстве всех – бояр, священников, иноков и «простых» – перед законом. Соответствовал ли Судебник этому идеалу? Еще «Русская правда» резко разграничивала наказание за убийство или преступление, совершенное против «княжа мужа», «людина», «смерда» (крестьянина) и холопа; сходное разграничение предусматривал в XVI веке и Судебник Ивана Грозного для наказания за оскорбление, нанесенное детям боярским, «гостям большим», «торговым людям» или крестьянам. Но в Судебнике 1497 г. такого разграничения нет{136}. Почему? Из-за того ли, что подобная статья уже существовала в предшествующем законодательстве, или потому, что законодатель не желал подчеркивать такое различие? Этого мы не знаем. Во всяком случае прямо идеалам «Повести о Дракуле» Судебник не противоречил.
Как отражались все эти события на церковных делах? В 1494 г. противникам митрополита-вольнодумца Зосимы удалось добиться его отставки (она произошла как раз в то время, когда Курицын находился за рубежом). Но поставленный на место Зосимы новый митрополит Симон не оправдал надежд врагов ереси. В 1498 г. он благословил венчание Дмитрия шапкой Мономаха, а в следующем году дал благословение великому князю на еще более нечестивое дело. В 1499 г. был нанесен удар самому богатому церковному землевладельцу страны – Геннадию Новгородскому; великий князь забрал у него монастырские и церковные земли.
Курицын мог надеяться: еще немного и великий князь осуществит церковные реформы, подобные чешским, – реформы, которые в следующем столетии получили в Западной Европе (Скандинавия, Англия и ряд германских княжеств) наименование «княжеской реформации». В Москве осуществить «княжескую реформацию» было даже легче, чем в западных странах: русская церковь в конце XV века не зависела от папы и каких-либо зарубежных иерархов. На Руси в то время не признавали ни патриарха-униата, пребывавшего в Риме, ни его православного соперника, оставшегося в захваченном турками Константинополе. Когда в 1495 г. в митрополиты был поставлен Симон, Иван III (которого митрополит торжественно именовал «самодержцем»), совершил поставление Симона по образцу поставления патриархов, подчеркивая этим независимость русской церкви.
Объявив греческое православие «нарушившимся», русский государь мог строить свою церковь как бы заново. Но этому серьезно препятствовало одно обстоятельство. Митрополия «всея Руси» охватывала не только те земли, которыми владел московский государь к концу XV века: Москву, Новгород, Тверь и покорный воле великого князя Псков, но также и Киев, Гомель, Брянск, Смоленск – все западные русские земли, входившие в состав древней Киевской Руси. Но западнорусская церковь имела своего митрополита, признанного в отличие от его московского собрата патриархом. Для того чтобы провести «княжескую реформацию» в митрополии «всея Руси», всю эту Русь нужно было собрать воедино.
Уже с 80-х годов важнейшей задачей московской политики стала борьба за западнорусские земли. Польско-литовские государи чувствовали силу Москвы; в 1494 г. литовский князь Александр предложил Ивану III покончить со старыми спорами и скрепить мир семейным союзом. Великий князь согласился, но поставил условие: выйдя замуж за католика Александра, его дочь Елена Ивановна должна была сохранить веру отцов – православие; литовский князь не смел «нудить» к перемене исповедания не только жену, но и ее единоверцев. Речь шла не о пустяке: православным было почти все население литовской Белоруссии и Украины; к «латинству» его «нудили» постоянно, и теперь великий князь получил постоянный повод для вмешательства. «Служебница и девка» Ивана III, как именовала себя Елена Ивановна в письмах к отцу, оказалась превосходным дипломатом и политиком: перед мужем и его родней она делала вид, что слезно умоляет отца оставить «безвинный гнев» и не воевать с Александром, а через своих личных слуг сообщала в Москву об «укоризнах» за веру, испытываемых от деверя-архиепископа и свекрови, и советовала поставить перед ними новые условия – пожестче{137}.
По нескольку раз в год в Москву приезжали литовские послы; каждому посольству Курицын выражал негодование по поводу обид, учиненных единоверцам великой княгини. Весной 1500 г. Александру было заявлено, что терпение государя всея Руси истощилось. В апреле началась война; наступление русских войск было стремительным. В мае был взят Брянск; в июле русские разгромили литовские войска на реке Ведрошь и захватили в плен гетмана Острожского. Федор Курицын ждал, что со дня на день придет победа – победа, после которой начнется полное обновление Русской земли.
Конец Федора Курицына
Федора Васильевича «взяли», по всей видимости, летом 1500 г. – в разгар военных успехов русских войск. Что именно произошло в этом году, неизвестно, по-видимому (судя по краткому и достаточно темному сообщению одного местного летописца), Василий Иванович предпринял новую попытку «отъезда» (теперь уже на запад), и на этот раз попытка оказалась успешной для княжича. Иван III уступил Софии и назначил наследником Василия; Елена Стефановна и Дмитрий оказались в опале и были, как и Курицын, заточены{138}.
Федор Курицын был человек опытный и мог догадаться, что надеяться ему не на что. Ошибкой оказался весь его замысел, ошибкой была надежда на князя.
Что за человек был «державный» – великий князь Иван Васильевич, с которым так тесно была связана судьба Федора Курицына? В исторической памяти образ Ивана III заслонен и отчасти даже искажен образом другого Ивана Васильевича, его внука – Ивана Грозного.
«…Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и свирепый внук его», —
говорит Борис Годунов у Пушкина. Рядом со «свирепым внуком» Иван III воспринимается как «смиритель бурь» и «разумный самодержец». А между тем в характере «Ивана Горбатого», как звал его слепой отец, было немало черт, доставшихся потом его «свирепому внуку». Иван был жесток не только по отношению к врагам, но и к своим слугам, и рассчитывать на его покровительство было опасно.
В отличие от своего английского современника, известного в истории монарха-горбуна – Ричарда III (царствовал в 1483–1485 гг.), увековеченного Шекспиром, Иван пережил борьбу за престол не в зрелом возрасте, а в детстве: за престол пришлось бороться и основном не Ивану, а его отцу – Василию II; власть его сына уже никто по-настоящему не оспаривал. Но всю волчью мораль междоусобной борьбы Иван впитал почти с рождения: на его глазах нарушались междукняжеские договоры, заточались и умерщвлялись соперники и попавшие в опалу вельможи. Самостоятельное правление он начал с ослепления Федора Басенка – верного вассала своего отца. Вероломно нарушив клятву, данную им брату Андрею Углицкому, Иван III заточил и замучил его. Когда приезжий врач не сумел вылечить сына служилого татарского церевича, Иван III приказал зарезать неудачливого лекаря ножом – «как овцу», хотя даже отец царевича соглашался выпустить врача «на откуп» (за выкуп){139}.
Однако у великого князя, как и у Курицына, была своя большая цель, и он умел к ней идти, не стесняясь ничем. Не склонный по натуре к ратным подвигам (в военных действиях ему приходилось участвовать лишь в юности, когда он был наследником и соправителем отца), он был, однако, человеком государственного ума и прирожденным дипломатом. Он верил, что его задача – подчинить Москве все земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, и хотел править в могучем и грозном для соседей государстве. К концу жизни его владения были уже поистине обширны и далеко превосходили Московское княжество времен его отца. А для себя он добился власти, о которой не смели и мечтать его предки. К концу жизни Иван Васильевич стал как бы живым богом – доступ к нему не мог получить не только бедный проситель, но часто и ближние люди вроде Курицына. За обедом князь много пил и настойчиво заставлял пить других; потом он нередко засыпал, а приглашенные не смели сказать слова, чтобы не разбудить повелителя; проснувшись, он становился весел и иногда изволил шутить{140}.
Иван III, видимо, не запрещал Курицыну мечтать о будущем устройстве, при котором великий боярин, священник или простой человек будут равны перед законом. Но такое устройство было ему совсем не нужно. Не были нужны подобные преобразования и новым хозяевам – даже бывшим холопам, владевшим теперь всеми благами земными и совсем не помышлявшим о всеобщей справедливости. Новый Судебник, принятый в 1497 г., провозглашал не только «правый суд» и наказание за «лихие дела». Впервые в общерусском масштабе этот кодекс законов ограничил срок, когда разрешался переход крестьянина от одного господина к другому (только за неделю до и педелю после «Юрьева дня осеннего» – 26 ноября), сделав таким образом важный шаг к установлению крепостного права на Руси.
Церковь, у которой отобрали много земель, была ущемлена в своих правах, а между тем она имела сильное влияние в обществе, – Иван Васильевич готов был немного потесниться за столом и допустить к себе верных иерархов. А иерархи уже давно хотели сближения с государем – лишь бы только он перестал держать их в страхе и покровительствовать людям, рассуждавшим о том, о чем не повелел думать бог. Победа при Ведроши обеспечила присоединение к Русскому государству Брянска, Дорогобужа, Гомеля, Новгорода-Северского, но до полного завоевания киевских земель было еще далеко. Следовательно, надо было искать сближения с иерархами – и западнорусскими, и своими, – а не отпугивать их «княжеской реформацией».
Первые годы XVI века были временем непрерывных переговоров Ивана III с обличителями ереси, еще недавно враждебными «державному». После опалы и заточения Елены Стефановны великий князь вызвал к себе Иосифа Волоцкого и беседовал с ним о церковных делах. Во время разговора Иван III признался Иосифу, что он знал «которую держал Алексей протопоп ересь и которую держал Феодор Курицын»; он обещал послать по всем городам «обыскивати еретиков, да искоренити»{141}.
Но за уступку «державный» хотел ответных уступок. В 1503 г. согласно более поздним известиям великий князь на церковном соборе поднял вопрос о «землях церковных, святительских и монастырских». Попытка эта не имела успеха. Единственная уступка обличителям корыстолюбия высшего духовенства, на которую пошел собор, был запрет взимания «мзды» (платы) со священников и дьяконов за «поставление» на церковные должности. Эта «мзда» вызывала возмущение еще во времена стригольников, выступал против нее и новгородский еретик конца XV в. Захар. Собор постановил за поставление «от священнического чина ничего никому не брать».
По сравнению с широкими планами уничтожении монастырских вотчин это было совсем незначительным нововведением, не дававшим великокняжеской власти существенных выгод, однако и оно имело важные последствия. Владыка Геннадий чувствовал себя после собора победителем – еретическая «буря» кончилась, новые покушения на монастырские земли были предотвращены. Вернувшись в Новгород, он счел для себя не обязательной и единственную уступку, сделанную собором, и начал «мзду имати у священников от ставленья наипаче первого» (т. е. больше, чем прежде). Но Геннадий переоценил свою силу. Иван III выместил свое недовольство за неудачу собора на новгородском владыке – владыку не только лишили сана, но «взяли, и казны попечатали, и поехали к Москве»{142}.
Геннадий мог утешаться одним – его отставка совпала с полным разгромом еретиков. Все друзья и единомышленники Курицына были теперь в заточении; их хватали не только в Москве, но и в Новгороде, где за последние благоприятные годы опять завелась ересь. В декабре 1504 года собрался церковный собор, в трудах которого участвовал новый наследник – Василий, сын Софии Палеолог. Именно для этого собора, по всей видимости, и была составлена «Книга на новгородских еретиков», или «Просветитель», включавшая более ранние противоеретические сочинения Иосифа Волоцкого и других авторов. Главным создателем «Просветителя» несомненно был Иосиф (имя которого прямо обозначено на второй редакции книги), но сочувствовали и помогали ему и другие защитники церковной ортодоксии. Среди них, очевидно, был и Пил Сорский – в этом случае взгляды Нила и Иосифа Волоцкого не расходились. Важнейшей задачей «Просветителя» было обвинить людей, подвергнутых соборному суду, не только в еретичестве, но и в «отступничестве» – «жидовстве»: отступник в отличие от еретика подлежал казни, даже если каялся. Соборные приговоры и последовавшие за ними наказания были суровыми. К смертной казни в Москве был приговорен брат Федора – Иван-Волк, московский служилый человек Митя Коноплев и новгородец Иван Максимов, избежавший расправы в 1490 г.; в Новгороде казнили Некраса Рукавого, юрьевского архимандрита Кассиана, его брата и еще несколько других.
На этот раз дело не ограничилось сожжением берестяных шлемов на головах осужденных. Казнь была устроена по-настоящему – не хуже, чем у «шпанского короля». Еретиков посадили в клетки; клетки завалили хворостом и подожгли{143}. Но ни в одной из них Ивану-Волку Курицыну не пришлось увидеть брата. Федора Курицына не было среди казненных. «Державный» наверное читал «Повесть о Дракуле»; он помнил рассказ Курицына о двух монахах, пришедших к мутьянскому воеводе. Один из монахов ругал Дракулу и называл казненных им людей мучениками, другой признавал право великого государя казнить и миловать любого человека; Дракула посадил на кол дерзкого монаха, а другого, разумного, отправил с почестями. Какую же почесть Федор Васильевич мог ожидать от своего государя? Только одну – заточение вместо казни.
Но если Федор Курицын и стал монастырским узником, то ненадолго. В 1505 г. умер бывший покровитель Федора Васильевича – Иван III; новый князь в отличие от отца видел в опальном дьяке заклятого врага. А с врагами Василий Иванович вовсе не был милостив: он приказал уморить своего племянника и соперника Дмитрия Ивановича и мать его Елену; ему нетрудно было подослать убийц и к «злобесному» еретику.
ИТОГИ
Блестящая карьера Федора Курицына кончилась неудачно: замыслы его потерпели полное крушение; он попал в опалу и умер при неизвестных обстоятельствах – едва ли не насильственной смертью. Что же он оставил после себя?








