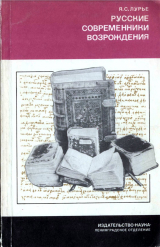
Текст книги "Русские современники Возрождения"
Автор книги: Яков Лурье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Мысли о новом мире не оставляли Федора Васильевича Курицына после возвращения из путешествия. Неожиданная задержка в Белгороде его, возможно, даже обрадовала: он получил досуг не только для конкретно-политических дел. Во всяком случае, именно после возвращения из Венгрии и Молдавии, в 1485 году, вокруг него создался тот кружок, который враги считали главным оплотом еретиков: «а та стала беда», по словам архиепископа новгородского Геннадия, после того, «как Курицын из Угорские земли приехал», и перебравшиеся из Новгорода в Москву протопоп Алексей, поп Денис и другие новгородские еретики стали постоянно ходить к нему. «Курицын у них и печальник (т. е. главный защитник), – жаловался Геннадий, – а о государской чести печали (заботы) не имеет».
Захваченный и допрошенный Геннадием участник этого новгородско-московского кружка рассказал под пыткой о собраниях кружка и об участии в нем еще одного лица – «угрянина Мартынки». Все эти подробности были для Геннадия очень дороги: они должны были служить доказательством его хорошей осведомленности и точности сведений, посланных в Москву. «А потому, – с торжеством заключал новгородский владыка, – Курицын начальник всем тем злодеям»{105}.
Чем же занимались Федор Курицын и его товарищи? К сожалению, известно об этом очень мало. Сохранилось несколько рукописей, созданных еретиками – составленный в середине XV в. свод всеобщей истории «Еллинский летописец», переписанный московским еретиком Иваном Черным (сбежавшим в Литовскую Русь еще до 1490 г.) и церковно-юридический сборник «Кормчая – Мерило Праведное», писанный рукой брата Федора Курицына дьяка Ивана Волка. Из числа памятников, вышедших£из еретических кругов, наиболее интересно и, по-видимому, наиболее оригинально «Лаодикийское послание». Зашифрованная цифровой тайнописью приписка к этому памятнику называет имя лица, «приведшего» (обретшего или привезшего) его: «Федор Курицын диак». Именно зашифрованность приписки и помогла «Лаодикийскому посланию» сохраниться в рукописной традиции последующего времени, когда имя Федора Курицына стало запретным.
Что же это за памятник? Загадочно уже самое его название. Лаодикия – город в Передней Азии, жителям которого было адресовано апокрифическое (не вошедшее в библейскую книгу апостольских посланий) послание апостола Павла, но с этим посланием сочинение Курицына ничего общего не имеет. Почему оно называется «Лаодикийским посланием», неизвестно. «Лаодикийское послание» Федора Курицына состоит из трех частей (считая третьей зашифрованную подпись автора). Первая часть представляет собой своеобразный философский трактат, построенный так, что каждое его изречение начинается с того слова, которым оканчивалось предыдущее, образуя как бы своеобразное стихотворение из десяти строк:
Душа самовластна, заграда (ограда) ей – пера.
Вера – наказание (наставление), ставятся пророком.
Пророк – старейшина, исправляется (направляется)
чюдотворением.
Чюдотворения дар мудростью усялеет
(поддерживается мудростью)…
Вторая часть – особая таблица из 40 клеток-квадратов, каждый из которых заключает в себе две буквы и комментарий к ним. Автор различает согласные («плоть», «столп») и гласные («душа» и «приклад») буквы, указывает, как сочетаются между собой отдельные звуки, как образуются слова женского и мужского «имени» (рода). Но таблица «Лаодикийского послания» служила не только своеобразной грамматической и фонетической энциклопедией. В каждой из клеток было помещено по две буквы – красная (написанная киноварью) и черная; заменяя одну букву на другую, таблицу можно было использовать как ключ к шифру{106}.
«Лаодикийское послание» было несомненно связано с другим, анонимным, памятником, встречающимся с ним в одних сборниках, – «Написанием о грамоте». В тех же сборниках переписывалась и переводная «Диалектика» греческого поэта и философа VII–VIII вв. Иоанна Дамаскина, – сочинение, излагающее те логические и грамматические знания, которые были восприняты византийской наукой от античности. «Диалектика» Дамаскина, видимо, оказала влияние и на «Написание о грамоте», и на «Лаодикийское послание».
Как и «Лаодикийское послание», «Написание» особенно настаивало на «самовластии души», провозглашая, что бог дал человеку при его сотворении «самовластна ума», открыл ему «вольное произволение» к «добродетели или к злобе», «путь откровения изяществу и невежествию»; автор объявлял даже воплощением «самовластия» грамоту: «грамота есть самовластие, умнаго волное разумение…» В «Лаодикийском послании» говорилось: «…наука преблаженна есть. Сею приходим в страх божий – начало добродетелей…» В «Написании» то же говорилось о грамоте: «…сим учением приходят человецы (люди) в страх божий…»{107}
Итак, постигнув грамоту, образованность, знание, человек станет поистине свободен: он узнает, где добродетель, где злоба, где изящество, где невежество. Ну, а пока? А пока во всех землях, которые перевидел Федор Курицын, не было ни свободы, ни справедливости. Одни законы существовали для простых людей, другие – для людей сильных. Взяточники-воеводы, описанные в кирилло-белозерском летописном своде, изменник и «тать» Кулодарь, с которым судьба связала Ефросина, отнюдь не были исключительными фигурами. Да и князья церкви бывали не лучше своих мирских собратьев. По всей стране росли монастыри; им принадлежали огромные угодья; но монастырским старцам этого было мало: каждый день княжеские судьи разбирали тяжбы монастырей с их соседями – крестьянами-общинниками, землевладельцами, другими монастырями. Игумен Чудова монастыря не постеснялся даже подделать завещание одного из князей, чтобы помочь Спасо-Каменному монастырю завладеть наследством князя{108}. Испугать таких людей мог разве что дьявол. И Курицын решил рассказать им о князе-дьяволе.
«Бысть (был) в Мутьянской земле греческой веры христианин воевода именем Дракула влашеским (молдаванским, румынским) языком, а нашим – диавол. Толико (так) эломудр, яко же (как) по имени, то и житие (жизнь) его», – так начиналась Повесть или Сказание о Дракуле.
Дракула расправлялся с нищими, с неверными и ленивыми женами, неискусными послами, посадил на кол монаха, пожалевшего казненных, и даже слугу, отвернувшегося от смердящих трупов на кольях, среди которых имел привычку пировать «мутьянский воевода».
– Тамо ти (тебе) есть высоко жити – смрад не может тебе дойти (дойти), – балагурил он, отправляя брезгливого слугу на казнь.
Курицын вовсе не скрывал от читателей дьявольской жестокости своего героя. Но к анекдотам о Дракуле, услышанным им в Венгрии и Молдавии, он добавил от себя авторские рассуждения о жестоком мутьянском воеводе. Именно этот дьявол, сажавший людей на кол, добивался в его повести того, чего не могли достигнуть другие правители: искоренял зло в своем государстве. «Яко (если) кто учинит кое зло – татьбу (воровство), или разбой, или кую лжу (неправду), той никако не будет жив. Аще ль (будь то) болярин, или священник, иль инок, или просты (простой), аще (если) и велико богатьство имел бы кто, не может искупитись (откупиться) от смерти. И толико (так) грозен бысть (был)». И тут же приводились конкретные примеры искоренения «зла» Дракулой: в пустынном месте, где протекал горный источник с прекрасной ключевой водой, Дракула велел оставить золотую чашу и никто не смел ее унести; иноземный купец мог спокойно ночью оставлять свои товары посреди улицы: Дракула ручался за безопасность его имущества…
Что же доказывали, по мнению автора, все эти истории? Казался ли ему «мутьянский воевода», несмотря на все его жестокости, образцом справедливого государя?
Как и Ефросин, Курицын знал, что идеалы «Нестора XV века» – составителя «свода 1448 г.» не осуществились: «братские» отношения между князьями не стали Основой объединения Руси. Русское государство было создано отнюдь не на договорных началах. И, конечно, в этом государстве остались все те многочисленные беды, от которых ефросиновское «Слово о рахманах» освобождало счастливых людей, – там сохранялись «вельможи», «свары» и «бои», «купля» и «продажа» в сочетании с «татьбой» и «разбоем». Но, может быть, это зло, не устраненное полюбовным соглашением «братьев»-князей, могло быть уничтожено тем самым государем, который силой подчинил себе соседние земли? Может быть, подавив местные вольности, он установит равенство всех своих граждан – бояр, священников, монахов и простых людей – перед законом? Мы не знаем, верил ли в такую возможность Ефросин, но Курицын, очевидно, надеялся на устранение «зла» могущественным государем; надеялись на него и такие люди, как новгородские священники Алексей и Денис. В отличие от автора «Слова о рахманах» они имели, стало быть, не только негативную, но и определенную позитивную программу – хотя совсем иную, чем составитель «свода 1448 г.», «Нестор XV века».
Автор «Повести» не прославлял «мутьянского воеводу» и вовсе не видел в нем «модель царского поведения» для Ивана III. Повесть его была не апологией, а скорее предостережением. Автор ее хотел напомнить людям, и в особенности боярам, священникам, инокам и владельцам «великих богатств», до каких крайностей может дойти власть, если ей будут мешать ввести новое государственное устройство. А в том, что такое устройство будет введено и притом с его, Курицына, ближайшим участием, в этом Федор Васильевич не сомневался.
Враги Курицына
80—90-е годы XV века были временем, которое десять лет спустя игумен Волоколамского монастыря Иосиф Санин назвал временем «пагубной и богохульной бури» в Русской земле. Жалуясь на «церковный раздор от еретического нападения», новгородский епископ Геннадий писал в 1489 г., что до сих пор «того ни в слуху не бывало, чтобы быть в Руси какой ереси». То же твердил Иосиф Волоцкий{109}.
Говоря о «неслыханности» ереси в Русской земле, обличители явно кривили душой. Во всяком случае Новгороду и Пскову, где владычествовал Геннадий, еретики были знакомы уже больше века. Это были так называемые «стригольники», отвергавшие всю церковную организацию (священников, архиереев, епископов) и многие таинства – исповедь, причастие. Допросив новгородского еретика-монаха Захара и убедившись, что он не признает таинств, совершаемых духовенством, поставленным «по мзде» (за деньги), Геннадий с торжеством заявил:
– И аз (я) познал, что стригольник{110}.
Как же относилась к этим событиям мирская и духовная власть, как развивалась борьба между теми, кто начал еретическую «бурю», и теми, кто ей противодействовал? К сожалению, известий об этом сохранилось мало. Как раз в 80-х годах, с укреплением власти русского государя, прекратилось на Руси независимое летописание, породившее в предшествующие десятилетия такие интереснейшие памятники, как «свод 1448 г.» и Кирилло-Белозерский свод 1472 г.
Последний общерусский оппозиционный летописный свод, сохранившийся в составе Софийской II и Львовской летописей XVI века, доходил до середины или конца 80-х годов XV в. Свод этот несомненно был связан с церковными кругами: несколько рассказов о чудесах, содержащихся в Софийской II и Львовской летописях, написанных митрополичьим дьяком Родионом Кожухом, позволяют предположить, что свод был составлен этим дьяком; подробнейший рассказ о строительстве Успенского собора дает основание для другой догадки: не был ли автор летописи как-то связан с причтом собора?{111} Автор последовательно осуждал Ивана III и защищал тех, кто стал жертвами его политики, – тверских бояр, подвергавшихся притеснениям после присоединения Тверского княжества в 1485 г., выселяемых из Новгорода новгородцев, братьев Ивана III – удельных князей. С полным сочувствием этим князьям летописец рассказывал об их столкновении с Иваном III в 1480 г. и упомянул о том, что в 1489 г. Андрей Углицкий заподозрил великого князя в том, что, нарушая клятву, тот намеревается арестовать его. Иван III поклялся брату, что ничего не замышляет против него – но поклялся какой-то странной, не встречающейся в других памятниках клятвой: «землей, небом и богом сильным – отцом всякой твари».
Вообще правоверие великого князя вызывало у составителя оппозиционного свода, явно связанного с церковью, серьезные сомнения. Первая жена Ивана III умерла рано – составитель свода довольно прозрачно намекал, что ее отравили, и называл даже виновника, того самого дьяка Алексея Полуектова, который помог Ивану III захватить ярославские земли. Второй раз Иван III женился в 1472 г. на Зое-Софии Палеолог, племяннице последнего византийского императора – невесту, приехавшую из Рима, сопровождал католический священник, и оппозиционный свод не преминул указать на то, что митрополит Филипп отказался участвовать в венчании Ивана III и Софии. Рассказывая о спорах Ивана III с другим митрополитом – Терентием, летописец неизменно сочувствовал митрополиту, но он сурово осуждал и митрополита, и великого князя за то, что при перестройке Кремля в 70-х годах они проявили неуважение к погребениям прежних святителей.
По своей антикняжеской направленности оппозиционный церковный свод 80-х годов, пожалуй, превосходил все независимые летописи XV века. Даже рассказывая о походе крымского хана Менгли Гирея на общего врага Крыма и Москвы – польско-литовского короля Казимира, летописец не только сообщил, что, захватив в 1484 г. «по слову великого князя» Киев, хан «вся люди в полон поведе (забрал в плен), и держателя (наместника) Киевского сведе с собою и с женою и с детми, и много пакости учинил, Печерскую церковь и монастырь разграбил, а инии бежали в печеру (пещеру) и задохшася», но и специально отметил, что захваченные в церкви Святой Софии священные сосуды Менгли Гирей отослал своему союзнику – Ивану III{112}.
Однако найти какую-либо определенную политическую программу, стоящую за этой критической позицией летописца, довольно трудно. В этом отношении составитель свода 80-х годов отошел еще дальше от «Нестора XV века», чем севернорусский летописец 1472 г. Совершенно чужд он был в отличие от кирилловских книжников какой-либо склонности к свободомыслию. Правда, один деятель итальянского Возрождения произвел сильное впечатление на составителя московского независимого свода 80-х годов: Аристотель Фиораванти, строивший как раз в те годы Успенский собор. О его «хитростях» этот летописец рассказывал подробнее всех остальных и с явным восхищением. Но «небрежение», которое проявляли во время кремлевских строительных работ духовные власти к останкам древних святителей, глубоко возмущало его: «делатели» ходили мимо гробов Ионы и других прежних святителей, «а что ни есть отесков (осколков) каменных, то все на гроб его падаше (падали)», – писал летописец{113}. Нисколько не сомневался он в отличие от своих северных собратьев в святости ярославских князей-чудотворцев, открытых в 1463 году. Напротив, он с благоговением и ужасом описывал божию кару над ростовским владыкой Трифоном за неверие в новых святых. Единственное, что, по-видимому, отстаивал оппозиционный летописец 80-х годов, это была старина – ив политической, и в церковной жизни.
Сообщил оппозиционный летописный свод 80-х годов в отличие от великокняжеского летописания и о новгородских еретиках конца века, правда, в весьма лаконичной форме. В 1488 г., записал он, били «попов новугородских на торгу (па площади) кнутьем, прислал бо их из Новагорода к великому князю владыка Геннадий, что пьяни поругалися святым иконам…»{114}Летописец явно не знал подоплеки всего этого дела и излагал ту версию, которая была объявлена перед «торговой казнью» (наказанием кнутом). Между тем новгородский владыка вовсе не считал наказанных новгородцев виновными только в кощунстве в пьяном виде. Он настаивал на том, что раскрыл большой еретический заговор, в котором участвует переехавший в Москву поп-еретик Алексей и другие; но в Москве не признали всех выдвинутых им обвинений, наказали кнутом только трех человек, присланных Геннадием, а одного даже избавили от наказания за недостатком улик. Московские власти, по словам возмущенного новгородского владыки, повели себя так, будто «Новъгород с Москвою не едино православие».
О борьбе с ересью еще не думал не только неофициальный летописец 80-х годов. С нею не пытался бороться и московский митрополит – Геронтий (1472–1489). Впоследствии, когда ересь уже была разгромлена, Иосиф Волоцкий объяснял такое бездействие, во-первых, тем, что Геронтий боялся «державного»
(«державный», стало быть, противодействовал борьбе с еретиками!), а во-вторых, тем, что Геронтий был «грубостью съдержим (охвачен, одержим)» – недостаточно образован{115}.
Но если Геронтий не захотел и не смог противостоять еретической «буре», то нашлись другие, более бдительные и непреклонные ее противники.
Двух из них мы уже знаем – новгородского владыку Геннадия и игумена Волоцкого монастыря Иосифа Санина. По своему положению Геннадий был более важной фигурой, чем Иосиф Санин, – ведь он имел сан архиепископа и как и ростовский архиепископ занимал в церковной иерархии место, следующее непосредственно за митрополитом. Но Иосиф, по-видимому, первым заметил еретическую опасность, и еще в конце 70-х годов, будучи монахом Боровского монастыря, написал послание против еретиков, отрицавших иконное изображение Троицы. Сразу после смерти своего учителя Пафнутия Боровского Иосиф, избранный было игуменом Боровского монастыря, поссорился с Иваном III, перешел под покровительство его брата – удельного князя волоцкого Бориса и основал монастырь в Волоке Ламском – как раз в то время, когда Борис Волоцкий «отказался» от власти великого князя и признал вассальную зависимость от Казимира (накануне «стояния на Угре» 1480 г.). Тем самым глава Волоколамского монастыря обнаружил стремление обеспечить своей обители такое же независимое положение, какое обрел Кириллов Белозерский монастырь и начале века.
Позиция Геннадия в начале его деятельности была куда более лояльной к великокняжеской власти чем позиция Иосифа: в 1479 г. он как раз поддержал Ивана III в его столкновении с Геронтием, и, возможно, именно это помогло ему занять в 1485 г. новгородскую архиепископскую кафедру. Но, став новгородским владыкой, Геннадий довольно скоро оказался в оппозиции к великокняжеской власти – важнейшую роль здесь сыграл вопрос о ереси{116}.
Борьбу с «еретическим нападением» Геннадий считал настоятельным, едва ли не важнейшим для себя делом. В одном из посланий он попытался определить список книг, которые «у еретиков все есть». В нем упоминались библейские книги, сочинения отцов церкви, церковно-полемическая литература, «Менандр» (отрывки из сочинений афинского драматурга IV в. до н. э.) и анонимная «Логика»{117}. Смущало Геннадия то, что его сподвижники, очевидно, не располагали этими книгами, уступали еретикам в образованности и не могли вести с ними «речей о вере». Владыка собрал вокруг себя целый круг помощников. Среди них был его дьякон Герасим Поповка со своим братом Дмитрием Герасимовым – будущим дипломатом, получившим образование в Ливонии. По поручению Геннадия Герасим и другие приближенные владыки стали переписывать и рассылать по монастырям книги, которыми пользовались еретики. Беспокоило Геннадия и использование еретиками библейских книг. Значительная часть этих книг была переведена на древнерусский язык задолго до XV века, но в единый кодекс они сведены не были – задача составления такого кодекса встала перед новгородским владыкой именно в связи с борьбой против ереси и завершена была только к концу века. В создании «Геннадиевской Библии» принимал участие наряду с Герасимом Поповкой и еще один весьма необычный помощник Геннадия: «поп Вениамин, родом словянянин, а верою латынянин», «честный презвитер (священник)», он же «мних (монах) обители свята го Доминика» (как было указано на рукописях его трудов) – южный славянин (вероятно, хорват) и католический монах-доминикапец. Именно Вениамин перевел для «Геннадиевской Библии» с латинского те тексты священного писания, которых не оказалось в славянских переложениях с греческого.
Это несколько неожиданное участие «латинянина» в борьбе за чистоту веры против еретиков не было случайным эпизодом в деятельности новгородского владыки. Именно последователи «святого Доминика» (вовсе не считавшегося на Руси святым) играли главную роль в католической инквизиции, а инквизиция была как раз тем учреждением, которое больше всего ценил Геннадий у «фрязовей» (западных европейцев). Обращаясь в Москву с призывом созвать церковный собор, Геннадий больше всего настаивал, чтобы никаких «речей» о вере на этом соборе «не плодили», ибо «люди у пас простые, не умеют по обычным книгам говорити»:
– Токмо того для учинити собор, что их казнити – жечи да вешати!
В связи с этим он и ссылался на «латин»:
– А фрязове по своей вере какову крепость держат! Сказывал ми (мне) посол цесарев (германского императора) про шпанского (испанского) короля, как оп свою очистил землю!
Не ограничиваясь этим, Геннадий послал Ивану III особый список «Речей посла цесарена», полученный от императорского посла фон Турпа (де ла Торре) через русского дипломата греческого происхождения Юрия Траханиота. Там описывалось, как в «Шпанской земле» (Испании) еретиков (в том числе и духовных лиц – совсем как в Новгороде!) «казнили многыми казнми и многыми ранами, да и сожгли. да мучили их многыми розными муками, да и пережгли всех. а животы (собственность) их и имения на короля поймали, а слава. и хвала того шпанского короля пошла по всем землям по латинской вере, что на лихих крепко стоит…»{118}
Но, помогая новгородскому владыке, «латиняне» не забывали о своих целях. Желая отвратить Ивана III от покушений на монастырские земли, Геннадий поручил своим приближенным написать трактат о неприкосновенности церковных имуществ. Трактат этот под названием «Собрание от божественнаго писания от ветхаго и новаго на лихоимцев» был написан, по всей видимости, доминиканцем Вениамином и снабжен ссылками не только на Константина Великого (IV в.), по и на франкского императора «Карула Вертина» (Карла Великого, VIII–IX вв.) который на Руси считался еретиком и авторитетом отнюдь не пользовался. В другом месте автор, указывая, что даже нехристиане почитали «святая святых», и каясь в непочтительном отношении к церковному имуществу от имени всех христиан, писал: «Мы же христиане – греци, русь и латини.», хотя на Руси в то время никак не полагалось включать «латин» в число правоверных христиан рядом с «греками» и «русью». Сподвижникам Геннадия пришлось срочно переделывать этот трактат (переименованный в «Слово кратко»), удаляя ссылку на Карла Великого и выскребывая криминальные слова «…и латини».{119}
Новгородское окружение Геннадия едва ли пользовалось особым уважением в Москве. Геннадию приходилось не столько «растерзать», подобно льву, «скверный утробы» «злодейственных еретиков» (как описывал потом его деятельность Иосиф Волоцкий), сколько защищаться от требования из Москвы дать вторичную присягу – «исповедание веры». С большой обидой он заявлял, что, «дав исповедание» в начале своей деятельности, он «в том исповедании» стоит «и теперво (теперь) неподвижно»: «Ниже к Литвы (ни к Литве) посылаю грамоты, ни из Литвы посылаю грамот», никакие «литовские ставленикы» (т. е. священники, поставленные западнорусским митрополитом) у него в Новгороде не служат. Он уверял, что к «литовским окаанным делам» причастны, напротив, его противники: в 1471 г. в Новгород приезжал «князь Михайло Оленкович (Олелькович)», а с ним был некий «жидовин еретик» (имя его не называлось), с которым водились еретики-новгородцы. Это утверждение противоречило, однако, словам самого владыки, что еретическая «беда» началась с того времени, «как Курицын из Угорские земли приехал» (т. е. в 1485 г.). Едва ли оно могло произвести впечатление на Ивана III, отлично знавшего, что князь Михаил Олелькович, пробывший в Новгороде всего четыре месяца, никогда католиком не был, а в начале 80-х годов погиб в Литовской Руси как участник православного антиягеллонского заговора{120}.
Круг лиц, группировавшийся вокруг Геннадия, явно был не достаточно силен, чтобы противостоять великокняжескому дьяку. Геннадий обращался за помощью к своим братьям-иерархам – епископу сарскому (епископы «сарские», первоначально – сарайские, некогда представители митрополита в Золотой Орде, пребывали в конце XV века в Москве), епископу суздальскому и бывшему (Иван III лишил его престола в 1489 г.) архиепископу ростовскому. Последние два – Нифонт Суздальский и Иоасаф Ростовский были тесно связаны с северно-русскими землями. Нифонт был еще недавно кирилловским игуменом (именно при нем Ефросин уходил из монастыря), а Иоасаф как ростовский владыка ведал Кирилловым и соседним Ферапонтовым монастырями. В связи с этим, очевидно, Геннадий запрашивал Иоасафа, имеются ли в этих монастырях книги, которые «у еретиков все есть», а также просил его привлечь для помощи в борьбе против еретиков двух старцев, связанных с этими монастырями, – бывшего троицкого игумена Паисия Ярославова и Нила Сорского.
Нил Сорский (Майков) был постриженником Кириллова монастыря – говоря о нем, мы вновь возвращаемся в ту обитель, где жил и писал Ефросин. Но никаких признаков знакомств, никаких связей между этими двумя учеными монахами не обнаруживается. Оба они – и Нил, и Ефросин – воспитывались в школе Кирилла Белозерского; оба, очевидно, читали сборники Кирилла. Но для Ефросина наиболее интересными оказались «естественнонаучные» статьи Кирилловых сборников – «О широте и долготе земли» и другие, а для Нила Сорского – переписанные Кириллом аскетические сочинения писателя V в. Нила Синаита («Об осми помыслах», «О бесстрастии души и тела») и более позднего автора – Григория Синаита (XIV в.), теоретика аскетического учения исихастов. Заставший еретическую «бурю» Ефросин не только не принял участия в обличении еретиков, но дважды переписал сочинение, принадлежавшее, по всей видимости, их «начальнику» – Курицыну. А Нил Сорский еще в Кирилловом монастыре выступал против «растленных разумом» вольнодумцев и чтения «небожественных писаний»; естественно, что Геннадий вспомнил о нем, когда началась борьба с еретиками. Какова же была роль Нила в идейной борьбе тех лет?
Нил Сорский вошел в историю русской церкви как проповедник «скитского» жития монахов – в маленьких поселениях и кельях на два-три человека, провозвестник «нестяжательства» – течения, приобретшего важное значение уже позже, в начале следующего столетия, когда еретическая «буря» утихла. Что же касается его деятельности в конце XV века, то она стала среди историков предметом своеобразной легенды, чрезвычайно стойкой, по совершенно ни на чем не основанной. Историки давно знали о запросе насчет книг, посланном Геннадием через Иоасафа, но ответ Нила или Паисия новгородскому владыке не сохранился (как не сохранилось и огромное большинство эпистолярных памятников того времени), и этому пробелу в источниках придавалось особое значение. Либеральные славянофилы конца XIX в., осуждавшие еретиков XV века как «людей увлечений и жизненной ломки», но не одобрявшие и инквизиционную деятельность Геннадия и Иосифа Волоцкого, видели в старце Ниле как бы своего идейного предшественника. Нил Сорский был в представлениях славянофилов одним из «русских гуманистов-реформаторов в самом благородном смысле этого слова», чуждым ереси (враждебность к еретикам Нил высказывал в своем исповедании веры), но столь же враждебным религиозной нетерпимости, насилиям и гонениям{121}.
Однако нам не известно ни одного случая, когда бы Нил выступал против наказания еретиков. А новые материалы, которыми мы теперь располагаем, ставят под сомнение и традиционное противопоставление Нила Сорского Иосифу и Геннадию. Наиболее интересный из этих источников – своеобразный богословско-полемический трактат против еретиков, составленный, видимо, еще до их разгрома. Трактат этот был адресован некоему «иконописцу» (возможно, что адресатом его был виднейший художник того времени Дионисий, связанный и с Кирилловым, и с Ферапонтовым, и с Волоколамским монастырями){122}. Впоследствии Иосиф Волоцкий включил его (опустив только вступительное «послание иконописцу») в свое главное противоеретическое сочинение – «Просветитель» в качестве трех «слов» (глав) его. Но кто же был автором первоначального, отдельного варианта трактата? Частично, возможно, сам Иосиф Волоцкий; по в трактате заметны следы творчества двух авторов, не всегда совпадающие между собой. Если некоторыми чертами трактат напоминает сочинения Иосифа, то другими скорее произведения его не менее знаменитого современника – Нила Сорского{123}.
Возможность соавторства двух виднейших церковных деятелей подтверждается еще одним памятником. В начале XVI века, когда ересь была разгромлена и для окончательного обличения еретиков был составлен обширный «Просветитель», то список этой книги, аккуратно переписанный и украшенный заставками, был подарен (как «вклад» на помин души дарителя) Волоколамскому монастырю – еще при жизни его игумена Иосифа Волоцкого. Кто же изготовил эту рукопись? Почерк писцов может быть определен. Одним из них был Нил Полов, ученик Иосифа Волоцкого, несколько лет проживший в Кирилловом монастыре, другим – Нил Сорский, автограф которого известен и по другой рукописи (также написанной совместно с Нилом Полевым). Рукой Нила Сорского были написаны важнейшие разделы книги, в том числе и часть «слов», взятых из трактата, адресованного иконописцу{124}. Если Ефросина нельзя считать простым писцом, переписывавшим все, что ему предложат, то уж Нил Сорскпй в начале XVI века никак писцом не был. Готовность Нила взяться за перо, чтобы изготовить парадный список «Просветителя», свидетельствует о том, что книга эта была ему близка и дорога.
Но какова же была программа церковных деятелей, объединившихся в конце XV века для борьбы против еретической «бури»? Как и составитель оппозиционного летописного свода 80-х годов, все они были крайне недовольны поведением Ивана III, покровительствовавшего еретикам и не считавшегося с высшим духовенством. В трактате, адресованном иконописцу, это недовольство было выражено наиболее ярко и определенно. Автор его писал, что «царь, божий слуга есть» и подчинение ему поэтому само по себе не грозит «пагубой души». Но если царь, царствуя над людьми, имеет над собой иных властителей – «страсти и грехи, сребролюбие и гнев, лукавьство и неправду, гордость и ярость, злейши (хуже) же всех – неверие и хулу», то такой царь «не божий слуга, но диаволь (дьявольский), и не царь, но мучитель». И далее уже прямой призыв:








