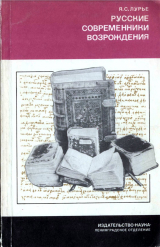
Текст книги "Русские современники Возрождения"
Автор книги: Яков Лурье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
С семьей Вельяминовых, претерпевших немало обид в конце XIV века, был связан и бывший архимандрит московского Симонова монастыря Кирилл, пришедший около 1397 г. на Белоозеро. Рано оставшись сиротой, юный Косма – будущий Кирилл – воспитывался в доме своего «сродника», окольничего Тимофея Васильевича Вельяминова, брата последнего тысяцкого, а потом стал у него казначеем. Смерть Василия Вельяминова и отмена должности тысяцкого произошла уже при Косме; тогда же бежал в Тверь и Орду, был захвачен и казнен племянник Тимофея (сын последнего тысяцкого) Иван Вельяминов. Именно в эти трудные для Вельяминовых годы Косма и постригся в монахи под именем Кирилла; на Белоозеро он явился уже немолодым, хорошо знавшим службу монахом{46}.
Кирилл несомненно понимал, что положение Белозерского княжества, с которым он отныне связал свою деятельность, было совсем не легким. Уже в 1397–1398 и 1401 гг., как раз тогда, когда он основал свой монастырь на Белоозере, в соседней Двинской земле шла война между сыном Дмитрия Донского, великим князем Василием Дмитриевичем, пытавшимся присоединить эту землю, и Новгородом. Великий князь дважды потерпел поражение. В ходе этой войны новгородцы заняли столицу Белозерского княжества. И московские воеводы вынуждены были «быть челом» новгородцам. Василию Дмитриевичу пришлось признать исконность новгородской власти на севере. Но не только столкновения между Москвой и Новгородом сказывались на Белозерской земле – в самом Московском княжестве начиналась борьба за власть между малолетним Василием II, за которым стоял митрополит, и его дядей – Юрием Галицким. Когда же, не подчинившись митрополиту, Юрий «отъехал» в Галич, опекуны малолетнего Василия II послали вдогонку за отъехавшим князем его брата князя Андрея Дмитриевича Белозерского с двенадцатью с половиной тысяч войска, но Андрей, не дойдя до «брата, князя Юрьа. воротился». Один из летописцев прямо писал, что Андрей Дмитриевич поступил так, «норовя (угождая) брату своему болшему князу Юрью»{47}.
Как же вел себя в этой обстановке основатель монастыря на Белозерской земле? Житие Кирилла и более поздние памятники, написанные много лет спустя, когда Кирилл Белозерский был уже признан святым, включали его наряду с митрополитом Алексеем, Сергием Радонежским, в число «благих советников» великого князя Московского и объясняли его уход на север желанием соблюдать «безмолвие», избегая владения «селами» (монастырскими земельными угодьями). Однако современные Кириллу памятники – документы, созданные в монастыре еще при жизни его основателя, – рисуют совсем другой образ Кирилла.
Создание монастыря на севере вовсе не означало для ушедшего из Москвы инока окончание его трудов и начало тихой отшельнической жизни. Напротив, первое, чем стал заниматься Кирилл на Белоозере, было приобретение соседних земель. Земли эти монастырь покупал или получал в дар. В последнем случае монахи в течение ряда лет молились о спасении души дарителя. Всего от времени Кирилла до нас дошло 45 таких купчих и «данных» грамот{48}.
Заботясь о расширении и укреплении своего монастыря, Кирилл не мог стоять в стороне от междукняжеских споров тех лет. Кому подчинялся его монастырь? Его официальным патроном считался архиепископ Ростова Великого, находившегося за сотни верст от Кириллова монастыря, гораздо ближе к Москве. Но власти этого духовного патрона Кирилл мог противопоставить власть светского государя – князя соседнего Белоозера. А этим князем был Андрей Дмитриевич, тот самый, который, как мы уже видели, не помог своему племяннику Василию II, вступившему на великокняжеский престол в 1425 г., «норовя» его сопернику Юрию. Кирилл был уже болен в те годы и пережил Василия I всего на два года, но он успел оставить один весьма красноречивый документ, свидетельствующий о политической позиции основателя Белозерского монастыря.
Это – «духовная», завещание Кирилла, составленное им перед смертью, когда он впал в «частые и различные болезни». Свой монастырь он передавал под покровительство Андрея Дмитриевича Белозерского и Можайского, именуя его при этом необычным титулом – «великого князя»: «Предаю монастырь – труд свой и своей братии – богу и пречистей богородици, и господину князю великому, сыну своему Андрею Дмитриевичю… А тобе, господина князя великаго, сына моего, Андрея Дмитриевичя… в всем бог простит и благословит. Господине и господине князь великий Андрей Дмитриевичь, много молю тя…» Такое настойчивое употребление великокняжеского титула при обращении к Андрею Белозерскому вовсе не было случайным. В грамотах, написанных в предшествующие годы, Кирилл точно и в соответствии с официальной московской традицией именовал Василия I (которого он призывал в 1399–1402 гг. примириться со своими соперниками – суздальскими князьями) «князем великим», а его братьев-вассалов Андрея Дмитриевича и Юрия Дмитриевича просто «князьями». Впоследствии, приводя текст завещания Кирилла, автор его жития тщательно исправлял в нем титул Андрея, ставя всюду вместо «великого князя» просто «князя». Необычная титулатура в духовной Кирилла свидетельствовала о его особом сочувствии Андрею Дмитриевичу, занявшему, как мы видели, особую, весьма независимую позицию в ходе борьбы за великокняжеский престол в Москве.
Но почему все-таки Кирилл в своем завещании назвал Андрея Дмитриевича Белозерского, едва ли претендовавшего на московско-владимирский престол, «великим князем»?
«Великими князьями» именовались на Руси конца XIV – начала XV века не только князья московские, владевшие владимирским великокняжеским престолом. Так же звались и тверские и суздальско-нижегородские князья, уже утратившие власть над Владимиром, так же именовались и князья Рязанские{49}. А Белозерское княжество вплоть до конца XIV века было независимым: «Неколи (некогда) бысть Белозерское княжество великое» – говорится в нескольких летописях; под властью белозерских князей находились более мелкие князья. «Великий князь» – это суверенный государь, князь, независимый от московско-владимирского. Под власть такого князя, – а не в распоряжение епархиального владыки, ростовского архиепископа (как это было обычно) – отдавал Кирилл Белозерский свой монастырь.
Независимость – вот то благо, которого искал на далекой окраине Русской земли основатель монастыря на Белоозере. Независимость эта заключалась не только в возможности выбирать собственную позицию в начинавшихся в Московской земле распрях. Она проявлялась и в духовной деятельности, в создании и накоплении книг, начавшемся почти сразу же после основания монастыря.
Это были не только книги, необходимые для церковной службы, но и сборники для чтения в свободное время. Свободного времени было, правда, у монахов не очень много: трудная монастырская жизнь с многочасовыми стояниями в церкви и заботами о хозяйстве занимала большую часть дневных часов. Но читать и писать любознательные и прилежные монахи могли и в кельях, по ночам, а летом даже без лампады – на Сиверском озере не хуже, чем на Неве. «…у вас в Кирилове в летнюю пору не знати (не различить) дня с ночью…» – вспоминал много лет спустя о кирилловских белых ночах Иван Грозный{50}.
От Кирилла Белозерского дошло двенадцать принадлежавших ему книг – едва ли не древнейшая личная библиотека Руси{51}.
Что находилось в этой библиотеке? Основу ее естественно составляли сборники канонического и церковно-учительного характера. Но наряду с религиозными и нравственными вопросами, Косму-Кирилла интересовали и совсем другие темы, относящиеся, как тогда говорили, к области «внешней», «еллинской премудрости». В сборниках Кирилла мы находим такие статьи, как «О широте и долготе земли» (включающие также рассуждение «о земном устроении», «о громовех и молниях» и т. д.), «Галиново на Ипократа» с изложением теории Гиппократа (взятой из сочинений его продолжателя Галена) о четырех стихиях, «Александрово» – сочинение одного из комментаторов Аристотеля о развитии человеческого зародыша и т. д. Характеризуя статьи из сборников Кирилла Белозерского, историки науки отмечают, что «статьи о широте земли, о земном устроении и пр. отличаются совершенно трезвым натуралистическим характером. В них нет никаких богословско-символических, мистических элементов. Совершенно деловым образом они сообщают ряд фактических сведений цифрового содержания о величине некоторых астрономических объектов и расстояний»{52}. Если «Христианская топография» Космы Индикоплова (греческого писателя V–VI вв. н. э.) настаивала на том, что земля «четвероугольна» и отвергала представление о ее «круглообразности» и нахождении среди неба (т. е. античную теорию шарообразности земли) как противное «всему божественному писанию» и неприемлемое для «естества и ума»{53}, то статья «О широте и долготе земли» предлагала именно такие «злая изложения» – земля здесь сравнивалась с желтком яйца, а отстоящее от нее со всех сторон на равных расстояниях небо – с окружающим желток белком.
Интересы Кирилла Белозерского были шире интересов большинства монахов того времени. И в своем монастыре он не склонен был подавлять их.
С самого начала своего существования Кириллов Белозерский монастырь входил в жизнь Руси как важный культурный центр – отдаленный, зато независимый.
Вокруг Ефросина
Начало деятельности Ефросина, его первые книгописные труды в Кирилловом Белозерском монастыре относятся как раз к годам окончания «великого нестроения», ко времени, когда едва оправившаяся от «свар» и «боев» земля начинала жить более спокойной Жизнью, и монахи монастыря, расположенного в далеко не безопасном месте, могли начать читать, писать и думать о самых разнообразных вещах.
Как появился в Кирилловом монастыре Ефросин, откуда он взялся? Конечно, инок этот не мог родиться в монастырских стенах и должен был откуда-то прийти. Но из каких мест? Когда принял постриг?
Если в 1446 г. Ефросин уже был монахом Кириллова монастыря, он мог увидеть небывалое зрелище: поддерживаемый с обеих сторон за руки, «уничижийный» (униженный) и «нищевидный», в монастырь был привезен бывший великий князь Василий Темный{54}. Должны были доходить до Ефросина и отзвуки последующих событий: восстановление Василия на престоле, изгнание и отравление Шемяки. Но достоверных сведений об этом у нас нет. Единственный надежный источник наших знаний об Ефросине – лаконичные записи на ефросиновских сборниках. Однако если о самом Ефросине сведений мало, то о его непосредственном окружении, о людях, живших и действовавших рядом с ним, а возможно и вместе с ним, кое-что известно. И главный источник этих сведений тот же, откуда мы узнаем и об истории Руси в те годы, – летопись.
Интересовался ли Ефросин летописанием и участвовал ли он в его ведении? Он знал труд «Нестора XV века» – «свод 1448 г.». Именно из этого свода (из Софийской I летописи) он переписал Послание новгородского владыки Василия тверскому епископу Федору о земном рае, увиденном новгородцами, и прямо отметил его летописное происхождение – «от летописца взято». В этом послании Василий утверждал, что рай на земле, где жили когда-то Адам и Ева, не погиб. Он рассказывал о нескольких новгородцах, плававших по морю и занесенных бурей к высоким горам, где светился «самосиянный свет» и слышались «веселия гласы» – это и был утраченный нашими праотцами земной рай. Из той же летописи Ефросин заимствовал «Уставы» церковного суда XII–XIII вв., написанные от имени Владимира Святославича и Ярослава{55}.
Но кирилловские монахи вряд ли довольствовались только «сводом 1448 г.». Можно предполагать, что летописный свод составлялся в последней трети XV века и в самом Кирилловом Белозерском монастыре. Он не сохранился в своем первоначальном и полном виде, но текст его дошел в двух доступных нам летописях конца XV века{56}.
С Кирилловым монастырем этот летописный свод связывает целый ряд особенностей. Из Кириллова монастыря начал в 1446 году Василий Темный свой победоносный поход на Шемяку. Но о том, что от клятвы Дмитрию Юрьевичу освободил Василия именно кирилловский игумен Трифон, благословивший его идти «с богом и со всею правдою на свою отчину на Москву», великокняжеские летописи умалчивают – об этом мы узнаем только из Кирилловского свода.
– Тот грех на мне и на моей братии на главах. А мы за тебя, за осподаря, бога молим и благословляем. – заявил Трифон, освобождая Василия Темного от крестного целования Дмитрию.
Обильно даны в том же своде известия о Северной Руси – о двинских землях, Белоозере, Устюге, Вологде, Галиче, входивших в состав древней Ростовской земли, а в XV веке сохранивших духовную власть ростовских архиепископов. Значительное место уделял свод белозерским князьям и их участию в военных действиях.
Военная тема вообще занимала автора неофициального северного свода. В конечной части свода, описывающей события после победы Василия Темного над Шемякой, помещена целая серия рассказов о бездарных и подкупных московских воеводах. Это приближенный Василия II Иван Ощера, испугавшийся и отступивший во время ордынского набега на Оку, ловчий (главный охотник) великого князя Григорий Перхушков, посланный взять Вятку, но польстившийся на «посул» (взятку) от вятчан и отступивший. Здесь и молодой постельник Ивана III, который, отправившись в ночную вылазку на Казань и имея возможность отрезать от берега казанцев, вышедших из кораблей, вместо этого «наполнился духа ратна» (воинственного) и не дождавшись, чтобы казанцы отошли подальше от судов, «кликну» (заорал) на них, они же «устрашились», вскочили вновь в ладьи и вернулись на Волгу. «В тот день сдеяся (совершилось) спасение велико татарам» по милости княжеского постельника, иронизировал летописец. Сходным образом помешал своей «судовой рати» взять Казань и другой воевода, упустивший момент, когда русские войска пришли «безвестно» (неожиданно) «на ранней заре», а казанцы спали: он не пошел на штурм, а на всякий случай отвел войско «от ворот прочь». Но наиболее ярок рассказ того же свода о нападении ордынского хана Ахмата в 1472 г. на Алексин. Во главе города стоял московский наместник, но оружия он не приготовил и оставалось одно – увести людей, скопившихся в городе. Но наместник, – «человек на рати вельми храбр», по издевательскому замечанию летописца, обещал защищать горожан, если они дадут ему взятку. Алексинцы дали ему пять рублей (сумма по тем временам немалая), но он пожелал получить еще «шестого рубля – жене своей». Пока торговались, к городу подошел Ахмат – и наместник с женой и слугами сбежал за Оку, оставив город на произвол неприятеля{57}.
За всеми этими сообщениями явно ощущаются рассказы «военного специалиста», делившегося с летописцем своими воспоминаниями. Со слов этого рассказчика летописец повествовал не только о бездарных воеводах, но и о других полководцах – настоящих. Чаще всего это «удалый воевода» Феодор Васильевич Басенок. Именно Басенок, по рассказам свода, «мужествовал» еще до свержения и ослепления Василия, в войне с татарами. После постыдного отступления Ощеры он явился на Оку и разбил ордынцев. Басенок был одним из участников победы над Новгородом в 1456 г. и его поэтому вместе с Василием Темным пытались убить спустя четыре года новгородские «шильники»{58}.
Где же был Федор Басенок в годы, когда составлялась летопись, основанная на его рассказах, и где она могла быть составлена? С начала 70-х годов, по сведениям одного краткого кирилло-белозерского летописца («летописчика», как именуют такие кратчайшие летописи){59}, Басенок пребывал в ссылке в Кирилловом Белозерском монастыре. Появление его не могло не напомнить монастырской братии недавнее прошлое: у привезенного в монастырь Басенка, как и у его государя Василия Темного, вместо глаз были пустые глазницы. За несколько лет до ссылки, сразу после смерти Василия II, верный слуга великого князя был ослеплен по повелению нового государя – Ивана III; затем его отправили в Кириллов. Очевидно, он и был рассказчиком, поведавшим летописцу о военных событиях тех лет – славных и позорных. Косвенно эти рассказы проливают некоторый свет и на внезапную опалу и ослепление Басенка в 1463 г.; верный вассал Василия Темного был, видимо, человеком язвительным, прямым и не воздержанным на язык – черты, мало пригодные для придворной карьеры.
Хорошо известен в Кирилловом монастыре был и Григорий Перхушков, польстившийся в 50-х годах, по словам летописца, на взятку от вятчан. Склонность к мздоимству, обнаруженная им во время похода на Вятку, не помешала ему сделать карьеру: к началу 70-х годов он стал княжеским волостелем (управителем волости) на соседних с монастырем двинских землях. Наконец, с Кирилловым монастырем был связан и брат Ивана III – удельный князь Юрий Васильевич, смертью которого в 1472 г. завершался свод (составлен он был, очевидно, в годы, непосредственно следующие за 1472 г.). Юрий Васильевич Дмитровский был редким для той эпохи князем, который, дожив до 31 года, так и не успел жениться и оставить потомство. Значительную часть его наследства составили вклады в монастыри; одним из наследников Юрия был все тот же Кириллов Белозерский монастырь{60}.
Кирилл Белозерский не даром основал свой монастырь на северной окраине Руси, далеко от Москвы, и обеспечил его независимость двойным подчинением – ростовскому владыке и местному белозерскому князю. Кирилловские монахи, действительно, отличались необычной для Московской Руси независимостью мысли.
Независимость эта особенно сказалась в рассказе северного свода о присоединении Ярославля в 1463 г. и о предшествовавшем этому событию открытии в ярославском Спасском монастыре мощей трех святых князей – Федора Ростиславовича Смоленского-Ярославского и двух его сыновей. Летописец начинал с невинного и на первый взгляд вполне благочестивого рассказа о «явлении» чудотворцев. «Во граде Ярославли», – сообщал он, явился «чюдотворець, князь велики Федор Ростиславичь Смоленский, и з детми, со князем Костянтином и з Давидом, и почало (начало) от их гроба прощати множество людей безчислено». Пока все это звучало вполне благопристойно: «прощати» – здесь значит исцелять; исцеление от болезней считалось прощением грехов. Но дальше неожиданно: новые чудотворцы, поясняет летописец, явились «не на добро всем князем ярославским: прости лися со всеми своими отчинами на век, подавали (отдали) их великому князю Ивану Васильевичи)». Это игра слов: благодаря новым чудотворцам «простились» (распрощались) не только «прощенные» калеки со своими болезнями, но и ярославские князья со своими родовыми владениями. Упоминается и виновник этого «прощения» – «прощания»: дьяк Алексей Полуектов, давно уже, по словам летописца, уговаривавший московских князей прибрать к рукам ярославские земли. А дальше и совсем неблагочестиво: «А после того в том же граде Ярославля явися (явился) новый чюдотворец, Иван Огафоновичь, сущей созиратай (истинный соглядатай) Ярославьской земли: у кого село добро, ин (то и) отнял, а у кого деревня добра, ин отнял и отписал на великого князя ib (ее), а кто будет сам добр, боарин или сын боярьской, ин его самого записал, а иных его чюдес множество немощно (невозможно) исписати ни исчести, понеже бо во плоти суще (есть) цьяшос». Последнее слово было настолько зловещим, что летописец решился записать его только «литореей», популярным среди книжников XV в. шифром. Ключ этого шифра представлял собой алфавит согласных букв, расположенный двумя строчками: сверху первая половина алфавита, а под ней – вторая, записанная в обратном порядке:
б в г д ж з к л м и
щ ш ч ц х ф т с р п
При зашифровке верхняя буква заменяла нижнюю, а нижняя – верхнюю (гласные не менялись). Если применить этот ключ к нашей летописной записи, то станет ясно, каким страшным именем обозвал летописец княжеского наместника в Ярославле: «цьяшос» значит «дьявол».
От кого исходила эта запись? Известен церковный деятель, отказавшийся поверить в святость явленных в 1463 г. чудотворцев. Это был давний кирилловский игумен, – тот самый, который в 1446 г. освободил Василия Темного от присяги Шемяке и открыл для него путь на Москву. Трифон несомненно был человеком незаурядным и решительным: поддержав опального и ссыльного князя против государя, сидевшего на московском престоле, он подвергал себя серьезной опасности – ведь позиция белозерского князя была далеко не ясной, а брат Михаила Андреевича Иван Можайский был ближайшим союзником Шемяки. Почему же Трифон решил поддержать Василия Темного? Немалую роль здесь сыграло, видимо, то обстоятельство, что сыновья Юрия Галицкого показали себя жителям северных земель еще более жестокими завоевателями, чем Василий II: старший брат Шемяки Василий Косой во время одного из походов ограбил ростовского архиепископа, повесил одного из его слуг и «посека (порубил) и повешал» многих жителей соседнего с Белоозером Устюга. Выступив на стороне Василия Темного, Трифон рисковал не менее, чем перед тем Федор Басенок. Зато после победы Василия бывший кирилловский игумен был переведен ближе к Москве – в Ярославский Спасов монастырь, а год спустя стал архиепископом Ростовским – одним из трех высших иерархов на Руси. Но пребывание на владычном престоле оказалось также непродолжительным, и причиной тому было именно неверие в ярославских чудотворцев. Чудотворцы явились в 1463 году, как раз тогда, когда Трифон покинул Ярославть.
Владыка не поверил «чудесем» (чудесам) в Ярославле и подозревал, что открытием мощей его преемник «много богатество приобретя (приобрел)»; он послал своего протопопа посмотреть новоявленных святых. Тут, по словам враждебной Трифону летописи, произошло чудо: дерзкий протопоп упал на землю и онемел, а Трифон оставил архиепископство и плакал о своем прегрешении «до смерти своя»{61}. Действительно ли Трифон раскаялся в своем неверии в ярославских чудотворцев, мы, конечно, не знаем, но иронический рассказ о ярославских чудотворцах, который читается в севернорусском своде 1472 г., едва ли мог восходить к владычному (архиепископскому) летописанию времени Трифона (как предполагали исследователи). Даже если бы Трифон захотел всенародно заявить в официальном архиепископском своде о своих сомнениях в святости найденных мощей, то балагурить по этому поводу – играть словами «прощати – прощаться», да еще обзывать княжеского наместника неудобопроизносимым словом на страницах владычной летописи было бы чересчур дерзко. Однако Трифон в течение двенадцати трудных лет стоял во главе Кириллова монастыря и сохранил связи с этим монастырем и в последующие годы. Несколько лет игуменом монастыря был родной брат Трифона. Конечно, в Кирилловом монастыре у Трифона оставались приверженцы и единомышленники. В их среде, видимо, и нашелся летописец, позволивший себе дерзкие шутки по поводу «прощения – прощания», дарованного ярославскими чудотворцами, и о «чудотворце» – дьяволе{62}.
Рассказ о ярославских чудотворцах – эго как раз пример тех «глумов», с которыми так энергично боролись ревнители благочестия и которые приводят на память сборники Ефросина. Рассказ о князьях-чудотворцах и чудотворце-наместнике – это именно такой рассказ, который не рекомендовалось, говоря словами кирилловского книгописца, читать «в зборе».
Но эта близость, естественно, позволяет высказать предположение о принадлежности Ефросина к кругу бывшего кирилловского игумена, а затем опального ростовского владыки – Трифона. Связь Ефросина с кирилловским летописанием 70-х годов подтверждается и имеющимися рукописями.
Кирилло-Белозерский свод не дошел до нас в своем первоначальном виде, но ряд летописей, восходящих к этому своду, сохранился именно в кирилловских рукописях, в частности в кратком «Летописце русском» Кириллова монастыря Белозерского. А летописчик, читающийся в одном из сборников Ефросина, на поверку оказывается еще более кратким вариантом, как бы конспектом того же самого «Летописца русского» из Кириллова монастыря{63}.
Сходство обнаруживается и в содержании кирилло-белозерского летописного свода начала 70-х годов и сборников Ефросина. В кирилловском своде содержатся любопытные известия о дьяке с редким именем Кулодарь. Кулодарь этот, сообщает летописец, прежде был дьяком в Москве и во время одного из столкновений Василия II (еще не ставшего Василием Темным) с Дмитрием Шемякой выдал Галицкому князю военные планы Василия. Дмитрий Шемяка счастливо избежал в тот раз неожиданного нападения великого князя, а Василий II, «доличився» (уличив Кулодаря в измене), велел его бить «кнутьем» перед всеми войсками и лишил дьячества{64}. Летописное известие свидетельствует о том, что в Кирилловом монастыре дьяк Кулодарь не пользовался уважением. А в ефросиновски. х сборниках мы находим подтверждение этому. «На Москве некто тать (вор) именем Куладарь до 300 церкве покрал», – записал Ефросин в одном из сборников{65}.
Кружок монахов, близких к бывшему игумену Трифону и позволявших себе довольно свободно думать и писать, существовал в Кирилловом монастыре в трудное для него время. Двойное подчинение монастыря, установленное Кириллом, обеспечивая относительную независимость северной обители, вместе с тем приводило к постоянным столкновениям между белозерскими князьями и ростовскими архиепископами из-за монастыря. Уже Трифон по время своего недолгого пребывания на ростовском владычном престоле поставил кирилловского игумена бел согласия белозерского князя. Споры между князем и владыками, естественно, находили отклик в самом монастыре. Сторонники Михаила Андреевича Белозерского ссорились с приверженцами архиепископа. Сменявшие друг друга игумены были ставленниками то той, то иной группы, и назначение очередного игумена вызывало иногда демонстративный уход недовольных «старцев» из монастыря. Дело доходило даже до рукоприкладства: в одном из кирилловских сборников упоминается о том, как «игумен казначея посохом сек»{66}.
Эта борьба не могла не отражаться на судьбе Ефросина и близких к нему иноков. Уже недолгое пребывание Трифонова брата Филофея на посту игумена было предметом споров; опала Трифона привела к отставке Филофея. В 70-х годах игуменом стал Игнатий. Как он относился к Ефросину? Игнатий был большим любителем книгопнсания: в описи кирилловских рукописей, составленной в конце XV – начале XVI в., упоминается «Игнатия игумена пять соборников (сборников)». Один из этих сборников был в основном написан рукой Ефросина{67}. Значит, Игнатий ценил усердного книгописца.
С 1476 г. игуменом стал Нифонт, один из зачинщиков «брани» в Кирилловом монастыре – противник ростовского владыки и приверженец белозерского князя. Особенно важной была другая характерная особенность Нифонта. Новый игумен был ярым ревнителем благочестия: когда в Москве спустя несколько лет появились еретики и Иосиф Волоцкий стал с ними бороться, именно Нифонта (ставшего к тому времени суздальским епископом) Иосиф назвал «главой всем» в этой борьбе{68}. «Глумы» и «кощуны», которые позволяли себе составители летописного свода, включавшего рассказ о ярославских чудотворцах, как и Ефросин с его сборниками, должны были привлечь внимание бдительного игумена. Слухи об иноках, увлекающихся сомнительными «писаниями», по всей видимости в монастыре ходили. Предостерегая одного из своих учеников против «мирская мудрьствующих» (т. е. увлекающихся светскими рассуждениями) и «растленных (испорченных) разумом» вольнодумцев, кирилловский старец Нил Майков, впоследствии прозванный Нилом Сорским, советовал ему следовать только писаниям «истинным, божественным»: «Писания бо многа, но не вся божественна суть» (письменных сочинений много, но не все они божественны){69}. Все это не сулило ничего доброго Ефросину.
Еще в игуменство Игнатия Ефросину была поручена большая работа – переписка «Торжественника», собрания житий и «слов», посвященных церковным праздникам и святым и расположенных по месяцам и числам. Писал его Ефросин больше четырех лет – и совсем не так, как свои келейные сборники. Здесь мы не найдем ни ефросиновских комментариев (кроме одного – рядом с одним инициалом, изображающим птицу, пояснено: «пава»), ни добавлений из других памятников. Зато не менее десяти раз Ефросин сделал в «Торжественнике» записи другого типа, довольно обычные для писцов, устававших от своего труда, – о дате, дне недели и даже часе окончания той или иной части. Из этих записей мы узнаем, что вплоть до 1476 г. (при Игнатии) книгописец, умевший когда надо писать очень быстро, вел свою работу крайне неторопливо – спустя рукава. Средняя часть «Торжественника» – 76 листов – писалась, например, два года. Ефросин предпочитал в те же годы переписывать более интересное для него «Хожение игумена Даниила». Но в 1476 г. благожелательного Игнатия сменил строгий Нифонт, и конец работы – последние 130 листов – пришлось переписать в достаточно короткий срок – за четыре месяца. Отводил душу Ефросин только в заключительных записях: «генваря 13 в понедельник в 5 часов нощи кончах (окончил)… генваря 18 в суботу… в суботу генваря 25 в 5 час нощи…» и т. д. – и в конце: «Бог мя избавил… Сильно… рад, коли (когда) кончах строку последнюю…»
«Не за епитимью ли написана эта огромная книга. Нетерпеливое многословие писца высказывает что-то подобное», – предположил археограф XIX в. архимандрит Леонид Кавелин{70}. Конечно, это только догадка, хотя и исходящая от ученого, превосходно знавшего и древнерусскую письменность и церковную практику. Следствием давления духовного начальства на Ефросина могло быть не столько написание всей этой обширной книги, сколько срочное завершение ее в начале 1477 года.
Но так или иначе если работа эта была поручена Ефросииу с целью направить его на истинный путь, то действия эта мера не возымела. Ибо срочное окончание работы над «Торжественником» Ефросин отметил способом, который трудно признать благочестивым. На последнем листе рукописи, между словами «Бог мя избавил» и «Силно есмь рад, коли кончах строку последнюю.» он вписал неожиданное и явно неблагопристойное замечание – малопонятное нынешнему читателю, но достаточно ясное и совсем не понравившееся современникам. Запись Ефросина настолько смутила монастырских книгохранителей, что опа была наполовину стерта и кто-то приписал к ней: «О горе ока(я)н-ному, внимающему сего света житие» (т. е. следующему нравам людей «этой» – мирской жизни){71}.
Литературные занятия Ефросина не могли остаться без последствий при новом, более строгом игумене монастыря. Весной 1477 г. он сделал заключительную запись на «Торжественнике», а в конце того же года сразу же после написания апокрифического «Сказания о 12 пятницах» (которое не советовал показывать «многим») покинул Кириллов монастырь. Это был не первый его уход из монастыря; он, по-видимому, «отходпл» из него несколько раз. Вопрос, «кыми винами (по какой причине) ити черньцу из монастыря», Ефросин обсуждал в одном из своих сборников. Кроме обычных причин, указанных в кодексе церковного права – Кормчей книге (если игумен «еретик и блудник», если в монастырь приходят женщины и «отро-чата»), он называл еще несколько – и в числе их такое положение, когда «с кем ненависть и брань будет»{72}.Такое положение создалось, очевидно, в 1477 г., но на этот раэ Ефросин не просто ушел, а «на игуменство поехал», как гласит запись на поле одного из ефросиновских сборников.








