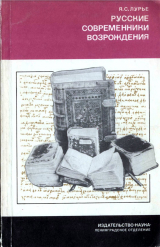
Текст книги "Русские современники Возрождения"
Автор книги: Яков Лурье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Куда же именно поехал на игуменство Ефросин? Мы можем предполагать, что игуменом он стал в небольшом Прилуцком монастыре, подчиненном Троице-Сергиеву монастырю и расположенном в Углпцком княжестве. Именно об этом монастыре упоминалось в одной из троицких грамот – о передаче Иваном Кулодарем земель монастырю и о получении их игуменом Ефросином, написавшим соответствующий документ. Речь шла явно об уже знакомой нам личности – о том самом Кулодаре, которого кирилловский свод описывал как наказанного кнутьем предателя, а Ефросин назвал церковным «татем». Биография Кулодаря восстанавливается довольно ясно. Наказание кнутом за измену Василию II отнюдь не было концом его карьеры: после нее он перешел на службу к врагу Василия II – Ивану Можайскому – и скорее всего именно во время господства Шемяки в 1446–1447 гг., в Москве, «покрал» 300 церквей, а после поражения и бегства можайского князя стал дьяком его брата Михаила, и в то время, когда о нем писала кирилловская летопись, находился невдалеке – на Белоозере.
Пути Ефросина и Кулодаря пересеклись, таким образом, дважды: на Белоозере и в Угличе. О поездке книгописца в Углич свидетельствует и запись в одном из его сборников, где к выписке из «Странника» («хожение к святым местам» из Москвы в Иерусалим и обратно) рукой Ефросина сделано отсутствующее в других списках добавление: «От Белаозера до Углича 240 верст». Получив для монастыря углицкие земли Кулодаря, Ефросин как бы покарал давнего «татя» за украденное им в годы «нестроения» церковное имущество{73}.
По едва ли этот эпизод занимал важное место в жизни Ефросина. Больше никаких следов его игуменской деятельности мы не обнаруживаем, а в 1479 г. Ефросин уже вновь выступает в привычной ему роли книгописца – переписывает (а возможно и редактирует) поэтическую «Задонщину», сохранившуюся в одном из кирилловских сборников. Он возвращается в Кириллов монастырь. Это возвращение совпало с новыми перипетиями борьбы в родной обители и с уходом сурового Нифонта с поста игумена.
Споры в Кирилловом монастыре были связаны и с «большой политикой» тех лет – с борьбой между великим князем и противостоящими ему силами, в частности удельными князьями.
В 1456 г., через полгода после похода на Новгород и Яжелбицкого мира, Василий II приказал «поимати» (арестовать) своего шурина и двоюродного брата – удельного князя серпуховского Василия Ярославича. Верный союзник великого князя в борьбе за московский престол, бежавший когда-то от Шемяки в Литву и возглавивший борьбу за права Василия Темного, серпуховский князь совершенно не ожидал такого удара. В отличие от Ивана Можайского он не успел своевременно бежать и попал в заточение – в Углич. В 1462 г., незадолго до смерти Василия И, серпуховские дворяне сделали попытку освободить своего князя, заговор их был раскрыт, а сами они жестоко наказаны.
Новый великий князь, Иван III, вступивший и; престол в том же году, явно склонен был продолжать политику своего отца и в его наступлении на Новгород и в отношениях с удельными князьями.
Политика Ивана III по отношению к Михаилу Андреевичу Белозерскому начала определяться с конца 60-годов, когда преемником Трифона на посту ростовского архиепископа стал великокняжеский духовник (личный священник и исповедник) Вассиан Рыло, почти сразу же начавший борьбу с белозерским князем за власть над Кирилловым монастырем. Сторонником белозерского князя в этой борьбе оказался глава церкви – митрополит Геронтий, покровителем Вассиана – Иван III; Вассиан со своей стороны поддержал великого князя и в его спорах с Геронтием по церковным вопросам.
Как же относились к этим спорам приверженцы опального Трифона – составители кирилло-белозерской летописи? Как и все летописание второй половины XV в., кирилло-белозерский свод, доведенный до 1472 г., основывался на «своде 1448 г.», но переделывал его по иному, чем великокняжеские своды. Подобно «Нестору XV пека», составитель кирилловского свода вовсе не был чужд «политических страстей и интересов», но еще меньше, чем его старший собрат, он может считаться «официозным апологетом» великокняжеской власти. Он не боялся осуждать носителей этой власть, когда они, по его мнению, поступали несправедливо и постыдно. Он включил в свое изложение целый ряд рассказов о бездарных и подкупных московских воеводах, – рассказов, исходивших, по всей видимости, от опального Басенка. Казнь серпуховских дворян, пытавшихся освободить своего князя, он описал со всеми ее кровавыми подробностями: Василий Темный приказал их «казнити, бити и мучити, и конми волочити по всему граду» (волочить по городу, привязав к копям), а затем велел им «главы отсещи» (отсечь). Множество народа, видевшее эту расправу, «от боляр, и от купцов великих, и от простых людей», были «в ужасе и удивлении»{74}.
Едва ли отношение летописца к новому великому князю, Ивану III, было более сочувственным, чем отношение к его отцу. Рассказывая о присоединении Ярославля в 1463 г., летописец обозвал «дьяволом» «нового чюдотворца» – княжеского «созиратая» (соглядатая) Ивана Агафоновича (речь шла, очевидно, о князе Иване Стриге-Оболенском, великокняжеском наместнике в Ярославле){75}. Но и обездоленных ярославских князей летописец явно не оплакивал – их «прощание» с вотчинами, полученными от предков-«чудотворцев», вызывало у него скорее насмешку.
Так же не связана была с какой-либо из враждебных сторон и позиция кирилло-белозерского летописца в рассказе о борьбе великого князя с Новгородом. Поход великого князя на Новгород в 1471 г. сопровождался кампанией, которую можно с полным основанием назвать пропагандистской. В обозе московского войска находился даже дьяк с особыми полномочиями – Степан Бородатый, умеющий «говорити по летописцем руским», вычитывая из них «измены давние» новгородцев великим князьям. Новгородцев обвиняли в отступничестве от православия – в намерении подчинить своего архиепископа киевскому митрополиту, «сущему латинянину», в сговоре с польско-литовским королем Казимиром, посадившим в Новгороде своего ставленника, «Михаила Олелькова сына, Киевского». Все эти обвинения были крайне сомнительными. Если до середины 60-х годов киевский митрополит действительно поддерживал связи с патриархом-униатом, жившим в Риме, то теперь он уже переменил свою ориентацию и подчинился православному патриарху, пребывавшему в Стамбуле (Константинополе). Именно киевского митрополита [константинопольский патриарх признал законным «митрополитом всея Руси», а московского отлучил от церкви. Пе был ни «латинянином», ни ставленником Казимира и Михаил Олелькович Киевский – он был двоюродным братом Ивана III по матери, и его отношения с Казимиром были совсем не дружественными.
Кирилло-белозерский летописец не знал и не хотел знать обо всей официальной пропаганде вокруг новгородского похода. Итоги этого похода были им описаны без всякого восхищения: разбив новгородские войска на реке Шелони, захватив «посадников лучших и людей добрых новгородцев», Иван III с одних взял выкуп, а других «привели к великому князю, он же, разъярився за их измену, повеле казнити их: кнутьем бити и главы их отсещи (отсечь)». Но и Новгороду он не сочувствовал. Расположенное на самой границе с новгородской Двинской землей, Белозерское княжество не раз испытывало обиды от соседей, захватывавших исконные «ростовщины» и «белозерщины». Именно поэтому автор свода писал, что великий князь пошел на новгородцев «за их измену и неисправление (несправедливость)» и, рассказав о победе московских войск Гна Двине, выразил одобрение Ивану III: «…везде бо бог помогаше (помогал) великому князю за его исправление (правое дело)»{76}.
Кирилло-белозерские книжники не могли и, видимо, не намеревались отстаивать идеи «братского содружества» русских земель, привлекавшие «Нестора XV века». Победа московского великого князя была совершившимся фактом, и кирилловский летописец этот факт признавал, но сохранял по отношению к власти независимую позицию.
’ Такой же была и позиция Ефросина. Непродолжительное игуменство в 1477 г. было, по всей видимости, его единственным выступлением в сфере административной деятельности. Вернувшись в монастырь, он вернулся и к своему основному делу – книгописанию.
Сборники Ефросина
Ценность сборников Ефросина далеко не исчерпывается помещенными в них «отреченными» сочинениями, «баснями и кощунами». Сборники его были чрезвычайно разнообразны по содержанию.
Во многом Ефросин как книгописец следовал основателю своего монастыря – Кириллу. В сборниках Ефросина немало церковных сочинений, которые привлекали еще Кирилла. Следовал Ефросин Кириллу Белозерскому и тогда, когда переписывал те же «естественнонаучные» статьи, какие содержались в Кирилловых сборниках: «О широте и долготе земли», «Галиново на Ипократа», «Александрово». Сведения «о величестве солнца и луны и земля», «о скотьи души», о всевозможных животных Ефросин выписывал и из других источников. Чрезвычайно интересовала его также история (оп выписал из древнего переводного сборника рассказ Плутарха о Марафонской битве) и география – особенно сведения о чужих странах. Один из памятников, помещенных в сборниках Ефросина, непосредственно связан с тогдашней Западной Европой. Это послание некоего Феофила Дедеркина Василию Темному «из Заримья из латины» о землетрясении, произошедшем в 1456 г. в «Римьской земле» по пророчеству некоего «князя Миколая». Первый издатель этого текста воспринял его как легенду, но сопоставление с западными источниками обнаруживает, что перед нами рассказ о действительном происшествии – огромном землетрясении, произошедшем в Италии и других странах Западной Европы в ночь с 4-го на 5-е декабря 1456 г.{77}.
Ефросин любил хронологические таблицы, расчеты, толкования «неудобьпознаваемых речей», перечисления «книгохранителей» разных эпох, названия тех или иных слов по-татарски, по-«римски», «египетски», «еврейски», «еллиньски». Из запретной «Беседы трех святителей» он заимствовал не только двусмысленные вопросы, но и научные сведения: «Язык человеческыхь 72, четвероногих же род 54, а рыбыя род 102, а змиина рода 103».
Но наиболее интересна для нас одна особенность сборников Ефросина – помещение в них целого ряда памятников, которые мы определили бы сейчас как произведения художественной литературы. Именно в этом отношении деятельность его имела большое, скажем решительнее, историческое значение.
Чтобы оценить ее, напомним взгляд на средневековую литературу Запада и России, высказанный еще в 1834 г., но до сих пор разделяемый многими людьми, не занимающимися специально древнерусской литературой!
«Европа наводнена была неимоверным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч., но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют полти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности».
Это писал Пушкин в статье под заголовком «О ничтожестве литературы русской»{78}. Во второй половице XIX века такой взгляд в значительной степени был опровергнут работами исследователей, открывших в рукописных собраниях множество произведений светской литературы русского средневековья. Была обнаружена «Задонщина», рядом фрагментов совпадающая со «Словом о полку Игореве», близкое по жанру к этим двум памятникам «Слово о погибели Русской земли» – поэтический плач о разорении Русской земли в XIII в., множество апокрифических легенд, наконец, произведения повествовательной литературы – сюжетная проза. Наиболее яркие из произведений светской литературы, найденные после Пушкина («Слово о Горе и Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве» и дру-ие сатирические повести), были созданы в XVII в., но и XV век оказался отнюдь не «пустынным». Издаваемая сейчас многотомная антология древнерусской литературы – «Памятники литературы древней Руси» – обнаруживает любопытный факт: самым обширным из до сих пор выпущенных томов этой антологии оказывается том, посвященный литературе второй половины XV в., где почти все памятники относятся к последней трети века – времени Ефросина. Литература этого периода оказалась настолько обильной, что часть ее пришлось перенести в следующий том антологии, начинающийся с ряда памятников конца XV века.
Среди этих памятников видное место занимает сюжетная проза, предшественница беллетристики нового времени. В числе памятников второй половины XV в. были переводные «Александрия» и «Троянская история» и басенный цикл восточного происхождения «Стефанит и Ихнилат». Были и оригинальные памятники, созданные на русской почве, – «Повесть о мутьянском (румынском) воеводе Дракуле», сказочная «Повесть о старце, просившем царскую дочь себе в жены», и дошедшая в более поздней традиции, но восходящая, по-видимому, к тому же времени «Повесть о Басарге».
Ефросин был большим ценителем таких сочинений, как и светской литературы вообще. Его руке принадлежат списки «Александрии», «Повести о Дракуле»; им же написаны наиболее ранние из известных списков «Задонщины» (со вставленным туда, видимо, самим Ефросином отрывком из другого сходного памятника – «Слова о погибели Русской земли»), поэтического «Слова о хмеле», «Плача Адама о рае» («Стиха старины запивом»), диалога о добрых и злых женах, «Сказания об Индийском царстве», «Хожения игумена Даниила» (XIII в.), «Слова о двенадцати снах царя Шахаиши», апокрифической «Епнстолии о неделе» («Списка Иерусалимского»). Сказания о Соломоне и Китоврасе читаются и в более ранних списках, но Ефросин дает наиболее полную подборку, включая и неизвестный по другим спискам рассказ о Китоврасе и его жене.
Едва ли можно причислить какой-либо из памятников, переписанных Ефросином (кроме, может быть, «Задонщины») к жанру «поэм», отсутствие которых в русском средневековьи огорчало Пушкина. Но многие из них явно связаны с устным поэтическим творчеством. «Сказовый стих», близкий к фольклору, звучит в весьма выразительном «Слове о хмеле», описывающем состояние пьяницы:
Пианьство / князь и боляром / землю пусту створяет (т. е. опустошает)
А людей добрых и равных / и мастеров / в работе счиняет
(в рабство повергает)
О ком молва в людях? / О пианици.
Кому очи сини (синяки под глазами)? / Пианици.
Кому оханье велико? / Пианици.
Кому горе на горе? / Пианици.
Но текст «Слова о хмеле» показался Ефросину еще недостаточно выразительным, и он присоединил к нему еще фрагмент из другого, тоже «глумотворпого» и написанного «сказовым стихом» памятника – «Слова о ленивых, сонливых и упьянчивых»:
Лежа не мощно / бога умолити
Чти и славы / не получити.
Недостатки у него / дома седят,
А раны (беды) у него / по плечам лежат,
Туга (печаль) и скорбь по бедрам / гладом позванивает.
Убожие у него в калите (кошельке) / гнездо свило{79}.
Еще яснее, чем черты «поэм», обнаруживается в этих памятниках склонность к сатире.
Приведем хотя бы скоморошеский диалог, введенный Ефросином в «Слово о женах о добрых и о злых» и неизвестный по другим источникам, возможно, сочиненный самим книгописцем:
Добрая жена мужа своего любит и доброхот во всем.
– А злаи жена мужа своего по хрепту биеть немилостивно.
А добрая жена главу своему мужу чешеть и милусть его.
– А злая жена по рту и по зубам батагом бьеть не отмахивая…
А добрая жена по утробе гладить мужа своего не лестию (без обмана).
– А злая жена по брюху обухом биеть не на живот (жизнь), но кормить его лихою ествою (едою) насмерть.
А добрая жена по чреву нежить аки истинная горлица, любовная ластовица.
– А злая жена по тайным удом (частям тела) ножем колет насмерть…{80}
Эти и еще многие тексты ефросиновских сборников (включая приведенные в начале «глумы» и «кощюны») определенно указывают на то, что «сатиры», популярность которых в западной средневековой литературе отмечал Пушкин, привлекали и кирилло-белозерского книгописца, как и близких ему книжников (вспомним сатирические рассказы о бездарных воеводах в кирилло-белозерском своде).
Как обстояло дело и русской литературе XV в. с «романсами»? Под этим термином Пушкин, очевидно, подразумевал поэтический исторический эпос средневековья, – например, цикл «романсов» «о моем Сиде» – популярнейшем герое испанской истории Средневековья{81}. Сходный характер имели в средние века и поэтические романы (слова «роман» и «романс» – одного происхождения) – о Троянской войне, об Александре Македонском. В Россию такие романы пришли уже в прозаическом изложении, но к концу XV века они и здесь стали достаточно популярны. Это «Троянская история» и роман об Александре Македонском «Александрия».
«Александрия» была одной из самых любимых книг Ефросина. Он включил в свои сборники так называемую «Хронографическую Александрию», переведенную на Руси не позднее XII в., несколько отдельных сказаний об Александре; полностью и собственноручно он переписал южнославянский роман об Александре – так называемую «Сербскую Александрию». Александр Македонский как образец величайшего могущества и вместе с тем бренности человеческой личности постоянно привлекал средневековых книжников и на Западе и на Востоке. Но особенно усилился, как отметили исследователи, интерес к этой теме во времена позднего средневековья и начала Возрождения. Сербская Александрия (оригинал ее мог быть греческим, а мог быть и южнославянским, а сама она, вероятно, была создана в Далмации – на границе между греко-славянским и итальянским культурным миром) возникла именно в конце средних веков – в XIII–XIV вв. На Русь она проникла путем переделки южнославянского текста в XV веке. Наиболее тщательно разработана в русской редакции вторая часть романа – путешествие Александра по «дивиим» странам; каждый эпизод ее снабжен особым заголовком. Судьба Александра раскрывается через множество перипетий и приключений. Александр, которому с детства предсказана ранняя смерть, отнюдь не склонен подчиняться судьбе и предаваться отчаянию: напротив, он все время действует, воюет, рискует головой – «голову свою назад мещет (швыряет)», по словам его приближенных. В разгар войны с персидским царем Дарием он является к царю под видом собственного посла и в момент, когда его уже узнают и хотят взять в плен, убегает из дворца с помощью хитрых уловок, а затем побеждает царя в бою. Храбростью и хитростью он одолевает и другого своего могущественного противника – индийского царя Пора. Но все эти блистательные победы никак не могут изменить судьбы героя. За несколько дней до смерти царя пророк Иеремия, оказывающийся по воле автора другом и наставником Александра, предупреждает его о близкой кончине. Сорокалетний полководец устраивает последний смотр войскам. Мимо него проходят его победоносные воины – греки, сирийцы, индийцы, египтяне, евреи – все пароды, входящие в царское войско. Глядя на них Александр качает головой и говорит:
– Зриши (видишь) ли всех сих? Вси бо те (ведь все они) под землю зайдут!{82}
К мысли о бренности человеческой жизни читатель приходит не через декларации и поучения автора, а через сюжет – он следует за судьбой героя и вместе с ним переживает его победы и конечную судьбу. Такая косвенность авторской позиции вообще характерна для сюжетной прозы – читатель сам делает вывод из предложенных ему коллизий. И вывод этот не всегда можно было предсказать. Царь Александр умер молодым. Но какой должна была быть посмертная судьба героя? Ждала ли царя-язычника геенна огненная или же дружба с Иеремией и вера в единого бога, приписанная ему автором, могла обеспечить ему царствие небесное? В южнославянском тексте «Александрии» вопрос этот не ставился, но в той русской версии романа, которая читается у Ефросина, рассказывается, что после смерти царя «аггел господен» взял его душу и отнес «иде же (куда) бог ему повеле»{83}. Куда же именно «аггел» отнес душу добродетельного, но не крещенного царя? Вопрос этот оставался открытым.
Двусмысленность авторской позиции, в «Александрии» только намечающаяся, в еще большей степени проявляется в «кощунах и баснях» о Соломоне и Китоврасе, столь любимых Ефросином. Что такое «дивий зверь» Китоврас – доброе это существо или злое? Он помогает царю Соломону строить храм, но он же, когда царь выражает сомнение в его могуществе, забрасывает Соломона на край света, откуда его с трудом возвращают мудрецы и книжники. Легенды о Китоврасе не прославляют и не осуждают его; главная черта Китовраса – остроумие, способность перемудрить («переклюкать», как говорили в древней Руси) любого собеседника – именно то, что в Возрождении получило наименование «virtu» (виртуозность, изящество).
Так же противоречив – коварен и в то же время остроумен – был главный персонаж другого памятника, не читающегося в известных нам сборниках Ефросина, но появившегося на Руси в то же время: в басенном цикле «Стефанит и Ихнилат». Главный его герой несомненно «мудроумный» зверь Ихнилат, ловкий интриган, ссорящий царя Льва с его фаворитом Быком и побуждающий царя расправиться с фаворитом. Преданный затем суду, Ихнилат изобретательно защищается, доказывая, что он не более виновен в гибели Быка, чем остальные. Гибель Ихнилата оказывается не торжеством справедливости, а результатом интриг матери Льва, и перед смертью хитрым зверь обнаруживает и добрые чувства, оплакивая гибель (самоубийство от страха перед арестом) своего друга Стефанита{84}.
Мир, который рисовали такие памятники, как «Соломон и Китоврас», «Стефанит и Ихнилат» и другие, оказывался не столь простым и однозначным, как традиционный мир средневековой литературы; люди в нем не всегда были «белыми» или «черными», они оказывались сложными. Перед нами, конечно, не просто новая литературная манера, а определенное мировоззрение, которое обличители «неполезных повестей» не без основания считали опасным. Но это мировоззрение закономерно возникло у того поколения, к которому принадлежал Ефросин.
Люди, пережившие «великое нестроение» 30—40-х годов в зрелом возрасте, такие, как «Нестор XV века», составитель «свода 1448 г.», имели позитивный идеал – определенную политическую программу – они стремились к установлению «братского» единения между русскими землями и княжествами. Младшие современники «великого нестроения», подобные Ефросину, оказались свидетелями того, как эта программа потерпела неудачу. Василий II и Иван III отнюдь не обладали «договорным сознанием», воспринятым «Нестором XV века». И это сказалось не только в вероломном «поимании» Василием Темным серпуховского князя, но и в отношениях с Новгородом. В 1456 г. Василий II заключил с новгородцами Яжелбицкий мир, по как мало он склонен был считаться с этим договором, видно хотя бы из составленной через несколько лет «духовной грамоты» (завещания) великого князя, где Вологда и другие города, только что вписанные Василием в число «волостей ноугородских», преспокойнейшим образом завещались его сыновьям в качестве уделов. Шелонская победа 1471 г. еще более укрепила позицию великокняжеской власти по отношению к Новгороду. Формально Иван III и после нее обязался «держать» Новгород «по старине». Но как мало значила эта «старина», видно из великокняжеского летописания, которое стало вестись с конца 50-х годов и до начала 70-х годов и дошло до пас, например, в Никаноровской и Вологодско-Пермской летописях{85}. Великокняжеские летописцы опирались на «свод 1448 г.», по систематически и последовательно переделывали его: выше (с. 34) мы уже приводили табличку с примерами таких переделок. Но тогда пас интересовала левая колонка этой таблички, где настойчиво упоминалось о том, как новгородцы «изгоняли» и «сажали» на престол своих князей. Обратим теперь внимание на правую колонку: здесь князей не выгоняют и на престол не сажают – они по собственной воле уходят и приходят в Новгород. Пока «старина» еще не была отменена, московские летописцы, чтобы привести ее в соответствие с политикой великого князя, переделывали саму историю.
В такой обстановке русским правдоискателям приходилось отрешиться от надежд, возникших в конце «великого нестроения», и создавать свои идеалы заново.
Их идеалы утратили теперь те конкретные формы, в каких они рисовались людям середины века. Неизбежен был уход в мир довольно неопределенных мечтаний, обращение к тому популярному в средние века жанру, о котором вспоминал Пушкин, когда упоминал памятники, наводнявшие средневековую Европу, – к жанру легенд.
Жанр этот богато представлен в сборниках Ефросина. К нему принадлежало уже послание Василия Федору, заимствованное книгописцем из «свода 1448 г.». Но хотя в послании и упоминался земной рай, он оказывался недоступным для простых смертных. Двое из новгородцев, занесенных бурей к тем землям, откуда слышались «веселия гласы», по очереди взбирались на высокую гору, чтобы увидеть, откуда идет «самосиянный свет», но обратив взоры к нему, всплескивали руками, бежали к источнику света и уже не возвращались. Чтобы узнать все-таки, что же видели исчезнувшие посланцы, моряки отправили на гору еще одного из своих товарищей, привязав его «ужищем» (веревкой) за ногу. Третий посланец тоже хотел побежать к источнику света, но его потянули назад «ужищем», и он умер. Так и не увидев рая, новгородцы вернулись домой{86}.
Земной рай, таким образом, оказывался недоступным для людей, но поблизости от него по средневековым представлениям должны были быть расположены другие земли, где жизнь была если не вполне, то почти райской. Счастливой Страной была, например, в глазах людей того времени далекая Индия. В России XV в., как и в средневековой Западной Европе, было широко распространено легендарное послание индийского «царя-попа» Иоанна византийскому императору – на Руси его именовали «Сказанием об Индийском царстве». В моей стране, повествовал Иоанн, все богаты, счастливы и «нет ни вора, ни завидлива человека». Древнейший сохранившийся список «Сказания об Индийском царстве» переписан рукой Ефросина{87}.
К тому же циклу легенд принадлежит и «Слово о рахманах и предивном их житии», не только переписанное, но и весьма существенно дополненное в ефросиновскнх сборниках. В чем сущность этих дополнений, которые мы с достаточным основанием можем считать выражением собственных мыслей кирилло-белозерского книжника?
В мечтах о лучшем общественном устройстве, которые возникали у людей уже с древнейших времен, постоянно фигурировали две темы – тема свободы и тема равенства. «Нестор XV века» больше всего беспокоился о соблюдении прав русских земель и княжеств, о их вольностях и о соблюдении братьями-князьями взаимных обязательств. Он думал о свободных отношениях между князьями и вольными городами, – если его интересовала тема равенства, то речь шла только о равенстве между русскими землями. В «Слове о рахманах» тоже речь идет о свободе: в отличие от «Сказания об Индийском царстве» там нет «царя-попа», ибо нет вообще ни царей, ни вельмож, ни храмов, ни риз. Но не менее ярко отражена здесь и тема равенства: нет купли и продажи, нет злата и серебра, нет зависти – все равны.
Среди современников Ефросина был еще один человек, которого в одинаковой степени интересовали и темы поднятые «Нестором XV века», и не менее острые вопросы общественного неравенства. То был Афанасий Никитин, автор знаменитого «Хожения за три моря». В этой книге, конечно, невозможно рассказать о нем подробно – такой рассказ увел бы нас слишком далеко от двух основных героев этого повествования. Заметим только, что, судя по его «Хожению», Никитин вовсе не был «торговым разведчиком», пробиравшимся в Индию по поручению Ивана III, и вообще официальным лицом, каким его иногда изображают историки. Он был несчастливым купцом-путешественником, ограбленным по дороге на Кавказ, неспособным расплатиться со своими долгами и отправившимся и Индию, «заплакав» от «многой беды». Но взгляд его был ясен, и попав а сказочное «Индийское царство», он убедился в том, что там тоже «сельские люди голы вельми (очень), а бояре сильны добре (весьма) и пышны вельми», что индийский хан «ездит на людях», хотя «слонов у него и копий много добрых», а индийцы «все пешеходы, а все наги да босы». И перейдя от этих наблюдений к размышлениям о своей родине Афанасий Никитин записал (на всякий случай по-тюркски, как он обычно делал, обращаясь к рискованным темам):
– А Русская земля да будет богом хранима..! На этом свете нет страны подобной ей. Но почему князья Русской земли – не братья друг другу! Пусть же устроится Русская земля, а то мало правды в ней{88}.
Как и Афанасия Никитина, Ефросина беспокоило не только отсутствие братских отношений между русскими князьями, но недостаток «правды» в русских землях – ив княжествах и в независимой до 1479 года Новгородской республике. В Новгороде не было своего «царя» (или государя), но все остальные явления, от которых Ефросин мечтал избавить счастливых людей, оказывались в преизбытке – и могущественные «вельможи» и «татьба и разбой», тесно связанные с «куплей и продажей», и внутренние «свары и бои». К XV веку элементы народоправства в государственном устройстве Новгорода почти выветрились – власть находилась в руках нескольких боярских фамилий; именно поэтому новгородцы не защищали свою республику так, как они это делали в XII и начале XIII века.
В отличие от московских летописей последняя летопись Новгородской республики не обвиняла своих правителей ни в «изменах», ни в «латинстве». Здесь просто сообщалось, что Иван воздвиг «нелюбие (немилость, гнев)» на Великий Новгород и пошел на него походом. Но причины поражения новгородский летописец рисовал яснее и куда убедительней, чем его московские собратья. В Новгороде не было единства: архиепископ, склонный признавать московского митрополита, а не литовско-русского, не позволил новгородской «коневой рати» выступить против московской конницы, предводительствуемой татарским «царевичем» (по несколько странному новгородскому обычаю конные части подчинялись главе местной церкви). Некий Упадыш «ради мзды» (за московские деньги) заколотил железом новгородские пушки. Не было единства и и войске. Рядовые новгородцы на Шелони «вопили на больших людей», руководивших войском: «ударимся ныне», но каждый, когда до него доходило дело, говорил: я – «человек молодой» (маленький) и ссылался на негодность своего «коня и доспеха»{89}. В этом-то внутреннем разброде и заключалась подлинная историческая неизбежность падения Новгородской республики.
Станет ли рядовым жителям севернорусских земель – новоприсоединенным новгородцам и давно подчинившимся великому князю белозерцам – лучше жить в составе единого государства? Особых оснований для такого предположения не было, но людям свойственно надеяться на то, что большие перемены предвещают изменения их нелегкой жизни в лучшую сторону.








