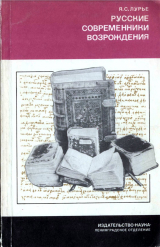
Текст книги "Русские современники Возрождения"
Автор книги: Яков Лурье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Страна возвращалась к мирной жизни. На московском престоле сидел великий князь, власть которого более не оспаривалась. С 1448 года на Москве появился и митрополит: Василий Темный, простив Ионе его службу Шемяке, решил созвать собор епископов, избравших Иону митрополитом. Правда, избрание это даже не было представлено на утверждение константинопольскому патриарху, в связи с чем Иону не признавали главой церкви многие видные иерархи. Но вскоре совершилось событие, после которого патриаршее благословение стало – по крайней мере на некоторое время – не столь уж важным для митрополии. Турецкий султан Мухаммед II в 1453 году взял Константинополь. Патриархия раскололась: один патриарх, признавший унию с «латинами», бежал в Рим, другой остался в завоеванной турками столице, ставшей отныне Стамбулом. Церковные деятели Западной Руси пребывали в некоторой растерянности: часть из них склонна была признавать авторитет бывшего митрополита Исидора и его ставленника, другие соглашались признавать авторитет московского митрополита. Колебались и новгородцы, еще недавно помогавшие Шемяке.
В 1456 г. Василий Темный пошел походом на Новгород. Поход был удачным, но мир, заключенный в селе Яжелбицы, в значительной степени был компромиссным. Великий князь обязался «держати» Новгород «в старине, по пошлине (обычаю), без обиды», не судить, «ни волостей раздавати, ни грамот давати» без участия посадника. Подтверждалась неподсудность новгородцев судьям «на Низу» – в Москве или других владимиро-суздальских землях; судить их можно было только в Новгороде. Сохранялись прежние границы, и порубежные города – Вологда, так же как ВолоК Ламский, – вновь признавались новгородскими землями{28}.
Еще более мирными оказывались отношения с наиболее могущественным после московского русским князем – тверским. Тверской великий князь Борис был теперь связан с Москвой родственными узами: во время борьбы с Шемякой Борис уговорил Василия Темного обручить его семилетнего сына Ивана со своей столь же маленькой дочерью Марией; в 1452 г. (когда Ивану III было двенадцать лет) они поженились. Тверской придворный писатель, инок Фома, в «Похвальном слове» Борису именовал московского и тверского князей не иначе, как «братьями» – вполне в духе «Нестора XV века».
У жителей разоренной страны, все еще живущей под страхом возобновления внутренних войн и внешних нападений, стали зарождаться – пусть робко и неуверенно – надежды на то, что уроки «великого нестроения» не пройдут даром, что они приведут к установлению каких-то новых и лучших порядков.
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ КНИГОПИСЕЦ
Загадки Ефросина
Рассказ о Ефросине мы начнем не с его рукописей, не с древних памятников, а с произведения современной художественной литературы. Несколько лет тому назад известный итальянский филолог Умберто Эко написал приключенческий роман «Имя розы». Здесь есть все, чему положено быть в произведении такого жанра: множество загадочных событий, полдюжины тайных убийств и в заключение – пожар, гибель людей и сокровищ. Есть и герой, раскрывающий в конце концов загадку убийств, хотя и не успевающий предупредить их. Имя его, правда, звучит довольно знакомо и едва ли не пародийно – монах-англичанин браг Уильям Баскервилль, предок или однофамилец конан-дойлевского персонажа. Крайне необычно, однако, время и место действия романа. Время – XIV век, «осень» западного средневековья и Возрождение в Италии, место – североитальянский монастырь с великолепной, лучшей в тогдашней Европе библиотекой. Вот вокруг этой-то библиотеки и разворачиваются главные события романа. Гибнет писец-миниатюрист, рисовавший странные и фантастические инициалы и заставки в рукописях, погибают переводчик греческих и арабских сочинений, помощник библиотекаря и в конце концов сам главный библиотекарь. Смерть этих людей оказывается неслучайной. Спор, породивший все эти несчастья, касается одного вопроса: дозволено ли монахам читать мирские книги? В окружающем мире бушуют страсти: еще не разысканы и не истреблены приверженцы крестьянско-плебейского вождя Дольчино, требовавшего ниспровержения всех властей, духовных и светских, уничтожения собственности и установления всеобщего равенства. А между тем в библиотеке хранятся самые разнообразные рукописи и в числе их светские, языческие, греческие и латинские и такие, которые вызывают смех и не подобающее монастырю веселье. Человеком, по вине которого погибает большинство персонажей, оказывается Хорхе, слепой монах-испанец, нашедший радикальный способ не допустить чтения запретных рукописей, укрытых в библиотеке в особом, тайном месте. Он пропитывает страницы таких рукописей сильнейшим ядом, и нескромные монахи, которые пытаются прочесть их, погибают от отравы. По мнению Хорхе, это наиболее верное средство спасти души любопытных монахов от вечной гибели из-за вредных книг, порождающих критическое и насмешливое отношение к миру. Свои воззрения Хорхе излагает в беседе с Баскервиллем – еще до того, как последний разгадывает причину гибели монахов-книжников. Хорхе ссылается на Иоанна Златоуста, учившего, что Христос никогда не смеялся:
– Дух безмятежен лишь тогда, когда он созерцает истину и удовлетворяется достижением блага, и не подобает смеяться над истиной и благом. Вот почему Христос не смеялся. Смех возбуждает сомненье, – заявляет Хорхе.
– Но иногда следует сомневаться, – возражает ему более терпимый брат Баскервилль.
– Не вижу в этом смысла. Вступив на путь сомнений, ты можешь обратить его против властей, против учений отцов церкви и богословов, – настаивает Хорхе{29}.
Перед нами как раз те споры о допустимости проникновения смеха в «большую литературу и высокую идеологию», которые упоминал М. М. Бахтин.
Исследователю русской письменности XV века эти споры не могут не показаться знакомыми. И в русских монастырях того времени стали переписываться наряду с церковными также и мирские, совсем не благочестивые памятники; даже в богослужебных книгах появлялись забавные и сугубо мирские заставки. Инициал (заглавная буква) в священном тексте «Рече господь.» изображал человека, обливающегося водой в бане, инициал «М» оказывался изображением двух рыбаков, тянущих сеть и бранящихся между собой:
– Потяни, корвин (сукин) сын!
– Сам еси (ты) таков!
«Чрез тын пьют, а нас не зовут!» – записал один из писцов на полях книги. «О, господи, дай мне живу быть хотя 80 лет, пожедай (пожелай) мне, господи, сего пива напитися», – записал другой{30}.
Русских защитников благочестия такая склонность к смеху и балагурству возмущала не менее, чем их западных собратьев. Как и на Западе, русские обличители «глумов» (насмешек) и смеха ссылались на Иоанна Златоуста, чей авторитет на православном Востоке был особенно высок. Отвергая всю эллинскую философию как «трипенежную» (трехгрошовую), ничего не стоющую по сравнению с единственно верным апостольским учением, Златоуст резко осуждал любые зрелища, игры, веселье. «Блаженны плачущие», – вновь и вновь напоминал Златоуст евангельские слова и вопрошал «творящих» смех, где они слышали, чтобы Христос когда-нибудь смеялся? «Нигде же!» «Множицею» (многократно) видели его плачущим или «посупленым» (насупленным), смеющимся же или «склабящимся» (улыбающимся) – никогда: «Не бог дает играти, но диавол»{31}.
«Глумы» и насмешливое отношение к жизни осуждал и Иосиф Волоцкий. Нет ничего «безстуднейши» (бесстыднее) «глумы творящего» (насмешника), заявлял он. Ссылаясь на того же Златоуста, волоколамский игумен с возмущением рассказывал о философах, которые учили насмешкам нищих и юных:
– Приимите, дети, да никогда прогневается чрево (чтобы не обидеть желудок)! – возглашал один из них, подняв пиршественную чашу.
– Горе тебе, мамона (богатство), и не имущим тебе (и тем, кто тебя не имеет)! – восклицал другой{32}.
В другом сочинении Иосиф Волоцкий призывал:
– Да будет ти (тебе) горько неполезных повестей послушание (слушание, чтение)!
Он советовал обращаться к «медвяным» (медовым) сотам: сочинениям «святых мужей» и «божественным писаниям». «Послушание» книжниками XV века «неполезных повестей», несомненно, смущало русских ревнителей благочестия потому, что оно порождало «мнение» – т. е. мнение собственное, не предусмотренное писанием: «Мнение – второе падение. Всем страстям мати (мать) – мнение»{33}.
Против кого же были направлены эти обличения? Смех никогда не был и не мог быть изгнан из русского быта: древняя Русь знала и «святочный» и «пасхальный» смех; XIV век был временем расцвета «тератологического» (чудовищного, фантастического) орнамента и широкого распространения неблагочестивых книжных инициалов. Но в XV веке роль смеха в книжной культуре стала иной, чем прежде: с одной стороны, с ним стали решительно бороться; появились поучения против «глумов», проклятия книжникам, пишущим посторонние надписи «по полям», исчезают балагурные заставки и записи{34}. Но, с другой стороны, «смеховая» тематика, изгнанная с полей книг, начала зато перемещаться на их тексты. Вторая половина XV в. – время широкого распространения светской письменности, и виднейшим любителем и переписчиком этой литературы, сохранившим ее для потомков, был плодовитый книгописец того времени – инок Ефросин.
О кирилло-белозерском книжнике Ефросине ученые знали еще в XIX веке. Они изучили состав нескольких его рукописей, опубликовали некоторые сочинения по спискам Ефросина. Но сборники его как цельные памятники не были предметом внимания: чем именно отличались его сборники от множества других и что за человек был создатель этих сборников, они не думали. А ведь ефросиновские сборники – это не случайные рукописи, где содержалось то, что было поручено изготовить писцу или попалось ему под руку. Ефросиновские сборники – книги личной монашеской библиотеки, специально и с любовью подобранной{35}.
Что же по-настоящему привлекало Ефросина в письменности того времени?
Состав памятников, собранных этим книгописцем, был многообразен; среди них было немало богослужебных, церковно-учительных и церковно-полемических сочинений. Но главной особенностью, отличающей сборники Ефросина от основной массы сборников XV–XVI вв., предметом его настойчивого и постоянного внимания были памятники, чрезвычайно редко встречающиеся в других сборниках, как раз те «неполезные повести», против которых предостерегал волоколамский игумен, сочинения, вызывавшие не столько благоговейные чувства, сколько «глумы» и смех.
И главное: Ефросин не только искал и находил такие памятники, переписывал их сам или с помощью других, но и редактировал их – весьма тщательно. Он специально подбирал памятники на некоторые излюбленные им темы (разные «Александрии» – повести об Александре Македонском, сказания о счастливых народах, о «злых женах» и т. д.), писал к ним заголовки, сокращал и дополнял тексты.
Уже в древние, домонгольские, времена на Руси появились индексы (списки) запрещенных, т. е. «отреченных», «сокровенных», «ложных», «злых» и даже «еретических», книг; с XIV в. эти индексы стали пополняться книгами, имевшими хождение на русской почве. В состав индексов входили библейские апокрифы, т. е. памятники, связанные с Ветхим и Новым заветом, но не включенные в канонический (признанный церковью) текст Библии, – такие, например, как «О древе райском и лбе Адамле», «О Христе, како в попы поставлен», «Епистолия о неделе» (послание Христа в Иерусалим), «Никодимово евангелие» и т. д. К этим апокрифам примыкали отмеченные в индексах как особо вредные «басни и кощюны» (шутовские сочинения) о царе Соломоне и «дивием» (диком, дивном) звере Китоврасе (кентавре). Встречались в сборниках и запретные гадательные сочинения, например «Творение пророка Ездры» (калядник).
Перечень «отреченных» книг был отлично известен Ефросину – он несколько раз переписал его в своих сборниках. Но в тех же самых сборниках, где он выписывал индексы, Ефросин помещал как раз «ложные и отреченные книги», этими индексами запрещенные. Переписывал он и гадательные книги, «мирские» (средневековые, не входящие в Библию) псалмы{36}.
Особенно любил Ефросин одну из «ложных» книг – «басни и кощуны» о Соломоне и Китоврасе. Он обращался к ним несколько раз; поместил в своем сборнике и неизвестную по другим рукописям легенду о Китоврасе, где рассказывалось, что этот «борзый зверь», снедаемый ревностью, «жену во ухе носил». Но и это не помогло Китоврасу: «жена его сказала юноши, любовнику своему», как поймать «борзого зверя»; его заманили к «кладязем», куда предварительно налили вина, и, опьяневшего и уснувшего, доставили царю Соломону. Сказания о Соломоне и Китоврасе, которые переписывал Ефросин, во многом перекликались с популярнейшими западными рассказами о Соломоне и его собеседнике Моркольфе (Морольфе, Мархольте). Как и русский «Соломон и Китоврас», «Соломон и Маркольф» включался западными иерархами в число недозволенных книг. В западных сказаниях Маркольф – не сказочный зверь, а грубый человек – «простак», мужик, однако роль его в значительной степени сходна с ролью Китовраса: он состязается с Соломоном в остроумии и обычно побеждает его, противопоставляя высоким идеалам царя, в частности его преклонению перед женщинами, грубое, основанное на жизненном опыте отношение к ним. Так же ведет себя и «дивий зверь» Китоврас: он не боится спорить с царем, грубо, но остроумно побеждает его в спорах, говорит притчами, загадывает трудные загадки{37}.
Другим памятником, несколько раз отразившимся в сборниках Ефросина, были запрещенные индексами «вспросы (вопросы) и ответы», кем-то приписанные трем отцам церкви, – Василию Кесарийскому, Иоанну Златоусту и Григорию Богослову, так называемая «Беседа трех святителей». Памятник этот, история бытования которого на Руси (начиная по крайней мере-с XV века) еще по настоящему не изучена, представлял собой сборник вопросов и ответов (от имени «трех святителей») на библейские темы. Он мог поэтому рассматриваться как своеобразное пособие по изучению Библии, дающее возможность монахам и другим благочестивым читателям соревноваться в том, кто лучше знает священные тексты. Но уже с давних времен к благочестивым вопросам стали присоединяться шуточные, а то и вовсе неблагопристойные. На Западе поэтому такие вопросы стали именоваться «Joca monachorum» – «Монашеские игры» и считались нескромными. Вот примеры этих вопросов: Кто имеет «два рождения», ни разу не крещен, «а всем людям пророк показася (оказался)?» Отгадка: петух, рождающийся дважды (в яйце и выйдя из него) и возвещающий людям грядущий день. «Кто поп не поставлен, диакон отметник, а певец – блудник?» Ответ: «не поставленный» поп – Иоанн Предтеча, не бывший священником, но крестивший Христа; «диакон отметник» – апостол Петр, трижды от него отрекавшийся; «певец – блудник» – царь Давид, певший псалмы, но соблазнивший жену своего полководца, посланного на смерть. Внук говорит бабке: «Положи мя (меня) у себе», бабка отвечает: «Како тя положу?», ссылаясь в одном варианте на то, что она еще «дева» (девица), а в другом варианте на то, что «ты мне отец». Разгадка: в первом варианте земля и Авель, который лег в землю, бывшую до этого девственной (в ней еще не было человеческой плоти), во втором – земля и Христос, создавший ее.
По воле создателей «Беседы трех святителей» обличитель «глумов» Иоанн Златоуст (наряду с Василием Великим и Григорием Богословом) оказывался, таким образом, отчаянным «глумотворцем».
Ефросин не включал в свои сборники «Беседу трех святителей» полностью, но приводил ряд вопросов из нее. И вот что любопытно: из семи приведенных им цитат четыре явно относились к «глумам». Это загадка о «пророке» – петухе, непоставленном «попе», «диаконе-отметнике» и «певце-блуднике», и дважды – особенно нескромный диалог внука и бабки{38}.
Все это не значит, что Ефросин был некрепок в вере и враждебен церкви. Нет, его просто привлекали самые разнообразные «писания», в том числе и те, которые относились ревнителями благочестия к числу «небожественных», к «смехотворению» и «глумам». «Глумы» и смех осуждались Иосифом Волоцким и его единомышленниками потому, что они порождали собственное «мнение», а «мнение – второе падение». «Сего в зборе не чти (не читай), ни многим являй», – приписал Ефросин к одному памятнику, запрещенному индексами{39}. Это не было лишь указанием на то, что данный памятник не годится для чтения в «зборе» (собрании) – например, для чтения вслух во время церковной трапезы. Переписанное им сочинение Ефросин не только советовал не читать вслух, но и не показывать «многим». Однако сам он, предостерегая других, переписывал такие сочинения, и не однажды, а (по его собственному признанию) по нескольку раз.
Могла ли такая деятельность остаться без последствий? Не грозили ли Ефросину и подобным ему книгописцам опасности и беды, если не такие, как в романе Умберто Эко, то иные – более обыкновенные? Дошедшие до нас сведения о жизни Ефросина весьма скудны, но одно обстоятельство следует отметить: к 90-м годам относятся последние его записи на одном из его сбор-пиков, а после этого имя его совершенно исчезает из каких бы то им было памятников. До этого времени, начиная с 1470 года, записи его в сборниках появляются довольно регулярно; в грамотах Кириллова монастыря упоминался в качестве «послуха» (свидетеля) «старец» и «поп» Ефросин; в 1477 году, как мы узнаем из его собственной записи, он оставил монастырь. Впоследствии он, очевидно, вернулся обратно – во всяком случае, все его сборники, включая и те, которые были написаны в начале 90-х годов, сохранились только в Кирилловом монастыре. Но что стало с ним после 90-х годов? Когда и как закончилась его книгописная деятельность и весь жизненный путь?
Это остается неизвестным. Но то, что мы узнаем о Ефросине, изучая его сборники, порождает новые, еще более важные вопросы. Сопоставление текстов Ефросина с их источниками, аналогичными текстами в других рукописях, позволяет обнаружить не явные, но весьма интересные и неожиданные свидетельства о необычных и даже опасных воззрениях книгописца.
В особенности это относится к «Слову о рахманах и предивном их житии», читающемся в одном из ефросиновскпх сборников.
О блаженных «нагомудрецах», «рахманах» (брахманах), живущих на юге, близ рая, Ефросин писал не раз. О рахманах повествовали, например, два помещенных Ефросином сочинения об Александре Македонском – «Александрии». В обеих «Александрин!» Александр встречался с нагомудрецами – рахманами, потомками Сифа, добродетельного сына Адама, не заботящимися о «земных» делах и отказывающимися от щедрых даров, которые предлагает им царь, ибо у них и так есть все, что нужно для жизни. На одной из «Александрий» Ефросин сделал особую приписку о рахманах: «Рахманы – Сифово племя, не согрешили богу, близ рая живут». Поместил Ефросин также два отдельных сказания о рахманах, в том числе уже упомянутое «Слово о рахманех и предивном их житии»{40}.
Источник этого «Слова» установить как будто нетрудно. Его можно отыскать даже в составе того же самого ефросиновского сборника. Это рассказ из переводной греческой хроники Георгия Амартола (IX в.). Текст, точно следующий Амартолу, и дополненный текст, читающийся в другом месте книги, при сличении оказались сходными; различия – только в дополнениях. Но в каких!
Вот как описывается жизнь рахманов у Амартола и в дополненном тексте (отличия отмечаем курсивом):
Амартол
В них (у них) же несть (нет) ни четвероножины (четвероногих), ни рольи (пашни), ни железы, ни создание (зданий), ни огня, ни злата, ни сребра, ни овоща, ни инна, ни порт (одежд), ни мисоядения, ни ино дело некоторое же (ни какого-либо другого дела), ни на насыщение текуть (не стремятся к насыщению).
Ефросин
В них же нет ни четвероногих, ни земледелия, ни железа, ни храмов, ни риз, ни огня, ни злата, ни сребра, ни иино, ни мясояденпя, ни соли, ни царя, ни купли, ни продажи, ни свару, ни боя, ни зависти, ни велмож, ни татбы, ни разбоя, ни игр, ни на насыщение текуть{41}.
О том, что рахманы живут среди неоскудевающих «овощей» и поэтому не нашут, не сеют, не пьют вина, не едят мяса, не владеют золотом и серебром, рассказывалось и у Амартола. Но в ефросиновском рассказе рахманы оказывались избавленными также в от царя и вельмож, от храмов и риз, у них не оказывалось ни купли, ни продажи, между ними не было зависти, татьбы (краж) и разбоя, свара и боя (сражений, войн).
Перед нами не просто рассказ о счастливых землях, а скрытая за ним утопия, и притом самая радикальная из утопий, известных древней Руси. И главное: отмеченные нами наиболее смелые черты легенды о рахманах – отказ от царей и вельмож, купли и продажи – представляют собой уникальную, нигде более не встречающуюся интерполяцию в переводном тексте Амартола, аналогичную тем вставкам, какие Ефросин делал в других памятниках, – оригинальный текст, возникший на русской почве. Конечно, мечтать о стране без царей и вельмож не значило призывать к их низвержению. Но даже и размышления на эту тему представляются достаточно необычными для древнерусского книжника – особенно если исходить из уже упомянутого привычного взгляда на людей древней Руси как на людей «традиции и почвы», твердо приверженных вере отцов и наряду с нею к монархическому началу, воплощенному в таких образах, как Владимир Красное Солнышко, Владимир Мономах или Александр Невский. Не странная ли это фигура: древнерусский писатель, не просто переписывающий греческие легенды о счастливых рахманах, но дополняющий их утопией о стране без царей и вельмож?
«Мнение», эта «всем страстям мать», завело Ефросина, как видим, достаточно далеко – туда же, куда его западных собратьев, подобных Дольчино, упомянутому в романе Эко. Правда, читатель, скептически настроенный по отношению к утопиям, может обнаружить в интерполяциях к «Слову о рахманах» один недостаток, вообще довольно характерный для утопий. Создатель русской редакции памятника смело расширил круг предметов, которых не было у рахман, но весьма неопределенно описал устройство жизни в их стране – здесь он просто сохранил рассказ Амартола. Этот негативный характер русской утопии XV века недавно, после того как ефросиновский текст «Слова о рахманах» был опубликован, привлек внимание историка русской общественной мысли, который не без иронии заметил, что создателю русской версии «Слова о рахманах», подобно персонажу М. А. Булгакова, «отвечающему на вопросы сатаны, труднее сказать, что есть в этой стране.» Вспоминая Булгакова, автор имел в виду, очевидно, язвительное замечание Воланда Берлиозу и Ивану Бездомному в «Мастере и Маргарите»: «…что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!»{42}
Существовала ли у наиболее смелых мыслителей России XV века какая-либо политическая программа – позитивный идеал, который они могли бы противопоставить не удовлетворявшей их действительности? Известны ли были такого рода идеи Ефросину и отразились ли они как-либо в его сборниках? Разделял ли он их? Попытаемся ответить на эти вопросы в следующих главах.
Пока же перечислим то немногое, что мы знаем о человеке, рукою которого были написаны названные здесь памятники. Он жил во второй половине XV века, вплоть до 90-х годов – к этому времени относятся все дошедшие от него сборники. Почти все они сохранились в библиотеке монастыря, где он был монахом. Это был монастырь Успения Богородицы, расположенный невдалеке от Белого озера – на небольшом Сиверском озере, – монастырь, который принято называть по имени его основателя Кирилловым Белозерским.
На Белозерской земле. Между Москвой и Новгородом
Итак, данные, которые дошли о составителе интересующих нас сборников, прежде всего географические.
Кириллов монастырь был основан в необычном месте – далеко на север от Москвы (еще более отдаленного Соловецкого монастыря тогда не существовало), но все же не на самой северной из русских земель – не на новгородской, а на московской, великокняжеской.
Входивший в состав той обширной территории, которая была отделена от Москвы и всей Владимиро-Суздальской земли средней Волгой и которую москвичи и владимирцы именовали «Заволжьем» (хотя от Волги многие из этих земель отстояли на несколько сотен верст), Белозерский край примыкал к новгородским северным землям, простиравшимся до «Дышучего моря» – Белого моря и Ледовитого океана. Сухопутная дорога с Белого озера на Москву шла через Вологду, находившуюся к юго-востоку от Кириллова.
Чье это было владение? По всем московско-новгородским договорам Вологда считалась новгородским городом (хотя Шемяка не затруднился в 1446 г. «пожаловать» ее Василию Темному). Принадлежность Вологды Новгороду была подтверждена и Яжелбицким миром 1456 г. Но, окруженное с трех сторон новгородскими землями, Белозерское княжество уже с XI века находилось под властью ростово-суздальских князей; правили здесь потомки одного из ростовских князей, трагически погибшего в борьбе с Батыем.
С конца XIV в. Белоозеро переходит под московскую власть: в завещании Дмитрия Донского, составленном незадолго до его смерти в 1389 г., Белозерское княжество упоминается вместе с двумя другими – Галичем и Угличем, как «купля» (покупка) деда Дмитрия – Ивана Калиты (1325–1340), но в завещании самого Ивана Калиты и его преемников Семена Гордого (1340–1353) и Ивана Красного (1353–1359) пет ни слова об этой и двух остальных «куплях». Уже много лет историки спорят о загадочном месте завещания Дмитрия Донского: одни пытаются найти какое-то объяснение тому, что таинственные «купли», не известные более ранним источникам, обнаружились только в конце XIV века{43}, другие видят в этом сообщении сознательное искажение истины, призванное объяснить насильственное присоединение Белоозера и двух остальных княжеств Дмитрием{44}. Несомненным фактом остается, во всяком случае, то обстоятельство, что еще при Дмитрии Донском белозерские и галицкие князья были вполне независимы от великих князей московских и даже поддерживали их противников в междоусобной борьбе. Когда главный соперник Дмитрия Донского в борьбе за великое княжение Владимирское, князь Суздальско-Нижегородский получил от хана ярлык (грамоту) на владимирский престол, его союзниками выступали «князь Иван Белозерец» и галицкий князь. Дмитрию пришлось начать войну с Белоозером и Галичем и свергнуть белозерского и галицкого князей с их престолов{45}. По завещанию Дмитрия Донского Белоозеро вместе с очень далеким от него Можайском досталось в 1389 г. его сыну Андрею Дмитриевичу; лишившийся престола прежний белозерский князь стал наместником Андрея на своих же наследственных землях.
Разные – политические, бытовые и культурные – традиции сталкивались на северной Белозерской земле. В соседней Новгородской республике власть официально принадлежала вечу – собранию полноправных граждан города. Это, конечно, не означало, что вече реально управляло Новгородской землей: правили посадники – «степенный», избиравшийся на общегородском вече раз или два в год, «старые посадники», посадники отдельных «концов» (районов) города, тысяцкие – выборные предводители городского ополчения, купеческие старосты – все они составляли «совет господ», соответствовавший сенату западноевропейских городов. Так же как в западноевропейских городских республиках, важнейшую роль в Новгороде играли соперничавшие между собой знатные фамилии, но так же как и на западе, аристократические «партии», боровшиеся за власть, опирались на рядовых горожан – «черных людей», и «черные» благодаря этому весьма активно участвовали в политической жизни республики.
Договорное устройство Новгорода означало не реальную законодательную власть веча, а лишь то обстоятельство, что важнейшие государственные акты требовали утверждения «Господина Великого Новгорода», как официально именовался собравшийся на вече народ. Такое торжественное именование «злых тех смердов, убийц, шильников и прочих безименитых мужиков», особенно возмущало в XV веке московских летописцев. Приглашение князей в Новгород регулировалось особыми строго обозначенными условиями и князьям столь же регулярно «указывали путь» – изгоняли из Новгорода тех, которые этим условиям не удовлетворяли.
Новгородское политическое сознание создало даже образ идеального князя – полководца, проведшего всю жизнь в военных походах, от времени до времени приглашаемого в Новгород и свято соблюдавшего условия договора с городской республикой. Это был герой битвы на Липице 1216 г. Мстислав Удалой. В Новгород Мстислав являлся обычно в тех случаях, когда городу грозила беда, а затем уходил, заявляя:
– Суть ми орудиа (есть у меня дела) на Руси, а вы вольны во князех.
Иногда он приглашал новгородцев принять участие и в военных походах на Киев; во время одного из таких походов новгородцы, поссорившись с земляками Мстислава – смолянами, решили было покинуть войско Мстислава и вернуться домой. Что же стал делать Мстислав? Он, как с явным восхищением повествует новгородский летописец, не выразил негодования против такого самоуправства, уважая права новгородцев, самым дружеским образом попрощался с покинувшими его воинами, «целовав всех, поиде, поклонився». Щепетильное соблюдение князем (даже во время похода) договорного ритуала поразило новгородцев. Они, «створивше вече о себе», стали совещаться.
– Братье новгородци! Яко же преже сего страдале (трудились, радели) деде наши и отци за Рускую землю, тако, братья, и мы пойдем по своем князе, – заявил в конце концов посадник Твердислав, и поход продолжался.
Новгород не только походил на западноевропейские города по своему политическому устройству, но и имел тесные торговые и дипломатические связи со многими из них. В первую очередь это были немецкие города Прибалтики, объединившиеся к XIV в. в Ганзейский союз – Любек, Гамбург, Росток, Штральзунд. Новгород не был полноправным членом Ганзы – здесь, как и в Лондоне и в нидерландском Брюгге, находилась лишь одна из ганзейских контор – однако немецкие и другие иностранные купцы приезжали сюда постоянно.
Именно в Новгороде или в соседнем Пскове создавались рукописи, заглавные буквы которых изображали моющегося в бане человека, ругающихся рыбаков, пьяницу, скомороха. Развивалась в Новгороде и богатая эпическая традиция, сложившаяся еще в домонгольские времена. Об этом особенно красноречиво свидетельствует то обстоятельство, что в новое время былины – как новгородские, так и древние киевские – сохранялись в живом исполнении почти исключительно на северных землях древней Новгородской земли.
Совсем по-другому жили и управлялись земли Владимиро-Суздальской Руси. Веча как постоянного института здесь давно уже не было; народ «собирался вечем» лишь в исключительных случаях – во время восстаний. Так было в 1327 г. в Твери, когда, восстав против ханского наместника Щелкана (Шевкала, Чолхана), «удариша в колоколы, и сташа печем, и поворотися град весь»; так было и в Москве в 1382 г. при нашествии Тохтамыша. Единственным должностным лицом в Москве, в какой-то степени независимым от великого князя, был предводитель городского ополчения – тысяцкий, но после смерти последнего московского тысяцкого Василия Вельяминова, не раз ссорившегося с князем, великий князь Дмитрий (будущий Донской) совсем отменил должность тысяцкого.








