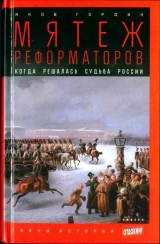
Текст книги "Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России"
Автор книги: Яков Гордин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Но то, что увидел Батеньков в поселениях, привело его к мысли, что "революция близка и неизбежна". Трезвомыслящие люди приходили к этому выводу независимо друг от друга. Вспомним слова Александра Бестужева о неизбежности скорого "решительного переворота" снизу.
В январе 1825 года Батеньков сказал себе: "…Поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим".
Если Рылеев, Александр Бестужев, Якубович пришли к идее революционного действия из сферы романтических представлений, то Батеньков, инженер и юрист, пришел к той же идее путем холодного анализа ситуации. И это – крайне важная характеристика политической атмосферы кануна восстания. Ее обусловливали не только романтический энтузиазм, человеколюбие или честолюбие, но и неумолимая логика процесса.
В том же 1825 году Батеньков, не зная о существовании тайных обществ, стал обдумывать структуру собственной конспиративной организации. "Я сделал свой план атакующего общества, полагал дать ему четыре отрасли: 1. Деловую, которая бы собирала сведения, капиталы, управляла и ведала дела членов. 2. Ученую, которая бы вообще действовала на нравы. 3. Служебную, которая бы с пособием капиталов общества рассыпана была по государству, утверждала основания управления и состояла бы из лиц отличнейшей в делах честности, кои бы, занимая явно гражданские должности, тайно по данным наказам отправляли и те обязанности, кои будут на них лежать в новом порядке. 4. Фанатиков, более для того, что лучше иметь их с собою, чем против себя".
Естественно, что лидеры Северного общества обратили на Батенькова внимание. Этот подполковник с государственным умом, близкий по дружеским теперь уже связям к Сперанскому, конечно же мог быть им чрезвычайно полезен.
Сближение их произошло в октябре 1825 года, за два месяца до событий.
Батеньков рассказывал: "Случившееся в Грузине происшествие (убийство дворовыми любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной. – Я. Г.) сделалось, как известно, предметом городских разговоров. Спустя довольно времени, уже в октябре, обедали мы у Прокофьева. Целый стол говорили о переменах, кои последовать могут вследствие отречения графа Аракчеева. А. Бестужев сказал при сем случае, что решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе 50 миллионов. После обеда стали говорить о том, что у нас совершенно исчезли великие характеры и люди предприимчивые.
Нечувствительно я остался с Бестужевым наедине, и начали мечтать о судьбе России. Нам представлялась она в прелестном виде под свободным правлением, я пожелал, чтоб мы пользовались свободою, что нет средств приняться за столь полезное дело и что, по всей вероятности, нет людей, кои бы могли поддержать конституционное правление. Он сказал, что люди есть уже, которые на все решились; я отвечал, что не был бы русским, если бы отстал от них. Прибавил к тому, что перевороты снизу, от народа, опасны и лучшее средство придумать так, чтоб овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив интригу или силу".
В доме Российско-Американской компании кроме директора ее, Прокофьева, жили Александр Бестужев с Рылеевым. Уходя после достопамятного разговора, Батеньков спросил Бестужева, где сейчас Рылеев. "Внизу, до времени", – ответил тот. Батеньков понял, что его собеседник имеет в виду не только нижний этаж дома.
Вскоре Батеньков встретил капитана Якубовича. "Обедал я у Прокофьева; возле меня сел А. Бестужев, а напротив, в конце стола, Якубович. Бестужев, указывая на него, говорил, что такие молодцы все сделать могут. После я завел разговор, что хочу жениться на купчихе, буду купцом, дойду до звания градского главы и попробую возвысить оное на степень лорда-мэра. Якубович ответил: "Вы хотите быть головами, но оставьте руки на нашу долю"".
Батеньков сразу вспомнил разговор с Бестужевым о людях, на все решившихся.
Александр Бестужев, который, собственно, и привлек Батенькова к тайному обществу, подробно изложил историю их сближения – со своей точки зрения: "Я знал подполковника Батенькова года с три, ум его всегда мне нравился, но как он занимал места при особах важных – говорил черезчур легко обо всем, – я никак не мог вообразить, чтобы это не был повод или для того, чтобы выведать общее мнение, или для предания частных лиц. Поэтому кроме обыкновенных вольнодумств с ним не сближался. Мы иногда с Рылеевым говорили о нем, и я спорил с ним; он говорил, что это от души, я – что с умыслом. Наконец Рылеев этой осенью сказал мне, что он щупал нрав Батенькова и уверился, что он либерал. Однажды после обеда у Прокофьева, мечтая о том, что было бы с Россиею, если б она имела конституцию, он (Батеньков. – Я. Г.) сказал: «Людей-то нет, чтоб переворот произвести; надо нам стараться выходить в люди, чтоб занимать дельные места». Я же, ему противореча, сказал: «Послушайте, вы честный человек и так или иначе думаете, но меня не предадите – есть человек двадцать удалых голов, которые на все готовы. Они нанесут удар – увлекут солдат, и Россия преобразится по-русски». Вот тут-то сказал он мне, что он бы не достоин был называться и прочее; только он начал не соглашаться на республику, говоря, что еще не дозрели люди. И потом, кинувшись опять в мечтания, говорил, какие бы льготы дать народу, и понемногу, а не вдруг. В другую субботу говорил с ним уже Рылеев и после сказал мне: «Увидишь ли, кто ошибался! Он одинаких мыслей с нами»… В конце октября мы познакомили Батенькова с Якубовичем, и они друг друга полюбили. Тут мы сказали ему, что Якубович назначается для увлечения солдат, и он согласился, что в нем есть все нужные к тому качества".
Из свидетельств этих ясно, что последние месяцы перед восстанием тайное общество жило напряженным ожиданием близких событий, хотя скорая смерть императора никому известна не была. Ясно из них, что с приездом Якубовича, с появлением человека, который может "увлечь солдат", группа Рылеева стала думать не только о том, чтобы воспользоваться удобными обстоятельствами, коль скоро они возникнут, но и о том, как самим эти обстоятельства создать. Ясно из них, что задолго до 14 декабря с его конкретными условиями Рылеев и Александр Бестужев разрабатывали тактику революционной импровизации, внезапного удара, который стронет лавину, – двадцать храбрецов начинают, а потом все идет само собой. Лозунг "Дерзай!", выдвинутый Рылеевым перед восстанием, родился гораздо раньше и стал казаться особенно заманчивым с появлением в среде заговорщиков Якубовича.
И ясно, что в октябре – ноябре сложился альянс Батеньков – Якубович, идеолог и исполнитель. "…Они друг друга полюбили".
ОППОЗИЦИЯ ОБИЖЕННЫХ
Офицеров, принимавших участие в подготовке восстания и самом восстании, можно разделить на две категории. Первая – люди, выбитые из своей нормальной жизненной и служебной колеи лишь событиями 14 декабря. Вторая – люди, оказавшиеся вне этой колеи еще до междуцарствия и ринувшиеся в водоворот с сознанием несправедливости этого государства не только вообще, но конкретно к ним.
Это были – подполковник в отставке барон Штейнгель, подполковник Батеньков, Якубович, Каховский и полковник Булатов.
Каждый из них сыграл свою особую и сильную роль в событиях главного дня. Причем роль троих была пагубна. Стиль же их поведения принципиально отличался от поведения, скажем, офицеров лейб-гренадерского полка и Гвардейского экипажа. В известном смысле они противостояли лидерам тайного общества – Рылееву, Оболенскому и Трубецкому. А потому заслуживают особого рассмотрения.
Штейнседь и Батеньков были люди с широким государственным мышлением и незаурядным административным опытом.
Подполковник Штейнгель, морской офицер, служивший на Охотском море, на Байкале, в Балтийском флоте, в 1812 году ставший одним из организаторов ополчения и принимавший участие во многих боях, кавалер нескольких боевых орденов, занимавший затем крупные посты по военной и гражданской части, был оклеветан перед Александром, вынужден выйти в отставку и потерял возможность делать то дело, которое считал он полезным и важным для государства.
Изъездивший всю империю, хорошо знавший самые разные стороны российской жизни, Штейнгель не сомневался в предстоящих стране бедствиях. История собственного крушения – притом что был он совершенно лояльный и дельный администратор – убедила его окончательно в несостоятельности режима. Еще будучи в службе, он писал сочинения на юридические и экономические темы. Иногда эти сочинения встречали благожелательный прием у либеральных сановников. "Патриотическое рассуждение о причинах упадка торговли" вызвало у адмирала Мордвинова желание лично познакомиться с автором.
Зато "Рассуждение о гражданственности в России", в котором Штейнгель показал "ужасный подрыв нравственности оттого, что по нашему Городовому положению все права даны деньгам, а не лицам, и всякий бесчестный богач предпочтен честнейшему бедняку", представлено было Аракчееву и возвращено им "по ненадобию".
Если бы карьера Штейнгеля не рухнула столь несправедливым образом, то, скорее всего, он добросовестно и дельно служил бы государству, пытаясь сколь можно усовершенствовать, реформировать его. Но именно трезвость и энергия реформатора, заложенные в его сознании, и делали его неудобным и ненужным. "Я, как всякий человек, знал себе цену, чувствовал свои способности, чувствовал, что мог бы быть полезен для отечества и для службы в особенности; но видел себя уничиженным, заброшенным без всякой существенной вины моей…"
В этом настроении он встретился в 1824 году с Рылеевым и узнал от него о существовании тайного общества. Пользуясь выражением бунтаря шестидесятых годов, Штейнгеля "вымучили, выдавили" в заговор.
Он писал Николаю из крепости: "Так, государь! Вам оставлено государство в изнеможении, с развращенными нравами, со внутренним расстройством, с истощающимися доходами, с преувеличенными расходами, с внешними долгами – и при всем том ни единого мужа у кормила государственного, который бы с известным глубоким умом, с характером твердым, соединяя полное и безошибочное сведение о своем отечестве, питал к нему любовь, себялюбие превозмогающую…"
Штейнгель здесь почти буквально предвосхитил то, что менее чем через десять лет с горечью скажет Пушкин, оглядывая николаевское царствование: "Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но какова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!"
Штейнгель знал, что он и его друг подполковник Батеньков – именно те люди, которые могли бы встать у кормила государства. Но их отстранили "по ненадобию".
В канун восстания Штейнгель был наиболее близок с Батеньковым и подпоручиком Яковом Ростовцевым.
О подполковнике Батенькове мы уже говорили. Но не было еще сказано, что в ноябре 1825 года и он потерпел служебную катастрофу.
Опасаясь каверз начальника штаба военных поселений Клейнмихеля, будущего верного клеврета Николая, Батеньков начал с Аракчеевым переговоры о переводе на другую службу. Но вместо перевода был фактически выкинут со службы разгневавшимся графом. "Поняв, что в России не найду уже приюта, был жестоко поражен сею деспотическою мерою; боялся сверх того клеветы пред лицом государя (ему, очевидно, известна была история Штейнгеля. – Я. Г.), почувствовал всю ненависть к существовавшему порядку, начал громко порицать оный и выдавать себя за человека, который готов на все для перемены. Но поелику в глубине души своей был мягок и уклончив, то решился удалиться и начал искать места правителя колоний Американской компании на Восточном океане. Почти кончены уже были соглашения: я обязывался служить 5 лет за 40 тысяч ежегодно, полагая половину издерживать, а другую отсылать в иностранный банк, чтоб водвориться где-нибудь в Южной Европе навсегда. Между тем положение мое было затруднительно и горестно. Это дало удобность членам тайного общества действовать на меня".
Удивительный был человек подполковник Батеньков – при холодном математическом уме много в нем было от Якубовича, который тоже делал вид, что готов на все, а сам втихомолку хлопотал о возвращении в гвардию. Он и сам знал свою двойственность: "Древние греки и римляне с детства сделались мне любезны, но природные мои склонности влекли к занятиям другого рода: я любил точные науки и на 15-м году возраста знал уже интегральное исчисление, почти саморуком".
Неудивительно, что Якубович сделался с октября 1825 года его другом.
Обиды Якубовича и влияние их на его судьбу и поступки нам известны.
Обида Каховского началась, как и у кавказского героя, с изгнания из гвардии.
С полковником Булатовым дело было сложнее. Карьера его шла. Сын знаменитого своей храбростью и количеством полученных ран генерала Булатова, он прошел 1812 год и заграничные походы в строю лейб-гренадерского полка. Его младший брат рассказывал потом: "Он (полковник Булатов. – Я. Г.) был несколько раз ранен в Отечественную войну довольно сериозно в ногу, правую руку и голову, и часто страдал от этих ран, в особенности от головной; рассказывали мне его товарищи (сам он никогда не рассказывал ни своих походов, ни дел, в которых участвовал), что весь израненный, с повязкой на голове, с подвязанной рукою, он вступил в Париж во главе своей роты, салютуя левою рукою на церемониальном марше, при проходе мимо державного вождя русских войск; государь его заметил и пожаловал золотым оружием за храбрость, а французы, смотревшие на вступление русских войск, при виде этого юноши, всего израненного, бодро идущего перед своими солдатами, стали кричать ему: «Виват, храбрец!»"
Он и в самом деле был храбр, решителен, резок и обладал, как мы видели в столкновении его с генералом Желтухиным, чрезвычайно острым чувством собственного достоинства.
Он шел обычным путем удачливого гвардейского офицера – командование батальоном в гвардии, чин полковника и полк в провинции.
Так что дело было не в формальном ходе его карьеры, а скорее в ощущениях внутренних – он страдал от общей несправедливости иерархического военного принципа, когда люди, куда менее достойные, с куда скромнейшими, чем у него, боевыми заслугами, смотрели на него свысока – с высоты своих генеральских чинов.
И было еще одно обстоятельство, быть может самое главное, – император Александр в начале двадцатых годов грубо и незаслуженно оскорбил его отца – генерала Булатова. Сын тогда решил убить императора. Отец его отговорил. Для Булатова это было одним из проявлений общего принципа несправедливости, исповедуемого власть имущими.
Якубович, Булатов и Каховский были потенциальными цареубийцами – с разной, правда, степенью серьезности. То, что для Якубовича оказалось мрачной романтической игрой, для Булатова – порывом оскорбленного достоинства, для Каховского было крайним выражением общего мировосприятия.
Штейнгель, Батеньков, Якубович, Булатов, примкнувшие к обществу в последние месяцы, недели, дни, оказались между собой тесно связаны.
Каховский стоял один.
ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 27 НОЯБРЯ
К трем часам пополудни присяга Константину в Петербурге завершилась.
Для Милорадовича и его группировки дело было сделано.
Для Николая и близких к нему лиц это был первый – увы, неизбежный – этап борьбы за престол.
Для лидеров тайного общества это было началом ситуации, которую необходимо было довести до взрыва. Во всяком случае – попытаться.
Рылеев показывал: "Вскоре последовала и присяга, – и никаких мер не только невозможно было предпринять, но и сделать о том совещания. Вскоре приехал Трубецкой и говорил мне, с какой готовностью присягнули все полки цесаревичу, что, впрочем, это не беда, что надобно приготовиться насколько возможно, дабы содействовать южным членам, если они подымутся, что очень может случиться, ибо они готовы воспользоваться каждым случаем; что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Вследствие сего разговора и предложено было мною некоторым членам, в то утро ко мне приехавшим, избрать Трубецкого в диктаторы. Все изъявили на то свое согласие, – и с того дня начались у нас решительные и каждодневные совещания".
Рылеев несколько сдвинул время – Трубецкой мог приехать к нему с известием о присяге не раньше трех часов дня. А предложить избрать его диктатором Рылеев мог только вечером, на первом совещании после присяги.
Но прежде всего важно нам, что решительное слово, с которого начались целенаправленные действия, произнесено было Трубецким. И в диктаторы привели его не только "густые эполеты" гвардейского полковника, но эта твердая позиция посреди всеобщей растерянности…
Между тем по городу пошли слухи о завещании императора Александра. Трубецкой и его товарищи прекрасно поняли, что возможное отречение Константина и неизбежная в таком случае переприсяга принципиально изменят ситуацию.
В это же время в действие вступил человек, которому предстояло сыграть сильную и странную роль в надвигающихся событиях. Подполковник Батеньков показывал: "Ноября 27-го поутру я разговаривал с лекарем Яроцким. Вдруг пришел зять Сперанского Багреев и, не вымолвив ни слова, залился слезами. Зная дня за два о болезни государя, я понял горестную новость и сказал, что тотчас к ним буду. Сперанского дома не было; мы разговаривали втроем с дочерью его и зятем о положении императрицы, о необыкновенности кончины государя вне столицы и о предстоящем трауре. Не дождавшись Сперанского, я поехал кататься, думал увидеться с Трубецким, которого главные здесь сношения полагал в гвардии, чтобы узнать ее расположение, но не решился. Вместо этого обратился к коллежскому советнику Погодину. Здесь узнал, что присяга принесена уже государю цесаревичу и что огласилось во дворце об отречении его, но государь Николай Павлович поспешил присягнуть сам. По стечению обстоятельств я в сие время читал две книги: 1. Господина Тьери о завоевании Англии норманнами. 2. Госпожи Сталь об Англии. Весь был напитан тремя идеями: а) неблагорасположением к иностранцам, б) уважением к народным защитникам, в) уважением к собственной народов жизни. Мне казалось постыдным пропустить сей день, не дав заметить, что у России есть уже желание свободы. Посему говорил слишком вольно, что Совет и Сенат спят и что если б они думали об отечестве, то могли б в ту самую минуту, как Николай Павлович присягнул цесаревичу, принять сие за отречение и, огласив Александра II, сделать потом, что признают за благо. Напитанный сими мыслями и досадою, что важный случай пропущен, я поехал к Прокофьеву, отправился к Штейнгелю побранить высшие сословия, а после к Рылееву, чтобы подстрекнуть и его; но сверх всякого чаяния заметил, что тут были люди, которые в самом деле готовы броситься к солдатам и провозгласить Елисавету или Александра II-го".
Этот "следственный монолог" – образец декабристской тактики на допросах: сказать много, не сказав главного.
А главным для Батенькова в тот день было все же свидание со Сперанским, о котором он сказал, не назвав имени своего патрона. Первый раз он, очевидно, действительно Сперанского не дождался. Это и неудивительно – Сперанский был на известном нам заседании Государственного совета, на котором он, судя по всему, не проронил ни слова, как, впрочем, и адмирал Мордвинов. Батеньков вернулся в дом Сперанского после трех часов, и обидные слова его о том, что Совет и Сенат спят и не думают об отечестве, неизвестно к кому в показании обращенные, на самом деле обращены были к Сперанскому.
Барон Штейнгель живо и подробно описал визит к нему Батенькова: "27 ноября ввечеру господин Батеньков приехал к господину Прокофьеву и, застав меня у него, после нескольких слов, в рассеянии произнесенных, сказал мне: "Пойдемте в вашу комнату, хотя трубку выкурить". Когда мы пришли ко мне (в мезонин), то сели вместе на мою кровать, и тогда с видом крайнего сердечного огорчения он начал мне говорить: "Я поссорился со своим стариком и наговорил ему бог знает что. Как можно, упустили такой день, каковых едва ли во сто лет бывает один, и ничего не могли сделать для отечества. Теперь все пропало невозвратно; все предприятия надобно выкинуть из головы; кончено: Россия на сто лет должна остаться в рабстве". Я спросил: "Что же говорит Михаил Михайлович?" – "Что говорит! – отвечал он тем же тоном негодования, – говорит: "Я один, что ж мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить". Всего разговора нашего я никак не припомню, но эти слова врезались в моей памяти".
(Тут чрезвычайно важно, что Сперанский не отверг саму идею изменения формы правления, а только сослался на свое бессилие. У Батенькова, стало быть, с самого начала была идея изменения политического устройства акцией "высших сословий" – Государственного совета и Сената, провозглашения царствующей императрицей Елизаветы или же императором – малолетнего Александра Николаевича. Но надежда на сановников была столь же иллюзорной, как на добрую душу Константина.
День, как видим, прошел для будущих мятежников в выяснении обстановки и настроений, спорах и нащупывании позиций.
Если суммировать имеющиеся свидетельства, то оказывается, что вечером 27 ноября состоялось первое программное совещание у больного Рылеева. Были там Трубецкой, Оболенский, Александр и Николай Бестужевы, Штейнгель, Батеньков и, соответственно, сам Рылеев. Совещание по значимости своей может сравниться только с совещаниями у того же Рылеева 12 и 13 декабря, ибо на нем было принято решение огромной принципиальной важности.
На следствии декабристы, естественно, старались дать комиссии как можно меньше конкретных сведений об этом вечере. Оно и понятно – степень их вины многократно усиливалась, если они задумали мятеж еще тогда, когда возможность переприсяги была вполне гипотетична, когда рано еще было ссылаться на нежелание солдат присягать Николаю, – солдаты об этом не знали и не думали. Четко очертив круг замыслов вечера 27 ноября, они должны были признаться в изначальном стремлении вмешаться в политическую жизнь государства, воспользовавшись династическим сбоем как поводом. А декабристы признавались в этом очень неохотно, и скупые признания, отдельные проговорки приходится собирать по огромному пространству следственных дел.
Рылеев показывал: "С известием о слухе, что государь цесаревич отрекается от престола, первый приехал ко мне Трубецкой, – и положено было воспользоваться сим непременно; если ж слух сей несправедлив, то выжидать, что предпримут на Юге".
Но Батеньков свидетельствует, что узнал об отречении Константина в середине дня 27 ноября.
Штейнгель говорит, что Рылеев вечером 27-го рассказал ему подробно о том, что произошло во дворце. Стало быть, и о завещании Александра.
О том, что неясно, кому надо присягать – Николаю или Константину, – сообщил в середине дня Якубович. Так утверждает Александр Бестужев.
Николай Бестужев показывал, что 27 ноября (а это могло быть только вечером) он встретился с Батеньковым у Рылеева, "где весь разговор состоял о происшествиях во дворце и в Совете. В сем случае замечание Батенькова было, что если бы в Совете нашелся хоть один решительный человек, то Россия присягнула бы государю и законам". То есть речь шла опять-таки о незаконной присяге и отречении Константина.
Поскольку несомненно, что сведения о возможном отречении Константина были получены у Рылеева именно к вечеру 27 ноября, то особый смысл приобретает заявление Трубецкого, сделанное в этот день, "что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные".
На этом совещании, где присутствовали все главные деятели будущих событий, принято было два варианта возможных действий. Первый: если популярный в данный момент в гвардии Константин примет трон, законсервировать тайное общество и ждать лучших времен, набирая силы, – "действовать сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках". И второй: если Константин не примет трона и возникнет удобная для выступления ситуация, непременно ею воспользоваться. А пока готовиться.
Именно в тот вечер (а не утром, как ошибочно показал Рылеев) он предложил Оболенскому и Бестужевым избрать Трубецкого диктатором. В принципе это предложение было принято, но осуществлено позднее.
Растерянность лидеров тайного общества, охватившая их утром 27-го числа, к вечеру уже закончилась. Они выработали стратегический план действий и внутренне приготовились к различным вариантам. То ощущение крушения и безнадежности, которое возникло вечером 26-го и утром 27-го, к ним уже не вернулось.
Самым главным в совещании вечером 27 ноября было то, что участники его проявили безусловную готовность к действию при минимально благоприятных обстоятельствах.
Как мы увидим, тактические соображения и различие политических традиций скоро разделят этих людей. Столкновение их обернется трагедией для общего дела. Но пока они вместе – они решили действовать.
Трубецкой писал впоследствии: "Члены общества, решившие исполнить то, что почитали своим долгом, на что обрекли себя при вступлении в общество, не убоялись позора. Они не имели в виду никаких для себя личных видов, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они все это предоставляли людям, не принадлежащим к их обществу, но таким, которых считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению, которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущности". Он оказался пророком…
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. ПОСЛЕ 27 НОЯБРЯ
После сжатого, как пружина, перенасыщенного событиями и решениями дня присяги наступила некоторая пауза.
Николаю надо было срочно связаться с Варшавой, чтобы действовать сообразно с поступками нового императора – Константина I, а кроме того, подготовиться к возможной борьбе за власть в случае решительного отречения цесаревича.
На кого же мог опереться в эти дни Николай?
А. Е. Пресняков, специально занимавшийся этим вопросом, писал: "Только в придворных кругах были сторонники Николая. Тут многим было известно обещание Константина отречься от престола за разрешение ему жениться по собственному выбору, и это вполне соответствовало воззрениям придворной среды. Николай, женатый на прусской принцессе, входил всеми навыками и связями в тон и быт этого двора, налаженного императрицей-матерью на немецкий лад. При Николае, говорили тут, ничто не изменится, а с Константином, если он станет самодержцем, можно ожидать отмены дополнительного акта к закону о престолонаследии, и тогда русский императрицей станет "простая польская дворянка" и окажется поставленной "выше княгинь из домов королевских". Придворная челядь всякого ранга видела в Николае опору привычных дворцовых традиций и всего, их создавшего, политического строя".
Пресняков совершенно прав. Поддержка Николая именно придворными кругами, ориентированными на вдовствующую императрицу Марию Федоровну, не связанными с практическим управлением, то, что с именем Николая была сопряжена надежда на нерушимый статус-кво – ложную стабильность, – молчаливая оппозиция воцарению Николая деятелей реформистского толка – Сперанского и Мордвинова – все это крайне характерно.
Но в момент реальной борьбы за власть в деспотических системах решающую роль играет военная сила. Гвардия в лице Милорадовича и Воинова не допустила воцарения Николая 27 ноября. Только гвардия могла и в случае любого конфликта решить дело в его пользу.
На кого мог он опереться в гвардии?
Среди гвардейского генералитета у великого князя было мало друзей. Личными отношениями он был связан только с Бенкендорфом и Алексеем Орловым. Бенкендорф, храбрый кавалерийский генерал, прошедший Наполеоновские войны, неоднократно награжденный за отличия, в 1825 году командовал гвардейской кирасирской дивизией, в которую входили из стоящих в столице полков – Конногвардейский и Кавалергардский.
Волконский писал о нем в воспоминаниях: "В числе сотоварищей моих по флигель-адьютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с того времени были мы сперва знакомы, а впоследствии – в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству…" Благородный и добрый Волконский писал о "чистой душе и светлом уме" молодого Бенкендорфа. Нам трудно сейчас сказать, насколько ошибался князь Сергей Григорьевич. Ясно, что Бенкендорф был человеком неглупым и понимавшим неблагополучие в стране. Но он считал возможным поправить положение созданием добросовестной карательной организации, свободной от коррупции и тупости, а его друг, которого он будет допрашивать через пятнадцать лет как член Следственной комиссии, его друг считал, что страну надо спасать реформами, а не корпусом жандармов, как бы хорош субъективно ни был каждый из них. Бенкендорф хотел идти и пошел по одному из путей, указанных Петром Великим, – по пути усложнения аппарата контроля: фискалы, обер-фискалы, гвардейские сержанты в роли личных эмиссаров, контролирующие фискалов… Бенкендорф хотел идти и пошел вместе с Николаем по пути наслоения все новых и новых бюрократических пластов, подавлявших своей тяжестью, разветвленностью и всепроникаемостью любую дворянскую оппозицию. А Волконский считал, что функции контроля и регуляции должны выполнять представительные учреждения, не эмиссары правительства, а эмиссары сословий…
Генерал Алексей Орлов, брат декабриста Михаила Орлова, поклонник и рыцарь великой княгини Александры Федоровны, командовал Конной гвардией. На этот полк Николай особенно рассчитывал.
Явным сторонником Николая был и генерал от кавалерии Василий Васильевич Левашев, командовавший лейб-гвардии Гусарским полком и 2-й бригадой легкой кавалерии, в которую кроме гусар входили конные егеря. Но гусары стояли в Павловске, а конные егеря – в Новгороде. Левашев, таким образом, был генералом без живой силы. Но, как рассказывает Розен, стоявший 6 декабря в карауле в Зимнем дворце, во время выхода к обедне Левашев "имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от великого князя Николая".
Оба личных друга Николая располагали кавалерийскими частями, а Левашев не располагал никем.








