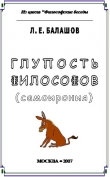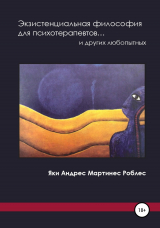
Текст книги "Экзистенциальная философия для психотерапевтов… и других любопытных"
Автор книги: Яки Андрес Мартинес Роблес
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
• Предпочтение вопросов ответам. В то время как ответы закрывают пути, предлагая спокойствие, вопросы двигают к поиску новых путей, вызывают беспокойство, которое мобилизует, способствуя развитию. Именно поэтому в Экзистенциальной Философии важнее не предлагать ответы на возникающие загадки и дилеммы, а стремиться находить новые пути, чтобы продолжать поиск новых и улучшенных вопросов, а также дилемм большей амплитуды или глубины.
• Предпочтение дилемм или кризисов решениям. С экзистенциальной точки зрения, жизнь является не однонаправленным процессом, а сетью напряженностей, которые тянутся во многих направлениях. Например, напряжение между «Я» и «другим» (не-Я) или между свободой и ограничениями и т. д. В сердце экзистенциального ви́денья лежит убеждение, что не существует «имманентно правильных ответов», а скорее постоянная тяга от одной стороны полярности к другой (Cooper, 2003). Эти напряжения – это парадоксы и конфликты, противоречия, которые постоянно присутствуют в жизни – несколько одновременно и, едва разрешается одно, то же или другое появляется снова, поскольку эти дилеммы не могут быть решены раз и навсегда.
Как и в предыдущем пункте, дилеммы способствуют движению личности, а также росту сознания. Более того, трансперсональная перспектива Кена Уилбера (1979, 1980) гласит, что каждому качественному скачку уровня сознания индивидуума предшествует столкновение с кризисом или дилеммой. «Без дилемм сознание не развивается» (Barragan, 2003–2004).
В каждой дилемме или кризисе лицо сталкивается с решением, отречением, имея перед собой оба края полярности, и, хотя мир психики позволяет ему объединять и интегрировать обе позиции, в физической реальности полярности взаимоисключены.
Это делает экзистенциальное ви́денье и ви́денье психотерапии тесно взаимосвязанными, поскольку как одно, так и другое занимается кризисами бытия человека. В экзистенциальной перспективе ищут не разрешения кризиса, но способы обнаружить или создать новые возможности, исходя из этого кризиса.
В дзэн-буддизме существует методология, напоминающая жизненные ситуации с точки зрения только что поднятой перспективы. Я имею в виду методологию «Коан».
Учитель дает каждому ученику загадку, которую невозможно решить с помощью логики, называемую коаном, чтобы ученик медитировал над ним, сохраняя рациональное мышление увлеченным логической невозможностью загадки, и таким образом позволяя появиться опыту Сатори, или просветления (некоторые из самых известных коанов: «Мы знаем звук хлопка двух ладоней, а как звучит одной ладони хлопок?»; «Каким было твое лицо до того, как ты родился?»).
Некоторые ученики тратят годы, пытаясь решить коан, данный учителем, а другие – никогда его не решают. Но когда кто-то достигает просветления, дающего соответствующее решение, учитель снова дает ему новый коан, чтобы он продолжал медитировать.
Жизнь постоянно предъявляет нам дилеммы или коаны. Каждый раз, когда клиенты приходят на психотерапию, они обращаются за помощью в решении нового коана, который жизнь им задала. Иногда они надеются решить эту дилемму и никогда больше не столкнуться с другой, подобной. Но некоторые люди затрачивают годы на решение одной. Есть некоторые дилеммы, которые никогда не решаются или, по крайней мере, не решаются полностью; а еще хуже (или лучше), если нам посчастливится решить одну из предоставленных экзистенциальных дилемм, – жизнь немедленно ставит перед нами новую приготовленную нам дилемму, часто заключенную даже в самом решении предыдущей.
• Предпочтение феноменологического метода. Хотя этот пункт будет подробнее затрагиваться позже, сейчас можно, забегая вперед, сказать, что на основании применения этой методологии реальность признана реляционной.
• Существование – это выбор. С экзистенциальной точки зрения, свобода и отречения, которые она подразумевает, являются фундаментальными фактами экзистенции. Несмотря на существование бесчисленных факторов и аспектов, которые на нас влияют в каждый момент, с этой точки зрения, ни один из них нас не обуславливает и не определяет. В конце концов, жизнь не состоит из хороших или плохих вещей, которые случаются с людьми, но состоит из того, что каждый из людей с ними делает.
Невозможно «не выбирать», поскольку даже «не-выбор» – это возможность, занятая позиция, то есть – выбор. Вы выбираете – не выбирать. Отсюда знаменитая фраза Сартра: «Мы рабы свободы».
Свобода порождает тревогу, а также является источником креативности. По словам Кьеркегора, «существовать – это выбирать себя». Каждый раз, когда я выбираю, я выбираю себя: в пределах множества возможностей, – каким будет мое существование в следующий момент.
• Существование – это риск и неопределенность больше, чем определенность и безопасность. Никогда нельзя быть уверенным ни в чем, даже в непрерывности самого существования, поскольку оно может потухнуть в любой момент без малейшего предупреждения. Это вовсе не попытка привести человека в депрессивное состояние, а приглашение прожить жизнь в полной мере – аутентично и с полной отдачей. Кроме того, поскольку существует взаимосвязь, мы никогда не сможем полностью контролировать существование; всегда будут факторы, не зависящие от нашего контроля и даже от нашего сознания, – ключевым образом затрагивающие нашу экзистенцию.
• Существование – это «быть заброшенным». Это выражение Хайдеггера относится к неконтролируемости человеческого существования. С одной стороны, оно подвержено огромному количеству обуславливающих факторов, начиная с биологических (таких как генетические), и до тех, что связаны с социально-культурной ситуацией, в которой каждый индивидуум вынужден развиваться. Многие из этих факторов невозможно выбрать, однако к ним можно выбрать отношение. Существование является непредсказуемым. С экзистенциальной точки зрения, у нас нет никакого предварительного плана нашей экзистенции, чтобы мы пробыли ее тем или иным способом. Все условия, поджидающие нас в жизни, являются случайными, то есть они могли быть совершенно другими. Или, словами Паскаля:
Когда считаю короткий период моей жизни, зажатый между двумя вечностями, – той, что предшествует, и той, что следует – ограниченным пространством, занимаемым и охватываемым моим взглядом, я теряюсь в бесконечной необъятности миров, которые неизвестны мне и которые не знают меня; я чувствую страх и спрашиваю с изумлением, почему я нахожусь здесь, а не там, потому что нет никаких причин, чтобы быть здесь, а не там, почему существовать в данное время предпочтительнее, чем в то (Pascal en May, 1977).
• Существование является темпоральным и пространственным. Существование может происходить только здесь и сейчас, но не статически, а в постоянном нелинейном и не однонаправленном движении.
Я существую только в определенном пространстве и в определенное время – без пространства и времени я бы просто не существовал, следовательно, важным становится способ, которым каждый человек переживает эти два измерения.
• Существование происходит в настоящем по направлению к будущему. Для Сартра человек является «проектом» в непрерывном становлении; любимое время для экзистенциалистов – здесь и сейчас, но не статично, а всегда в движении вперед, по направлению к будущему.
• Существование является ограниченным. Независимо от того, называются ли они «предельными ситуациями», «онтологическими ограничениями», «озабоченностью конечностью» или «экзистенциальными атрибутами», – человек сталкивается с определенными ситуациями, которые невозможно преодолеть, избежать, уклониться от них или даже решить.
Среди всех этих ситуаций наиболее выделяющаяся – неизбежность конечности, или смертность.
• Существование-с-миром-и-с-другими. Как упоминалось выше, существование является взаимосвязью: с определенным окружающим контекстом и другими равными, с которыми индивид сталкивается на протяжении всей своей жизни. Личность не «входит» в мир извне, а всегда является его частью. Мир не есть пред-существующая целостность. Не существует реальности, которая является человеком, и с другой стороны реальности, которая является миром.
Слово «мир» относится не к планете Земля, но к окружающей среде и окружению, в котором существо находится, с которым соединяется и в котором развивается. Таким образом, если бы человек жил на одном из спутников Сатурна, – это был бы его мир.
Когда мы говорим о мире, то включаем пространство, окружающую среду, контекст и темпоральность.
«Взаимосвязь является первичным состоянием бытия, мы не можем выбрать мир без других людей» (Cohn, 1997). То, что можно выбрать (и на самом деле нет альтернативы, кроме как выбирать) – это отношение к этой первичной взаимосвязи, которая также называется «интерсубъективностью». Человеческое существование является диалогом с первого своего момента. Вы можете пойти к другим или уйти от них. Возможна изолированность или «чрезмерная вовлеченность» в других (последнее известно как «слияние» в гештальт-терапии). Этот пункт включает в себя переход от интрапсихической и индивидуалистической парадигмы к реляционной и интерсубъективной.
• Существование – это процесс, а не состояние. Из этого можно сказать, что Существование является непрерывным становлением.
• Существовать – это беспокоиться о бытии. Объекты не обеспокоены своим существованием, они есть и ничего больше. Их бытие их не касается. Однако для человека эта идея не применима, он существует, – и насколько обеспокоен своим бытием, настолько чувствует угрозу и опасность. Его бытие имеет для него значение. Существование или БЫТИЁ человека и бытие других существ различны в этом фундаментальном аспекте.
• Существование включает в себя аффективный аспект. Личность реагирует на свое бытие-в-мире определенным, уникальным и индивидуальным аффективным образом. В зависимости от контекста и всех вовлеченных переменных, личность занимает «позицию» перед своим существованием. Это не реакция на мир в одном смысле; не только «ответ» на то, с чем она сталкивается, но в то же время, содействие встрече с определенными переживаниями, а не с другими. Как говорит Кон, «Тревога – это не только реакция на факт обнаружения себя «заброшенным» в мир, но через тревогу мы осознаем, что были брошены» (Cohn, 1997).
Для Кьеркегора «существовать» – синоним «чувствовать». Почти трансформируя знаменитую фразу Декарта «Cogito ergo sum» (мыслю, значит, существую), «Я чувствую, значит я есть».
• Аутентичное Существование – это страстное Существование. Если принять во внимание все предыдущие пункты, можно сделать вывод, что ви́денье Существования экзистенциальной философии точно не является «спокойным и лишенным волнений», а скорее приключением, полным возможностей для развития и эволюции. Аутентичное существование обязательно полно обязательств и глубоко вовлечено.
Хотя большинство экзистенциальных философов согласны с большинством перечисленных выше пунктов, у них существуют различия в акцентах или степени внимания к каждому из них.
К определению Экзистенциальной Философии
Мы можем выделить три экзистенциальных направления:
Религиозное: во главе с Кьеркегором, Ясперсом и Марселем.
Атеистическое: Хайдеггер и Сартр;
И литературное: Камю и Симона де Бовуар (упоминая только некоторых).
Тогда можно говорить об Экзистенциальной Философии глобально, обобщая свое видение человека следующим образом:
Человек, как мы видели, проецируется в жизнь, не зная ни откуда, ни куда он идет. Его жизнь – молниеносный проход между двойным небытием. Человек живет перед лицом небытия с небытием. Но стремится быть. Он стремится к чему-то большему, чем к бытию. Он стремится к существованию. Его существование имеет нечто абсолютно независимое. Человек не зависит ни от Бога, существующего только как творческий акт человека (что для атеистического экзистенциализма само собой разумеется), ни от общества, которое также является продуктом человека, ни от других людей, которые, как и каждый из нас, брошены на том же пути в один конец. Человек является суверенным и свободным. Это выбор и воля. Но это также ситуация и, как следствие, тревога, скука, тошнота и отчаяние. Находящийся в мире, который иррационален и абсурден, человек наблюдает за своим всегда навязанным и жертвенным выбором. Его жизнь – непрерывная борьба. Создавая добро и зло, правду и ошибку, он является владельцем своей экзистенции, существующей только для него, поскольку экзистенция не существует сама по себе (D'Athayde, 1949).
Для экзистенциального ви́денья, человек наделен рядом условий и ситуаций как на биофизическом, так и на социокультурном уровнях. Эти условия и ситуации являются «данными» (givens), в связи с чем человеку необходимо делать выбор и исполнять свою волю. Последнее будет во многом зависеть от степени развития его сознания, которое может развиваться из его пересечений и расхождений с другими.
Учитывая невозможность хорошего определения Экзистенциальной Философии, включающего в себя все или, по крайней мере, большинство ее логических связей, возникли некоторые предварительные или приблизительные определения, – некоторые весьма короткие, подобные определению Коплстона (1956): это философия, которая «настаивает на идее участия, противоположной созерцанию… это попытка философствовать с точки зрения актера, а не зрителя»(Moreno, 2000).
Другие определения сложнее, как, например:
… это попытка примирить объективное с субъективным, абстрактное с относительным, темпоральное с историческим; претендующая уловить смысл в сердце существования; и если описание сущности относится к философии как таковой, лишь рассказ позволит восстановить в полной, единственной и временной истине первоначальный поток существования… (Simone de Beauvoir, en Moreno, 2000).
или еще:
Мы могли бы определить [экзистенциальную философию] как совокупность доктрин, согласно которым объектом философии является анализ и описание конкретного существования, рассматриваемого как акт свободы, который складывается в утверждение себя и не имеет другого происхождения или другого основания, чем это утверждение само по себе (Jolivet, 1950).
Другим определением будет:
Экзистенциальная философия – это осознание движения более древнего, чем она, смысл которого раскрывается и темп которого ускоряется. Классической метафизике удалось пройти специализацию, чуждую литературе, потому что она всегда работала над фондом неоспоримого рационализма и потому, что она всегда была убеждена в возможности объяснить мир и человеческую жизнь посредством организации понятий.
Речь шла о меньшем объяснении, чем объяснение жизни или размышление о ней (…). Несмотря на самые смелые начинания (…), философы всегда заканчивают репрезентацией своего собственного существования – будь то трансцендентный театр, либо как момент диалектики, либо посредством понятий, так как они первоначально представлены и спроектированы в мифах (…).
Все меняется, когда феноменологическая или экзистенциальная философия предлагает не объяснять мир или открывать его «условия возможности», а формулировать переживание мира, контакт с миром, который предшествует всем рассуждениям о мире. С этого момента то, что метафизично в человеке, уже нельзя отнести ни к чему за пределами его эмпирического бытия – к Богу, к Сознанию; человек метафизичен в самом своем бытии, в своей любви, в своей ненависти, в своей индивидуальной или коллективной истории, а метафизика уже не является, как сказал Декарт, делом нескольких часов в месяц; метафизика присутствует, как думал Паскаль, в малейших движениях сердца. (Merleau-Ponty, 1948 en Moreno, 2000).
Возможно, лучше задержаться, по крайней мере кратко, на некоторых из наиболее представительных авторов Экзистенциальной Философии.
Заинтересованный читатель сможет углубиться в изучение взглядов этих мыслителей (или тех, кто больше привлек его внимание), опираясь на перечень основных книг, данных в конце представления каждого философа.
Любой честный подход к Экзистенциальной Философии не может оставаться невозмутимым.
Морено.
Глава 2. Предвестники экзистенциального мышления
Хотя возможно найти предпосылки экзистенциального ви́денья во взглядах и установках многих древних мыслителей (сходства можно отметить между экзистенциальной мыслью и посланиями Иисуса из Назарета и Сиддхарты Гаутамы – Будды), по мнению автора, философ, заслуживающий особого внимания – Гераклит.
Гераклит Эфесский
Несмотря на то, что дата его рождения и смерти неизвестна достоверно, считается, что он жил в Греции между 540 и 480 гг. до н. э.
Его точка зрения была противоположна позиции элеатов, таких как Зенон и особенно Парменида, которые подчеркивали неизменность бытия, то есть считали, что мир вечен и неизменен, и что человек создан преимущественно из материи.
Гераклит Эфесский считал, что принципом всего является огонь, таким образом, мир находится в постоянном изменении и движении. Его называли также философом становления, что связывает его с принципами, которых позднее придерживались экзистенциальные философы.
Гераклит полагал, что космос поддерживается в гармонии динамическим, а не статическим образом, космос есть единство-в-оппозиции, постоянное движение, обусловленное противоречиями и полярностями, направленное в будущее.
Его главным интересом был логос, смысл космоса, который Гераклит интерпретировал как изменение и поток всех вещей. Ему приписывают знаменитую фразу: «Мы не можем дважды войти в одну реку», которой он описывал постоянное движение бытия. Это движение порождает противопоставление и, следовательно, конфликт, поскольку, если есть противопоставление, существует экзистенциальная тревога.
С этой точки зрения, дисфункция – это стагнация, не-изменение, когда мы цепляемся за то, чтобы вещи оставались неизменными.
Это противоположно по смыслу нынешней западной культуре, которая обычно ориентирована на предотвращение конфликта и поиск постоянства и «стабильности». «Благополучие» или даже «счастье» стали считать почти синонимом неподвижности и спокойствия; человек с большими движениями и изменениями в жизни может считаться незрелым и, в некотором роде, дефицитарным. Таким образом, такие определения, как «постоянный», «стабильный» и т. д., стали считаться желательными или «хорошими», а противоположны им те, которые акцентируют движение, изменение и нестабильность.
Для Гераклита было очевидно, что жизнь направляется к смерти, что каждый миг мы рождаемся и умираем, что день превращается в ночь и снова в день, подобно тому, как весна превращается в лето, становится осенью, а затем зимой… чтобы начать все сначала. Таким образом, адекватным отношением в этой перспективе было бы – взбунтоваться против того, что остается неизменным, прежним, установленным; где то, что действительно для одного, не обязательно справедливо для другого, поскольку единственно универсальной является относительность: каждый человек уникален и уникальным образом отвечает на общие вызовы экзистенции.
Хотя во всех этих идеях мы можем признать само семя экзистенциализма, факт состоит в том, что Гераклит скорее оставался в тени в истории философии, когда Парменид и его поиск сущности бытия сверкали, оказывая сильное влияние даже на самого Сократа (Turnbull, 1999, Rispo, 2001).
Далее рассматриваются различные мыслители, которые так или иначе продолжали линию размышлений Гераклита, и часто известны как «экзистенциалисты».
Глава 3. Первые экзистенциальные мыслители: Кьеркегор
Тот, кто теряется в своей страсти, потерял меньше, чем тот, кто потерял свою страсть.
Кьеркегор
Первое, что ты должен понять – то, что ты не понимаешь.
Кьеркегор
Философия права, утверждая, что жизнь должна осознаваться в направлении назад. Но забывает о другом принципе: жизнь должна проживаться в направлении вперед.
Кьеркегор
Он родился 5 мая 1813 года в Копенгагене и умер в том же городе 11 ноября 1855 года.
На протяжении всей жизни он был очень одинок. Что касается его наружности, то «… все чаще казалось, что его странная внешность обусловлена чем-то бо́льшим, чем старомодная одежда. Его тело было угловатым и ригидным, и, должно быть, у него была какая-то деформация позвоночника, выглядящая как небольшой горб». (Strathem, 1999).
Когда он родился, его отцу было 56 лет. Кьеркегор был сыном второй жены своего отца, одним из 7 братьев. К тому времени, как Кьеркегору исполнился 21 год, 5 из них умерли, как и его мать, а оставшийся в живых брат был помещен в психиатрическую больницу.
Отец оказал сильное влияние на его жизнь, то поддерживая, то яростно выступая против него. Несмотря на то, что их отношения были близкими в начале жизни Кьеркегора, в них произошло драматическое изменение, когда отец признался, что много лет назад проклял Бога. Похоже, что это признание ужаснуло Кьеркегора, ибо он впал в своего рода депрессию.
После смерти отца он унаследовал состояние, которое сделало его богатым (Кьеркегор подсчитал, что денег хватит на 10–20 лет) и позволило посвятить себя учебе без необходимости работать.
В это время он встретил девушку на десять лет моложе себя, Регину Олсен, влюбился в нее и сохранял к ней особую привязанность всю жизнь (он даже сделал ей предложение, но вскоре как можно мягче разорвал помолвку, чего Регина не поняла, поскольку знала, что он её любит). Привязанность к ней видна в большей части его деятельности.
Продолжавшийся трагифарс преследовал Кьеркегора до конца его жизни. В течение многих лет он анализировал, фантазировал и препарировал свои реакции с душераздирающей честностью. Чем больше он себя истязал, тем глубже становились его мысли. То, что началось как агония, ведущая к выбору, со временем станет «Агонией выбора», дилеммой, с которой должно столкнуться все человечество – «что я должен сделать?», становясь универсальным – «как нам жить?» (Strathern, 1999).
В возрасте 30 лет он посвятил жизнь писательству, и провел ее в уединении. В конце жизни Кьеркегор публиковал статьи с критикой церкви за «лицемерный» образ следования христианству.
В 42 года у него на улице случился коллапс, приведший к смерти через месяц.