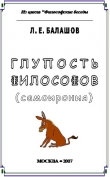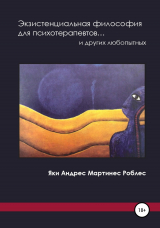
Текст книги "Экзистенциальная философия для психотерапевтов… и других любопытных"
Автор книги: Яки Андрес Мартинес Роблес
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Глава 1. Введение в экзистенциальную перспективу
Только воплощающаяся в жизнь истина имеет силу изменить человека.
Ролло Мэй
Каждый философ должен хотя бы раз в своей жизни «оторваться от самого себя» и попытаться разрушить внутри себя все, действительные для него до сих пор, знания – и выстроить их заново.
Эдмунд Гуссерль
Экзистенциальная перспектива характеризуется попыткой созерцать человеческую реальность с точки зрения повседневного поиска смысла, поэтому можно сказать, что она такая же древняя, как человечество.
Сегодня мы можем заметить, как все больше людей уходят от естественной жизни вследствие быстрого социального и технологического развития мира.
С увеличением степени сепарации увеличивается степень неопределенности и, следовательно, тревога; это вызывает интенсивное создание объяснительных систем, которые зачастую путем рационализации заставляет реальность поблекнуть (здесь мы рассматриваем, например, некоторые системы так называемого «нового века»).
Многие теории в философии (психология и психотерапия также не без греха) пытаются объяснить человеческий опыт с определенной точки зрения, предлагая с ее помощью дойти до «Истины». Истина представляется нам всеобъемлющей, дающей ясные и конкретные ответы на все наши вопросы и, таким образом, не оставляющей места сомнениям и неведению, ведущим к неопределенности.
Но всё же таинство жизни большей частью заключено в повседневных событиях, в ежедневном существовании, со всем его блеском и мраком. Человек, ограниченный рамками таких теорий, обращает внимание лишь на холодное и интеллектуальное, отделенное от опыта, происходящего изо дня в день, от момента к моменту.
Экзистенциальная мысль на протяжении всей истории возникала как реакция на это, представляла собой альтернативу догмам и попыткам контролировать человеческую судьбу. Мысли Кьеркегора и Ницше возникли, в частности, как бунт против тотального подхода философии Гегеля. Он был широко признан среди философов того времени, и в определенной мере пытался дать всему окончательное объяснение, действительное для всех таинств. Аналогично, в определенной степени, Гуссерль и феноменология появились как реакция на позитивистский рационализм.
В какой-то мере вызов экзистенциальной перспективы – это борьба против «научного терроризма», т. е. против претензии определенных идеологических групп на обладание «Окончательной и Уникальной Истиной», их склонности к «охоте на ведьм» или обличительным кампаниям против тех, кто не разделяет их взглядов. Это часто приводит к блокированию возможностей для выражения иного мнения, в результате чего многие более мелкие идеологические системы (что не делает их менее ценными) недоступны подавляющему большинству. «Независимое размышление о жизни – сейчас – под запретом больше, чем когда-либо прежде» (van Deurzen, 2000).
Этому способствует склонность людей искать ответы, когда на самом деле то, что было потеряно, – способность задавать правильные вопросы.
Поэтому важно не делать экзистенциализм новой «доктриной Евангелия», но помнить, что его основная идея в том, чтобы подвергать сомнению все виды жестких и тоталитарных идеологий. Вместо «великой Истины» речь идет о временных и индивидуальных истинах, и о конкретном способе каждого человека сталкиваться с жизнью. Вот почему экзистенциалисты обычно использовали для выражения своих идей газеты, романы, историю, театр и т. д.; зачастую они писали от первого лица.
Экзистенциальная перспектива предполагает более глубокое изучение определенных областей жизни, следуя методологии вопросов, основанной на взаимосвязи индивидуума и его мира, индивидуума с самим собой, индивидуума с другими, и т. д. Как мы увидим позже, для экзистенциальной перспективы реальность экзистенции реляционная.
Экзистенциальная психотерапия
Экзистенциальная психотерапия является не столько моделью с конкретными техниками интервенций, сколько «моделью подхода к человеку», то есть ее характеризует установка и фокус терапии (определенная точка зрения на то, что есть развитие и задержка развития), а также особый стиль терапевтических отношений.
В психологии и психиатрии термин [экзистенциальный] скорее обозначает отношение, подход к людям, чем школу или специальную группу… Речь идет не о терапевтической системе, а об отношении к терапии, не о наборе новых техник, а о проблеме понимания структуры бытия человека и его опыта, которые должны лежать в основе любой техники. Вот почему имеет смысл сказать – при условии, что это не будет неверно истолковано – что каждый психотерапевт экзистенциален в той мере, в которой он окажется хорошим терапевтом, то есть способным постичь пациента в его реальности, и будет отличаться [характерным] типом понимания и присутствия [терапевта] (May, et al., 1963).
Можно также сказать, что экзистенциальные терапевты не находятся в поиске «техник, как таковых, а скорее в поиске общего взгляда, который должен освещать конкретные техники» (May, et al, 1977).
Фактически, некоторые из основных представителей направления (например, Yalom, 1999) даже предполагают, что основной метод состоит в том, чтобы отказаться от техник и сдаться реальным и аутентичным терапевтическим отношениям. Речь идет не о возвращении к натурализму, который пренебрегает всеми техническими разработками, а о том, чтобы считать главной заботой отношения, и использовать техники только на пользу работе по углублению данных отношений.
Терапевтические отношения являются основным центром терапевтической работы, вследствие чего она постоянно происходит здесь и сейчас.
Отсутствие технических разработок делает этот стиль психотерапии непопулярным, поскольку он непрактичен и непрагматичен, что затрудняет обучение и даже усвоение через наблюдение за демонстрационными сессиями; однако, это не делает подход менее полезным или применимым, поскольку взамен появляется большая глубина, приближающая к бытию человека.
Экзистенциальная психотерапия – это приближение с фокусом на некотором тематическом содержании, всегда с учетом контекстов в реляционной перспективе. Она работает с такими темами, как: завершение циклов, страдания, расставания, тревоги и душевные волнения, решения, отказы, потребность в смыслах, значения и процессы обретения значений, столкновение с неопределенностью, и т. д.
К сожалению, эти темы, которые Эмми ван Дорцен называет «повседневными таинствами ежедневной жизни», могут недостаточно глубоко затрагиваться терапевтами, упускающими прекрасную возможность роста для своих клиентов.
Не каждому терапевту в своем терапевтическом подходе необходимо полностью включать экзистенциальную перспективу. Тем более, экзистенциальной психотерапии не стоит считаться панацеей для тех, кто помогает другим людям в процессе их развития. Но каждый терапевтический подход может выиграть, уделяя значительное внимание этим темам и предложениям экзистенциального подхода, открывая пространство для повседневных таинств ежедневности.
Развитие экзистенциального психотерапевтического стиля требует глубокого осмысления взглядов экзистенциальных философов.
Позже мы сделаем панорамный обзор экзистенциальной философии. Необходимо отметить, что для такого сложного предмета только введение может потребовать нескольких томов, что выходит за рамки задач настоящей книги. Таким образом, здесь представлены только те сведения, которые оказываются каким-то образом полезными и применимыми в психологии и психотерапии в целом и, в частности, в развитии экзистенциального терапевтического стиля.
Можно сказать, что начать исследование экзистенциальной философии и психотерапии – это как совершить путешествие в глубины бытия, поскольку оно требует открытости – ставить под сомнение самого себя и экзистенцию. Первое правило экзистенциальной философии для такого путешествия: экзистенциальный философский акт должен начинаться как размышление о самом себе и о форме проживания собственной экзистенции.
С точки зрения экзистенциальной философии можно утверждать, что каждый философ должен хотя бы раз в жизни оставить борьбу с тревогой, которую провоцирует вся бездна бытия (бытия, которое конечно, временно, смертно), как возможность, которую действительно было бы глупо упускать из виду: ясное осознание существования, противостоящее человеческой драме (Moreno, 2000).
Или, словами Эмми ван Дорцен:
Отправляясь в это экзистенциальное путешествие, необходимо готовиться к тому, чтобы быть затронутым и потрясенным тем, что встретится на этом пути, и не бояться раскрывать наши ограничения и слабости, неуверенность и сомнения…
Только с позиции открытости, позволяющей удивляться, мы можем встретиться с непостижимыми таинствами ежедневности, что приводит нас к нашим собственным проблемам и ранам, чтобы столкновение со смертью позволило нам открыть для себя жизнь заново. (Van Deurzen, 2000).
Экзистенциальное Ви́дение
Для живого человека не существует реальности или истины, если он не принимает в ней участия, осознавая ее или поддерживая с ней связь.
Ролло Мэй
Не существовать, чтобы философствовать, а философствовать, чтобы существовать.
Серен Кьеркегор
Экзистенциальная философия – это попытка понять человеческое существование путем преодоления расщепления между субъектом и объектом (May, et al, 1977). Частью этого преодоления является признание того, что неразрывная связь между ними – основа реальности.
Контуры экзистенциализма начали проступать со времени «Метафизического Журнала» Габриэля Марселя, который выходил с 1 января 1914 года до 1923 года, а также в первых работах Хайдеггера и Ясперса в Германии в 20-х годах. Фактически, возникновение экзистенциального направления можно отнести к середине XIX века – протесту Кьеркегора против преобладающего рационализма.
Exist, происходящий от латинского глагола «ex-sistere», буквально означает: выходить, появляться на поверхности, проявляться или показываться.
Этимология слова соответствует тому, что искали экзистенциалисты: представить человека не как совокупность веществ, механизмов, схем или систем – не как что-то статичное – а как нечто возникающее, раскрывающееся → Существующее.
«Экзистенциализм означает – принять точкой отсчета существующей личности человека таким, каким он появляется и становится в процессе» (May, et al, 1963). Экзистенциализм интересует человек и его экзистенция перед лицом мира и жизни.
Экзистенциализм – это решение взять в качестве отправной точки анализ конкретного прожитого опыта, обращаясь, так сказать, непосредственно к человеку, вместо того, чтобы воспринимать его только как пункт назначения, и добираться до него исключительно в конце абстрактного исследования, исходящего из Бога и бытия, мира и общества, законов природы и жизни (Jolivet, 1950).
Если говорить коротко, центром экзистенциального исследования является опыт. Возможно, одной из самых известных фраз экзистенциальной философии является эта, произнесенная Сартром: «Существование предшествует сущности».
Традиционно в западной культуре сущность доминирует над существованием. В акценте на сущности подчеркиваются те неизменные принципы, которые должны находиться выше любого существования. Наука была в основном «сущностной», так как пыталась разделить реальность на составляющие, чтобы её понять, а затем извлечь общие принципы.
Психология и психиатрия также не были свободны от этой тенденции. Для экзистенциализма же, согласно фразе Сартра, я обладаю сущностью только в той мере, в какой я утверждаю мое существование, то есть это не отсутствие сущности, но ее создание моим существованием. (Эта точка зрения будет подробнее рассмотрена в обзоре взглядов Сартра).
Даже если бы сущность «пред-существовала», это было бы только вероятностью, поскольку только то, что выражается в существовании, подлинно ЕСТЬ.
У сущности нет иного возможного способа быть (в собственном смысле слова), кроме как – существовать. С этой точки зрения, существование над сущностью имеет приоритет абсолютного условия. Несомненно, будет сказано, что сущности «пред существуют» в божественной Мысли. Но это не что иное, как способ выражаться, достаточно неточный, потому что это скорее божественная Сущность, которая пред-существует, то есть сам Бог как основа всех сущностей и всех возможных существований. Строго говоря, сущности не существуют поистине иначе как существованием, которое делает их существующими (Jolivet, 1950).
Таким образом, невозможно достичь фиксированного и закрытого определения человека, поскольку он находится в процессах постоянного конструирования и реконструирования. Сартр заявляет: «Экзистенциализм состоит в том, чтобы дать человеку не закрытое определение себя, но всегда открытое… потому что человек по своей сути свободен» (цитируется в Jolivet, 1950). Фактически, поскольку слово «определить» буквально означает «положить конец, ограничить» идею или концепцию, можно сказать, что «невозможно» определить человека.
Все, что у людей есть общего, – это не ряд «свойств», а ряд «условий» и «атрибутов», или словами Ясперса, «предельных ситуаций», которые являются скорее фоном ситуации, чем ситуацией в себе, и представляют собой совокупность абстрактных символов, общих для множества ситуаций. (Jolivet, 1950).
Трудности изучения Экзистенциального
Объяснить экзистенциализм – непростая задача. Есть по крайней мере пять трудностей или препятствий для его изучения:
1. Приходится «говорить» об экзистенциализме, когда это философское положение, побуждающее перестать «говорить», чтобы начать «действовать»; если только речь не приведет нас к действию через глубокое размышление. «Истина существует только тогда, когда производится индивидуумом в процессе действия», – говорил Кьеркегор (En May, et al; 1977).
В этом весь вопрос поэтической экзистенции, непрерывно поднимаемый и никогда полностью не разрешаемый в сознании Кьеркегора: не делая только одну вещь истинной, проживать её, а не думать о ней. Таков идеал, к которому должен стремиться когерентный экзистенциализм (Jolivet, 1950).
2. Экзистенциализм возвращается к важности субъективного опыта человека, что значительно затрудняет обмен опытом или знаниями в «объективных» терминах.
Потрясенная, философия будет присутствовать на целом параде «предельных ситуаций» (Ясперс): унамониановской смертности, хайдеггеровской и батайской тревоге, сартровской Тошноте или абсурде Камю. Такие переживания/откровения не допускают «объективной позитивности», поскольку они сами по себе невосприимчивы к эпистемической модели научности и, тем самым, обнаруживают «пределы» или, даже лучше сказать «границы»… Как определить это «отклонение» феноменологии, которое уходит корнями в престижные, хотя и несколько маргинальные тенденции западной мысли, и скоро предстоящих Кьеркегора, Достоевского и Ницше? Без сомнений, на первый план выходят осознанная субъектность (феноменология), человек (философская антропология), экзистенция (экзистенциальная онтология и т. д.) (Moreno, 2000).
3. Предыдущий момент усложняется еще больше, когда мы учитываем язык (в данном случае испанский, хотя это не единственный современный язык с такими трудностями). У нас нет простых способов выразить субъективный опыт или переживание. Наш язык склонен разделять опыт на субъект и объект, в то время как экзистенциальная философия как раз старается нам напомнить, что в непосредственном опыте это расщепление иллюзорно. Это радикальное заявление Экзистенциально-Феноменологической Философии (а вместе с ней психологии и экзистенциальной психотерапии): «Реальность является реляционной».
Одним словом, экзистенциализм – это попытка понять человека, преодолевая расщепление между субъектом и объектом, измучившее западную мысль и науку после эпохи Возрождения. Бинсвангер называет это расщепление «раком всей психологии до настоящего момента…, рак доктрины расщепления мира на субъект – объект» (May, et al., 1977).
4. Как упоминалось выше, углубленное исследование экзистенциальной философии требует честного пересмотра собственной экзистенции. Тот, кто открыто попытается это сделать, не сможет избежать собственных сомнений.
Неприятие таких сомнений выдало бы глубокий страх перед способом философствовать, которым нельзя пользоваться просто так, ибо он ставит страшные вопросы. «Начать думать, – говорил Камю, – это стать заминированным». Любой честный подход к экзистенциальной философии не может оставаться бесстрастным (Moreno, 2000).
5. Экзистенциализм является не унифицированной доктриной, а совокупностью идей ряда мыслителей; и, хотя некоторые из идей противоположны, а многие мыслители серьезно конфронтировали между собой, они совпадают в определенных акцентах, стилях и способах приближаться к человеческой реальности. Эта связь также справедлива при разговоре о феноменологии:
… не существует феноменологической «школы», которая может предложить общепризнанные выводы, есть только группа исследователей, которые имеют общее отношение и ориентацию на философские проблемы, но каждый, в частности, принимает на себя ответственность за все, что, как он считает, найдено посредством данного подхода… (Scheler in Moreno, 2000).
Мы можем добавить, что некоторые из слывущих «экзистенциалистами» не согласны так называться, и даже критикуют тех, кто их так называет.
Что касается этого последнего пункта, Жан Валь считает, что экзистенциализм нельзя удовлетворительно определить, потому что:
… или он должен был бы включить в него такого недоброжелателя философии, как Кьеркегора, и двух авторов, которые выступали против экзистенциализма, таких как Хайдеггер и Ясперс, или было бы необходимо ограничить понятие «экзистенциализм» только тем, что называется Парижской философской школой (Сартр, Симона де Бовуар и Мерло Понти) (In Brown, 2000).
Однако, на сегодняшний день, если можно говорить об Экзистенциальной философии, то как о движении, которое, хотя и разнообразно, едино в определенных вопросах, которые полезны и применимы в психологии и психотерапии.
С определенной точки зрения можно утверждать, что у Кьеркегора и Гуссерля, Хайдеггера и Сартра, Ясперса и Марселя, Мерло-Понти и Рикёра есть свой собственный мир мысли. Но это утверждение игнорирует наиболее важный элемент такого образа мышления. Основной момент, который необходимо учитывать, состоит в том, что различия между всеми этими авторами не имеют большого значения, как только становится понятным, что то, что в настоящее время называется «экзистенциальная феноменология», главным образом является «движением», «климатом» мышления, чей собственный характер не может быть обнаружен или немедленно выражен (Luypen, 1967).
Основные экзистенциальные перспективы
В качестве экзистенциальных для настоящей книги были взяты все философы, разделяющие определенные взгляды на способы приближения к человеческому бытию и его реальности, предлагающие (хотя и с различными акцентами) большинство перечисленных ниже пунктов; некоторые из этих пунктов являются первостепенными или предпочтительными, хотя это не значит, что другой аспект исключается или отрицается (Cohn, 1997, 2003; D'Athayde, 1949):
• Примат Существования над сущностью. Несмотря на то, что этот пункт является ключевым в экзистенциальной философии, степень, в которой эта позиция принимается различными философами, варьируется.
Как упоминалось выше, при цитировании Сартра, для данных мыслителей говорить о «сущностях» означает абстрагировать, а говорить о «существовании» означает описывать реальность здесь и сейчас.
Сущность присутствует только в существовании. Например, когда говорят о сущности стола, говорят о том, что делает его именно этим, СТОЛОМ, а не стулом или холодильником. То есть, что общего имеют ВСЕ объекты, называемые «стол».
Однако, эта сущность существует только при условии проявления в ОПРЕДЕЛЕННОМ СТОЛЕ.
Тогда, говоря о сущности, имеют в виду потенциальности, возможности. Переход от возможности к реальности – это переход от сущности к существованию.
Когда говорят о «существовании», с другой стороны, говорят об ЭТОМ СТОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕННОМ СТОЛЕ.
Позиция эссенциалиста придавала бы ценность реальности «сущностей». Это может быть справедливо для мира физических объектов, но для человеческого бытия уместна экзистенциалистская позиция, которая говорит нам, что человек является тем, что он делает с собой и из себя, а не тем, что «может» или «должен» делать. С экзистенциальной позиции основная человеческая реальность не может быть редуцирована до группы «существенных» компонентов. Например, то, что отличает человека – это не его «уровень экстраверсии», не физические особенности, не интеллектуальный коэффициент, не нейротрансмиттеры, не синапсы его мозга, не его «архетипы», не его психические инстанции (Я-Оно-Сверх Я), не его обусловленность, и т. д. Даже создав прекрасное описание всего этого, мы не сможем получить конкретного человека, с которым я связан (Cooper, 2003). Личность – это то, каким особенным образом в каждый момент эти элементы располагаются, интегрируются и реконструируются – здесь необходимо вспомнить о законе гештальтпсихологии: «Целое больше, чем сумма его частей».
С этической точки зрения, попытка редуцировать твоё бытие до набора существенных компонентов сократит совокупность твоей человечности, трансформировав тебя в не более чем сложного робота или компьютер. Тогда цель экзистенциальной философии – развернуть наиболее полное и глубокое понимание этой экзистенции: нередуцируемой, неопределяемой целостности, которой ты, я и другие являемся (Cooper, 2003).
В определенной степени все тезисы экзистенциальной философии происходят из этой аксиомы.
Это как сказать, что каждому из нас при рождении была дана коробка с карандашами и холст определенного размера (карандаши и холст – это биофизические и генетические, а также социально-культурные условия, данные нам с рождения). У некоторых людей полотно может быть больше, чем у других. У кого-то в коробке может даже быть шесть карандашей, в то время как у других – двенадцать. Но несмотря на все эти различия, в конечном счете значение имеет та картина, что нами нарисована – произведение.
В конце концов, есть художники, которые создают уникальные шедевры одним простым карандашом.
Все это означает, что с экзистенциальной точки зрения, я – не то, чем я обладаю (умения, таланты, благоприятные или неблагоприятные условия жизни), но я – то, что я делаю с тем, чем я обладаю. Включая то, что у меня есть, и превосходя это.
Другой способ понять вышесказанное может появиться на основании следующего примера: «Возможно, я родился с великолепным музыкальным слухом и большими визуально-моторными способностями. Кроме того, в моей семье есть великие музыканты, так что в доме, где я вырос, всегда было фортепиано. Де-факто, в детстве я получил хорошее музыкальное образование. Мы могли бы сказать, что внутри меня великий пианист. Но если окажется, что теперь я не играю на пианино, то я не являюсь пианистом».
• Существование не является стабильным образованием. Но ежедневным созданием, непрерывным становлением. Существовать – это процесс, а не состояние, больше похожий на видео, чем на фотографию. Проблема в том, что каждый раз, когда мы описываем экзистенцию, мы фиксируем ее во времени, создавая впечатление неподвижного изображения, как на фотографии, когда на самом деле речь идет о чем-то, что создается и со-создаётся постоянно и непрерывно. Бесконечное движение.
• Существование – это соотношение (взаимосвязь). Существовать – значит выделяться в отношении чего-то другого; личное существование – это фигура относительно фона, из которого она возникает, и без которого не может существовать. Этот пункт является фундаментальным в экзистенциальной перспективе, которой мы пытаемся здесь поделиться. Тот факт, что большинство приведенных ниже пунктов говорят о полярности, означает, что с феноменологической точки зрения сознание требует контрастов. Холод существует благодаря существованию тепла. Если бы всегда была одинаковая температура, не было бы никакого смысла говорить о существовании холода или тепла. Мы можем говорить о существовании красного цвета благодаря другим цветам, поэтому соотношение – это условие и основная характеристика существующего. Точно так же существование Я требует, чтобы оно выделялось из всего, что не-Я. Я требует быть в соотношении с тем, что не является тем же самым, чтобы выделяться.
• Примат того, что есть, над тем, что должно быть. Больше внимания уделяется тому, что принадлежит реальному миру действия, чем спекуляциям о том, как должны обстоять дела, что обычно больше отвечает социально-культурному влиянию и давлению, чем желанию людей.
• Примат частного над общим. Тем самым оценивается индивидуальная субъективность; конкретный опыт каждого человека. Это переход от стола к этому столу. Это валоризация уникальности каждого человека, так же, как и каждого опыта.
• Примат действия над мыслью. Это переход от возможности к действию. Акцент экзистенциалиста делается на глаголы, на продолжающееся настоящее. На то, что совершается в данный момент. Человеческая экзистенция фундаментально динамична, – это поток, процесс. С этой точки зрения, люди не могут быть определены как «умные» или «глупые», ни как «больные» или «невротические», ни как «экстраверты», ни даже как «терапевты». Люди не являются «сделанными» или «законченными» существами, но существами в постоянном процессе конструирования в соотношении с миром (Cooper, 2003).
• Примат присутствия над отсутствием. Этот пункт приводит к важному значению «здесь и сейчас», которое ему придается в экзистенциальной философии, психологии и психотерапии. Важно подчеркнуть, что для экзистенциального феноменологического мышления отмеченное отсутствие является формой присутствия. Скучать по кому-то – это другой способ быть с этим кем-то. В экзистенциальном мышлении присутствие относится больше к сфере переживаемого, чем к сфере физического. Хайдеггер приводит пример: когда человек путешествует на самолете, пересекая океан для встречи со своей возлюбленной, он находится гораздо ближе к ней в своем переживании, чем к сидящему рядом с ним в самолете человеку. Когда говорится о присутствии, это делается с феноменологической точки зрения, следовательно, эмпирической.
• Возвращение к организму. Экзистенциальная философия возвращается к акценту на ощущение, переживаемое непосредственно с помощью органов чувств. Отсюда ударение на «организм». Некоторые путают этот пункт с модой 60-х и 70-х годов, предлагавшей нечто вроде искоренения разума; но экзистенциальное предложение состоит не в том, чтобы упразднить интеллект и разум, а в том, чтобы исходить из непосредственно ощущаемого на физиологическом уровне переживания и, таким образом, избежать рационализма. Организм включает в себя все аспекты: биологические и физические как ощущения; социальные и культурные как эмоции; психологические и рациональные как мысли и формирование идентичности; духовные и трансцендентные как поиск смысла и ценностей.
• Существование является телесным. Картезианское разделение между телом и разумом является результатом мыслительного процесса, а не опыта». (Cohn, 1997). По словам Мерло-Понти, Бытие человека «… не является психикой, связанной с организмом, а движением к и от экзистенции, которое в определенные моменты разворачивается в телесной форме, а в другие – в персональных действиях» (En Cohn; Ob. Cit.). Соч.). «Мое тело не сосуд, который меня содержит. Мое тело – это физическое переживание моего бытия». В конце концов, кто видел человека без тела?
• Существование сексуально. Тема сексуальности не педалировалась большинством ранних мыслителей-экзистенциалистов. Некоторые другие, как Мерло-Понти, не забывали о том, что люди – сексуальные существа. Сексуальность подчиняется тем же законам, что смертность или интерсубъективность: каждый должен бороться со сложной взаимоигрой между тем, что дано (или нет), и ответами на это. «В своей сексуальности человек проектирует свой способ быть на пути к миру, ко времени и к другим людям» (Merleau-Ponty en Cohn, 1997). Здесь можно спорить, что существование больше связано с питанием, но сексуальность подчеркивается, в частности, из-за культурного отрицания этой сферы, нагруженной интенсивным эмоциональным содержанием.
• Примат неопределенного над определенным. Поскольку то, что определено, имея обозначенный «конец», не предоставляет возможности расширения или модификации, для экзистенциальной философии более важным является неопределенное: то, что еще собирается определиться и, следовательно, открыто для возможностей. Важно помнить, что ви́денье человека в этом потоке мысли подчеркивает, что человек не определяем, чем приближен к идеям научных теорий, столь же современных, как теория хаоса и сложности (Martínez, 2001).
• Примат искусства над наукой. Для выражения своих идей экзистенциалисты обычно выбирали искусство. Они писали романы, пьесы, рассказы, интимные дневники и музыку. Этот момент – отражение важности субъективного и конкретного опыта каждого человека. В то же время это совпадает с образом психотерапии экзистенциальной ориентации, которая формируется скорее как искусство, чем как наука. В конце концов, искусство – это креативный акт, который стремится преобразовать то, что есть, в то время как наука стремится открыть и понять, каковы вещи.
• Примат абсурда над логикой. Первый открывает возможности, вторая их закрывает. В этом стиле мышления оказывается важным развивать способность не только выносить, но и ценить неопределенность, поскольку она представляется полной творческих возможностей.
• Примат тревоги над спокойствием. В то время как спокойствие является ощущением неподвижности, тревога всегда ведет нас к движению. Уже Алан Уоттс в «Мудрости ненадежности» (1951) сказал, что лучший способ чувствовать себя тревожным – это пытаться преодолеть тревогу. И что есть великая мудрость в признании и принятии неуверенности как источника красоты мира.
Для экзистенциального движения тревога является основным двигателем развития, а также генератором дисфункциональности, если ей не уделять внимания или пытаться ее подавить способами, не соответствующими контексту.
Тревога не выглядит непременно как нечто негативное: «Тревога – самое благородное и человеческое чувство человека. Из-за тревоги он избегает мира, греха и бездарности» (D'Athayde, 1949).
Тревога рассматривается как нормальная (и в некоторой степени необходимая) реакция на фундаментальные факты существования. Например: тот факт, что мы умрем, что все рано или поздно закончится, и что тем временем мы должны постоянно выбирать и отказываться, а вместе с этим выстраиваться, конструировать и реконструировать наше существование без какого-либо «руководства», которое бы нам точно и однозначно указывало, какой именно путь является правильным: «Тревога – это головокружение свободы» (Kierkegaard in van Deurzen, 2000).