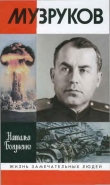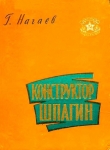Текст книги "Угол опережения"
Автор книги: Вячеслав Веселов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Угол опережения
•
– Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что она не работают! Видал ты труд птиц? Нету его! Ну по пище, жилищу они кое-как хлопочут, ну а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.
– А у человека что? – не понимал Захар Павлович.
– А у человека есть машины! Понял? Человек – начало для всякого механизма…
Андрей Платонов. „Происхождение мастера“.
Я увидел своего героя ранним июньским утром тридцать лет назад. По расшатанным тесовым мосткам, сквозь которые пробивалась трава, шагал машинист с дорожным сундучком. Как, почему занесло меня в такую рань на городскую окраину, не помню. Все вокруг было чужое, ничего мне не говорило, и я не мог тогда знать, что встреча эта останется в моей памяти. Таким встречам мы даем пройти мимо, но много лет спустя они неожиданно встают перед нами, воскрешая минувшие дни.
Едва ли то был Блинов, скорее всего – другой машинист. Но именно давней утренней встрече я обязан этими страницами. Когда я изводил Блинова расспросами, мной двигало нечто большее, чем обычный репортерский интерес или профессиональная дотошность. Я искал в рассказах Блинова приметы былого времени – своего времени.
Беседовали мы подолгу. И вдруг оказалось, что возраст, несколько десятков лет разницы, ничего не значат – мы были связаны одними воспоминаниями. Время, когда по тесовым мосткам (ныне не существующим) уходили в депо или возвращались из поездки машинисты с дорожными сундучками (тоже исчезнувшими из обихода), это время было нашим общим достоянием. Образ незнакомого машиниста, втихомолку живший в моем сознании, все чаще сливался с обликом Блинова. А судьба Блинова, раньше казавшаяся внешней по отношению к моему собственному опыту, теперь таковой уже не казалась – она говорила о времени, о городе, о моем детстве. И, вспоминая сегодня старый Курган, я вижу, как ранним летним утром по тесовым мосткам поднимается паровозный машинист Блинов, вернувшийся из поездки.
Я никогда не интересовался машинами, техника оставляла меня равнодушным, но одно из самых ранних моих поэтических впечатлений связано с машинами, с железной дорогой.
Крашенные охрой станционные постройки и мигающие семафоры были в детстве преддверием огромного и таинственного мира. Об этом мире за стенами родного города напоминала железная дорога; не рык самолета над головой как нынче, а гудки паровозов, лязг автосцепки и усиленные динамиками голоса составителей поездов.
Однажды, толкаясь на станции, я услышал про Блинова, а потом увидел его после очередного рекордного рейса. Играл оркестр, говорились речи, сновали по путям дети с букетиками полевых цветов – встречали героя.
Через много лет журналистская судьба свела меня с Иваном Петровичем Блиновым. Мне захотелось рассказать о нем – естественное следствие интереса и живой симпатии, какие вызывал этот человек. Как-то ко времени оказался прочитанным Андрей Платонов. И все это – платоновские истории про слесарей и паровозных механиков, рассказы Блинова о себе и мои детские воспоминания – складывалось в сюжет, которому уже было тесно в рамках журнального очерка. Так родилась эта книжка. Технические подробности редко украшают повествование, но здесь они были необходимы: герой нашел и выразил себя в деле.
По мере того как работа подходила к концу, передо мной все чаще вставал вопрос: «Что же за судьбой героя? В чем нравственный смысл его высокого профессионализма?»
Хроника начала растворяться в отступлениях. Но я решил не отказываться от них. В конце концов меня привел к ним материал, отступления были заложены в теме, они вырастали из темы и расширяли ее. А хроникальной полнотой можно было пожертвовать: жизнь не перескажешь. Я понял, что хочу не столько свидетельствовать, сколько разобраться в уроках Блинова.
Блинову сегодня за семьдесят, но он все так же деятелен, как и раньше: кто много работал, старится медленно. Должность у него почетная – шеф-наставник.
– Каждый год, – рассказывает Блинов, – несколько поездок с молодыми. А после – разборы рейсов, учеба. Как всегда. Вот недавно опять взял бригаду…
Машины стареют быстрее людей. В 40-х годах появились на наших дорогах паровозы серии «Л» – лучшие из тогдашних локомотивов. А уже с 1956 года выпуск паровозов в стране был прекращен. На магистрали вышли тепловозы и локомотивы с электрической тягой.
В 1975 году в курганском депо списали последний паровоз. Это была грустная церемония. Старые машинисты не скрывали слез. Они прощались с паровозом, как с верным другом. С ним уходила большая часть их жизни и целая эпоха в истории транспорта.
Паровозы, на которых Блинов начинал работать, давно сгорели в мартенах, а другие, те, на которых он поставил так и не перекрытые никем рекорды, еще, быть может, стоят где-нибудь в тупиках и резервах.
Что же осталось?
Остались и пребудут в памяти любовь и преданность технике, воспоминания об искусной работе, опыт, творческое горение, огонь человеческий.
1
Из родного села Вялсы десятилетнего Ивана отдали «в люди», в чайную купчихи Анисимовой. Блинов и сегодня помнит, как ранним утром они пришли с матерью в Сасово, как шагали безлюдной улицей; помнит сизый самоварный дым во дворах, теплый хлебный дух над пекарней, резкий запах дегтя и сапожного товара из открытых дверей лавки Кильдинова…
Про Сасово той поры в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона можно прочесть следующее:
«Издавна значительный торговый пункт с еженедельным базаром. Торговля хлебом и в особенности пенькою. Центральный рынок для сбыта пеньки. Большое производство веревок, канатов и трепание конопли. Канатные изделия имеют большой сбыт на суда, плавающие по Оке, Волге и другим рекам. Отсюда все ближайшие сельские местности снабжаются нужными для потребления привозными товарами…»
Сасово тщилось походить на город, но оставалось все тем же скопищем одинаковых серых домишек, унылые ряды которых лишь кое-где разрывались каменными особняками богатых хлеботорговцев. На улицах, вдоль дощатых заборов, росли лопухи и лебеда, рылись в пыли куры, сонно ворковали жирные голуби; дремали глухие, заросшие травой переулки.
Жили в Сасово домоседно и ставни закрывали рано. Вечерами люди исчезали в домах или сидели на лавочках у ворот. Бабы грызли подсолнухи, судачили. Иногда к ним выходил мужик с цигаркой, лениво встревал в разговор или, покуривая, прислушивался к далекой гармошке.
На базарной площади стояло длинное строение, похожее на сарай и называвшееся «павильоном». В нем размещались кинематограф и фотоателье, где сасовские обыватели снимались на фоне райских птиц и бумажных роз. В рамке под стеклом висела фотография местного телеграфиста:
«Портреты и художественные снимки. Цены умеренные».
В кинематографе показывали «Знак Зорро» и другие картины. Чаще всего это были непонятные истории про непонятную жизнь нарядно одетых господ. Где они жили и почему смеялись или рыдали, Иван не мог уразуметь. Мигающие надписи на мутно-желтом экране ничего ему не говорили.
Он уходил с мальчишками на станцию.
Это была самая большая радость – ходить на станцию смотреть паровозы. Иван стоял в толпе сверстников, вдыхая едкий запах гари и слушая перебранку машинистов. Народ на станции был особенный – кондуктора, механики, сцепщики. И бранились они иначе, не так как гости в чайной – с достоинством, служебными голосами. Пробегал озабоченный обер-кондуктор в мундире и со свистком на шнурке.
Сначала Иван глядел на машины издали, а потом с теми, кто посмелее, перебирался к будке смазчиков. Там паровозы были совсем рядом, он даже слышал их дыхание. Огромные, маслянистые, жаркие, с тусклым блеском медных частей – таинственные машины из неведомого мира. Особенно нравились Ивану паровозы на воле, среди полей. Когда он ходил к матери в деревню, то обязательно останавливался на горбатом переезде, у мостика со шлагбаумом. В томительной пустоте летнего полдня тревожно гудели провода, рельсы убегали в разлив колосящейся ржи, на них лежал голубоватый отсвет высокого неба. Паровозы появлялись неожиданно. Черные эти машины внушали ужас и восхищение, когда с ревом проскакивали переезд, оставляя за собой космы дыма и дробный перестук колес…
Он продолжал думать о паровозах по дороге домой. Станционная слобода спала, лишь вяло тявкали во дворах собаки, да кое-где сквозь запертые ставни сочился мутный свет керосиновых ламп. За спящими домишками, в просвете улиц мелькали окна поезда: на станции Сасово скорые не останавливались. Должно быть, они торопились туда, где шла война. О ней нынче много толковали в чайной. Племянник Кильдинова, вернувшийся из Галиции по ранению, рассказывал мужикам про австрийцев и генерала Брусилова. Мужики наперебой угощали солдата. Он быстро пьянел, замолкал надолго и вдруг поднимался с бледным перекошенным лицом и зло оглядывал чайную.
Россия третий год воевала с германцем, а в Сасово жизнь шла по-старому. Все так же трепали коноплю, все так же дымила мыловарня и визжала лесопилка. Разве что базары стали беднее, но торговали как и раньше – пенькой и хлебом. В чайной рассказывали, будто хлеботорговцы Синяков и Сафронов получили от царя грамоты за помощь армии.
…Вот и дом купчихи Анисимовой – старый, но все еще крепкий, в два этажа, с тяжелыми тесовыми воротами.
Стараясь не шуметь, Иван пробирался в свою каморку. Обычно стоило ему только донести голову до подушки, и он проваливался в темноту, забывался. Но после походов на станцию Иван долго не мог заснуть. Ворочался на лавке, комкал подушку и все думал, как в черной степи бежит поезд с горящими окнами…
Незаметно наступал серый рассвет. За стеной уже слышался надсадный кашель старика-инвалида, главного их кубового.
Иван выходил на кухню. Большую часть ее занимала огромная чугунная плита. В утреннем полусвете инвалид растапливал первый из трех кубов.
– Давай, Ванятка! – Старик заходился в кашле и махал рукой. – Давай…
Он мог бы и не говорить. И без того все было ясно: первый куб скоро закипит, пора готовить второй.
Узким темным коридором Иван выбегал на заднее крыльцо. На сером от золы снегу валялась луковая шелуха и картофельные очистки: напарники Ивана, взрослые парни выливали помои прямо с крыльца. Опять придется долбить эту наледь. К колодцу было не подступиться. Иван ложился грудью на обледеневший сруб, тянул на себя ведро. Колодезная вода обжигала руки, пальцы немели…
На кухне уже растапливалась плита. Иван бросал ведра под лестницу, брал топор и шел колоть дрова.
Потом беготня с подносом – весь долгий день. Застучал посетитель крышкой чайника – жди выволочки от хозяйки. Тяжелая была рука у купеческой вдовы Анисимовой. Покойного же хозяина Иван видел лишь на фотографии. Как-то купчиха занедужила и Ивана послали наверх с малиновым отваром. Хозяйка дремала в кресле. Иван потоптался на пороге, огляделся. Пестрые половики, кровать с горой подушек, герань на окнах, иконы в красном углу. На высоком комоде среди фарфоровых слоников и перламутровых шкатулок стоял портрет в рамочке: борода вразлет, костистый нос, а глаза знакомые – маленькие, злые… Удивительно был похож на хозяйку.
Зимой в базарные дни только и слышалось:
– Эй, парень!
– Малец! Спроворь-ка нам еще чайник.
Уважаемых гостей, богатых торговцев, положено было встречать. С полотенцем на руке Иван выбегал на мороз. У ворот толкались бородатые мужики в овчинных тулупах. Они не спешили заходить, спорили, хвалили или ругали торги, иногда пускали по кругу початый полуштоф и наконец шумной компанией вваливались в чайную.
К вечеру зажигали под потолком большую лампу. В желтом свете лениво шевелились клубы табачного дыма. Хрипел граммофон, звенели стаканы, за сдвинутыми столами нестройно пели, кто-то всхлипывал в углу. Иван подкручивал фитиль лампы. Резкая керосиновая вонь на миг перешибала кислый запах одежд и табачного дыма. От парного тепла в чайной запотевали стекла.
Старший половой, мордастый рябой парень, полоскал в тазу шкалики. Рядом стоял стакан, куда он сливал остатки водки, на буфете лежала луковица. К вечеру этот рябой обыкновенно бывал пьян. Он сонно ухмылялся и подмигивал Ивану: «В нашем деле как не быть выпивши…»
Когда Иван заканчивал мыть полы, луна уже стояла высоко. Он ощупью добирался до каморки, накрывался стареньким одеялом из цветных лоскутков и проваливался в сон.
Так прошли три года. Срок хозяйка определила сама, заработок – тоже: три с полтиной в год. Харчи – хозяйские, лапти – свои. Об этом уговор был особый.
2
Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека…
Однажды, когда Иван пробегал с подносом на кухню, его окликнули: «Эй, погодь!»
Он остановился. За столом сидели двое слесарей из депо. Иван знал их, как знал многих в Сасове. Старший был костляв, высок ростом. Он всегда сидел очень прямо, вытянув голову на худой жилистой шее – точно прислушивался.
Другой походил на цыгана – черноволосый, смуглый, с веселыми зелеными глазами.
Слесари собирались уходить. Перед ними стояли пустые стаканы, на тарелке лежал недоеденный калач, валялись шкурки колбасы.
– Айда к нам в депо, Иван, – сказал старший. – Устроим обтирщиком. Не пожалеешь.
– И то, – улыбнулся чернявый, – чего здесь колготиться! У тебя пойдет. Ты, Ванька, шустрый, жига… – Он снова улыбнулся. – Чистый волчок!
В тот же день Иван отправился в деревню и, волнуясь, передал матери разговор в чайной.
– Испыток не убыток, – вздохнула мать. – Только кто же тебя возьмет? Малой ты еще…
Слесарей долго не было. Иван проводил дни в томительном ожидании и мечтах. Когда деповские пришли, он рассказал им про опасения матери.
– Пустое! – рассмеялся чернявый. – Я тоже огольцом пришел в депо, недолетком вроде тебя.
Научили, что делать. («Приказные крючки дюже охочи до подарков!») Мать отнесла писарю плетенку коровьего масла и две дюжины яиц. Тот выправил бумагу – прибавил крестьянскому сыну Ивану Блинову два года. Теперь все вроде было в порядке, но Иван волновался. И не возможный скандал из-за липовых бумаг страшил его, тут как раз все могло обойтись: выглядел он старше своих лет. Он боялся поверить, что скоро по гудку в толпе рабочего люда пойдет на станцию.
…Перед конторкой начальника депо Иван невольно поднялся на цыпочки – хотелось стать выше. Начальник посмотрел на него поверх очков, ухмыльнулся и стал читать бумагу. Мать стояла рядом, вцепившись сыну в плечо.
– Не отдавил еще пальцы? – вдруг спросил начальник.
Иван вздрогнул и проглотил слюну.
– Ладно. – Начальник накрыл бумагу ладонью. – Завтра приходи в депо.
Тяжелая и грязная должность – обтирщик паровозов. Да только Иван не об этом думал и не это переживал. Душа его замирала от радости, как в раннем детстве, когда на пасху давали крашеное яичко или, как случилось однажды в рождество, дарили что-нибудь вовсе неожиданное – золоченый орех. Иван говорил встречным знакомым: «Работаю в депо», – и слушал себя с удовольствием. Теперь он был не на побегушках.
Тяжелая должность? Ну так что ж из того, что тяжелая! Труда он не боялся.
В Вялсах восьмилетнего Ивана на все лето отдавали помещику за два пуда ржи. Числился он подпаском, но многое должен был делать, везде успевать и всегда помнить, что к концу лета из трех подпасков оставляли одного. Если выбор падал на Ивана, недовольные и злые отцы других свинопасов говорили ему: «Ты, Ванька, чужой хлеб ешь…»
В чайной он имел ежедневно пять-семь копеек прибытку. Их давали на чай благодушные посетители: «Это тебе, любезный, за труды». Заработок надо было скрывать от хозяйки. Карманов у порток не было, Иван прятал чаевые в онучи. Хозяйка часто заставляла половых разуваться. «Ну-ка, – говорила она, – покажь… Скидавай! – орала хозяйка. – Кому сказывают: скидавай!» Если находила деньги, била нещадно.
Побои Иван переносил без слез и оскорбления скоро забывал. Другое его угнетало: беспросветная монотонность будней, пустота каждого прожитого дня.
Много лет спустя Блинов вспоминал:
– Конечно, и в чайной можно было служить. Работа как работа. Да вот только в про́гресс в ней ничего нет… А тут инструменты, машины. О будущем стал задумываться. Смотришь, бригада готовит паровоз к поездке. Механик поднялся в будку, вот его помощник идет с масленкой, за ним кочегар… Проездить бы всю жизнь кочегаром! Так думал. А за паровозным реверсом увидеть себя и не мечтал. Я ведь не знал, как дверь в школу открывается.
Блинов так и сказал: про́гресс. С ударением на первом слоге, как впервые услышал это слово от Петра Плетёнкова и Тимофея Наумкина, бывших питерских слесарей, у которых прошел профессиональную выучку и азы политграмоты.
Про них в депо говорили: «Большевики!» – и многозначительно переглядывались. Питерские рассказывали Ивану про стачки и баррикады, объясняли «текущий момент» и почему спорят до хрипоты механики братья Крысины.
– Разные политические платформы. Это ты заметь, Иван: один – большевик, другой – меньшевик.
Плетёнков – мягкий, спокойный, задумчивый – глядел, помаргивая, и тихо говорил:
– Мазута и угольной пыли, Иван, не бойся. Пыль отмоется. Следи, чтобы душа была чистой.
Наумкин был высокий, худой, с острыми локтями, которые постоянно двигались. Говорил быстро, рубил воздух рукой и часто повторял: «Н-необходимый момент!»
Но что бы они ни говорили, в речах их всегда слышалась убежденность в правоте. Вот эту спокойную убежденность и несуетливую гордость Иван раньше всего и заметил в питерских. Они хоть и были строгими, но никогда не кричали. Мальчишкам-обтирщикам это было странно. Между собой они часто разговаривали про питерских и находили, что питерские мужики лучше их отцов и старших братьев, потому что не грубят, не дерутся и всегда делятся хлебом.
Плетёнков и Наумкин приметили Ивана, не давали его в обиду, оберегали и скоро стали доверять. Кто колеса обтирает, кто тендер, кто экипажную часть, а Ивану поручали котел – сердце машины.
(Старые рабочие говорят о своем деле просто, как хозяйка о ложках, но Блинов и сегодня называет котел «сердцем машины». Для него это не примелькавшаяся метафора, а технический термин. Так когда-то называли котел его первые учителя.)
Однажды Плетёнков привел Ивана в мастерскую. У верстака горкой были свалены детали, которые предстояло обработать, валялись обрезки железа, на столах лежали инструменты: сверла, молотки, зубила, напильники. Множество самых разных напильников. От пропитанной маслом ветоши шел уже знакомый запах, визжало точило, стучали молотки… Ритм мастерской захватил Ивана. На миг ему даже показалось, что он работал здесь всегда.
А главное – за стеной были паровозы. И они нуждались в слесарях. Они ждали, когда Плетёнков или Наумкин, или кто другой придет к ним с готовой деталью, подгонит ее, скажет напарнику: «Проверь!», – а тот проверит и крикнет в ответ: «Порядок!» Это было удивительно, что могучие машины нуждались в маленьком, круглом Плетёнкове. И тогда верилось, что и он, Иван Блинов, сможет когда-нибудь лечить машины или даже ездить на них. От этой вот, от последней мысли, по сердцу бежал холодок…
Стали питерские понемногу приобщать Ивана к слесарному ремеслу: как деталь зажать в тисах, как напильник держать, как по зубилу бить.
От своих учителей Иван впервые услышал о мастерстве уральских литейщиков, тульских кузнецов, путиловских слесарей. Русский мастеровой, говорили они, всегда отличался смекалкой, всегда дорожил своей честью. Он не мог сделать что-то на авось, кое-как. Он знал цену и своему труду, и своему инструменту, все равно были то ключ, зубило или просто лопата.
Плетёнков и Наумкин не только передали подростку опыт, но и заставили поверить в себя, научили не поступаться своим рабочим достоинством. То, что позднее проявилось в характере, зрелого Блинова – профессиональная добросовестность, готовность помочь другим, жизнестойкость – было заложено здесь, в Сасово, двумя питерскими рабочими.
3
…история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.
Иван снова жил у матери в Вялсах. Деревенским он говорил, что служит на станции по ремонтному делу.
Друзья дожидались Ивана из депо, набивались в избу, приставали с расспросами. Особенно хотелось им знать, каким инструментом он работает. Всех-то инструментов было пучок пакли да жестянка с керосином, но про то Иван не говорил. «У нас в депо…», – начинал он свои истории и рассказывал, как действует паровой котел, как машина ходит, чем заняты механики и слесаря. Парни слушали внимательно, не перебивали.
Только сверстников своих Иван теперь видел редко: уходил на работу засветло и возвращался в темноте. До станции было двенадцать верст. Летним утром весело шагалось Ивану под бледными звездами, но осенью на знакомой дороге было тоскливо: смеркалось рано, и в темном поле даже взрослых мужиков брала жуть. С холодами волки перебирались поближе к жилью, в перелесках все чаще мелькали их горящие глаза. А однажды на околице села Иван увидел старую волчицу с отвислым брюхом. Она стояла неподвижно, глядя на темные избы и прислушиваясь к голосам собак.
После смены Иван торопился в пакгауз. Там работали грузчиками вялсовские мужики, и он боялся их проглядеть.
Увяжется Иван за грузчиками, те вроде не шибко идут, а Иван все равно отстает, вот уже и голосов не слыхать. Добежит, отдышится, а мужики опять впереди… Когда начались обложные дожди, Иван и вовсе перестал домой возвращаться. Находил на вокзале угол – там и спал.
Утром он будил станционного буфетчика, помогал ему ставить самовар, выпивал чаю и шел в депо. Шел озабоченный, невеселый. Работа в депо разладилась. Люди часто бросали дела и собирались в мастерских, где вели бесконечные, непонятные разговоры и спорили. Иван уже знал, что царь отрекся от престола, что в Питере революция, а в царском дворце заседает Временное правительство. Только все это было смутно – и новая власть, и революция, которая бушевала где-то далеко и до Сасово доходила в виде слухов и телеграфных депеш. Но ни слухам, ни депешам никто не верил. Нынче у каждого была своя правда.
Вчера на митинге начальник депо говорил про свободу и равенство. У начальника был чистый сильный голос и рассказывал он складно, но договорить ему не дали.
– Равенство! – кричал кузнец Егор Пряхин. – У тебя вон рожа гладкая и золотая цепь на пузе, а у нас опорки с ног сваливаются.
Но и Пряхину кто-то уже кричал из толпы:
– Горазд ты, Егорша, горло драть! Заглянул бы лучше в кузню, который день холодная…
В Сасово и окрестных деревнях появилось много солдат. Они приходили с разных фронтов поодиночке и про некоторых шептались: «Дезертиры». Но все они были в одинаковых шинелях, и нельзя было разобрать, где отпускные солдаты, а где дезертиры. Одни уверяли, что войне скоро конец. Другие, наоборот, рассказывали, что у купца Сафронова был комиссар Временного правительства и этот комиссар будто бы просил хлеба для армии и говорил, что германца снова бьют на всех фронтах и война будет до победы.
Деревенские ходили на станцию спрашивать про революцию, но люди в поездах рассказывали разное. Мужики возвращались домой еще более настороженными. Они зло ругались, говоря, что крепкого закону и твердой правды нигде нет.
Даже всегда спокойный и тихий Плетёнков горячился:
– Толкуют про революцию, а того не могут понять, что это буржуазная революция. Ты вот что, Иван, запомни: буржуи сбросили царя, а мы сбросим буржуев. Настоящая революция впереди!
А Тимофея Наумкина уже две недели не было в депо. Он уехал в Питер, никого не спросясь. Об этом тоже много говорили.
Люди жили беспокойно, в тревоге и тайном ожидании новых перемен.
Гудок хрипло рявкнул и замолчал, словно подавился. Потом снова подал голос и, набирая силу, поплыл над станцией в холодном осеннем воздухе. Ему басом ответили гудки с канатного завода и слабый тенорок лесопилки. Гудели они не ко времени. Иван торопливо вытер руки ветошью, вылез из паровозной будки и побежал в мастерские.
Там уже шумела толпа, было много чужих, какие-то солдаты, бабы… Все дружно кляли начальство.
– Они, гады, еще третьего дня получили бумагу из Питера и молчали.
– Правду не утаишь!
– Не томи, механик! Скажи толком: что в Питере?
На верстак поднялся коренастый мужик. Свет падал у него из-за спины, и лица нельзя было разглядеть. Ивана толкали, он тянул шею, глаза его слезились от едкого махорочного дыма.
– В Петрограде восстание! – рубил оратор. Иван узнал старшего Крысина. – Временное правительство низложено. Власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. Да здравствует пролетарская революция!
Толпа загудела.
– Это что же, сызнова революция? Одну беду заспать можно, а с новой что делать?
– Царя скинули, Керенского скинули… Какому богу теперь молиться?
– Себе молись, отец!
– Верно! Пусть они там в революции играют, а нам здесь, все едино, кто верхом сидит.
– Нет, мужики! – Худой солдат в длиннополой шинели отшвырнул цигарку. – Власть нынче наша, самим и надо жизнь строить. На новый лад! Большевики круто повернули. Первым делом – войне конец…
– Ты о своем, служивый! А как германец явится?
– Ему что, он дома! А у меня брат-герой на фронте.
– Герой! – вдруг взорвался солдат. – Своему брату, дурень, это скажи. Нас командиры только в реляциях героями величали. А чуть что – в зубы! Был я серой скотинкой, теперь не хочу. Хватит, посидел в гнилых окопах, покормил вшей!
Больше всего говорили о земле: половина деповских была из крестьян.
– Земля мужику даром отойдет.
– Как это отойдет?
– А вот так! Каждому неимущему – полный надел.
– Кто тебе ее отдаст, землю-то?
– Не отдадут – отберем.
– Ишь, босота, почуяли волю. Отбере-е-ем! Много вас молодцов с чужого стола куски таскать. Нет такого уставу, чтобы землю отбирать.
– Есть такой устав! Слыхал про земельный декрет? Помещичья собственность на землю отменяется.
– Декрет! И ты туда же, обсевок!
Сасово захлестнула волна митингов – многолюдных, шумных, с речами и песнями, с красными знаменами. Кумача в Сасово не нашлось, зато отыскали несколько кусков красного домотканого полотна. Из него и нашили знамен.
Вернулся из Петрограда Тимофей Наумкин. На станции говорили: с широкими полномочиями.
Деповские со знаменами обходили заводы. Иван не отставал от своих, стоял рядом с Наумкиным и слушал, как тот объясняет текущий момент.
– Пролетариат взял власть в свои руки, чтобы вернуть солдат домой и дать землю крестьянам, – говорил Наумкин. – Только большевики, партия рабочих и беднейших крестьян покончат с войной и поведут Россию по светлому пути мира и социализма.
– Про землю и крестьян мы поняли, – кричали из толпы. – А ты нам вот что растолкуй: ежели человек пекарню держал, или какой другой промысел у него ладно шел, кровельный, к примеру, или шорный, как тогда?
Наумкин объяснял: если ремесленник не жил чужим трудом, то может рассчитывать на сочувствие пролетариата. И говорил дальше – про контроль над производством.
– А кто в волости будет править?
– Мы, рабочие.
– Ну, а писаря, телеграфисты или, скажем, учителя. С ними как?
Наумкин объяснял: сознательные телеграфисты и учителя пойдут с пролетариатом.
Иван не все понимал из того, о чем рассказывал Наумкин, только чувствовал: старая жизнь сломалась и возврата ей не будет.
Отшумели митинги и собрания, рабочие вернулись в депо. Иван теперь помогал Плетёнкову на ремонте и потихоньку осваивал слесарное ремесло.
– Здесь, Ваня, твоя революция, за верстаком, – говорил ему Плетёнков. – Будущее делается рабочими руками.
Иван снова работал с подъемом. Он верил в будущее, о котором рассказывали питерские слесаря, хотел дождаться и увидеть его.