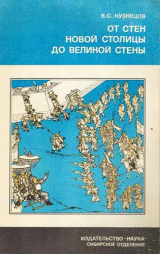
Текст книги "От стен великой столицы до великой стены"
Автор книги: Вячеслав Кузнецов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
* * *
Собрались на совет князья, бэйлэ, военачальники. Сознание одержанной победы в осанке видно горделивой у иных, у других светилось в задорном блеске глаз, звучало в бодрых звуках голосов у третьих. При появлении Нурхаци все стихло разом, все обратились в зрение и слух. «Теперь Шэньян уже взят, – негромко произнес Нурхаци и сделал паузу, как бы поддразнивая слушателей и заставляя их теряться в догадках, а что теперь замыслил государь. – И надлежит, – закончил Нурхаци, – пользуясь этим обстоятельством, скорей идти брать Ляоян».
Был дан приказ спешить. И хоть победу только что, считай, войско одержало, и настроение было у людей передохнуть и малость поразвлечься, но рать быстро собралась и шла теперь в полном порядке. Где идти и как, начальники знамен (а их уж стало восемь) знали доподлинно. Отладилось давно все. Ведь сколько довелось свершить походов, и в самые различные места! Если местность обширная, то все знамена идут бок о бок, но не сливаясь. У каждого своя дорога. А стала узкой местность, тогда знамена все идут одной дорогой. В движении порядок строг и прост: ряды не смешивать, начальствующим глотку не драть.
А если завиднелся неприятель и схваткой дело пахнет, то войско разворачивается в боевые порядки. Впереди – пешие, одетые в тяжелые латы, с длинными секирами и большими мечами. А сзади – в легких латах, искусные в стрельбе из лука. Как было уж не раз, от движущейся завесы стрел никани наутек пускались. И только лишь смятение у них заметно становилось (как будто рябь по глади озера или реки пошла), тут конница, которая всегда наизготове, на них кидается и взбаламучивает все в смертельной круговерти.
А если стены крепостные встанут на пути или валы, то с ними управиться обычно Помогали «небесные лестницы». И каждую тащили десять человек. Обязанностью их было взбираться на стены городские.
Как войско строить при движении, как крепостями овладевать – до этого всего Нурхаци и военачальники его дошли не враз, а постепенно. Учила сама жизнь. Сражение каждое, каждый поход в неведомые края уроком были. Платил же за уроки эти Нурхаци жизнями людей подвластных. Соратники их, домой вернувшись и врачуя раны, чесали в головах: «Вот если бы сначала выпустить все стрелы, потом уже в ножи, то меньше бы оставили своих там» или «А кабы сразу же на них помчались наши верховые, то вслед за ними бы в остроге ихнем оказались…» Все разговоры эти слушал Нурхаци, кусая вислый ус. Немало из того, что услыхал, потом в устав свой положил. А выполнять его заставлял и наказанием, и наградой. И если кто бы сверху взглянул сейчас на рать, что двигалась на Ляоян, то непременно поразился бы порядку, в котором шла она.
А скрытно к Ляояну подойти не удалось. Прихода Нурхаци там ждали. И в прозорливости особой вовсе не было нужды: из ближних крепостей остались только две – Ляоян и Гуаннин. Прибытия войска Нурхаци с душевным содроганием ждали там и тут.
Едва лишь выступило войско маньчжурское на Ляоян, как минские дозорные туда уж сообщили. И чтобы не дать маньчжурам вплотную к стенам подойти, китайское начальство поспешило выставить заслон. Но он был смят ударом спереди и сзади, и те, кто уцелел, в смятении ринулись к воротам. У них, прежде таких широких и узкими вдруг ставших, закопошились сплошным клубком, словно черви, конники и пешие. Чтоб вырваться из этого смешения и хотя бы щель проделать, чтоб проползти в ворота, они друг друга душили и топтали.
Тут ночь настала, и Нурхаци распорядился дать своим людям передышку. «Это лишь сова да кошка ночью охотятся», – добавил при этом.
Ночная темень, сделав невидимыми друг для друга неприятелей, не притушила страха и тревоги, но лишь усугубила их. Разгром войска Ли Хуайсиня, посланного в заслон, а потом и направленного ему подкрепления привел в смятение осажденных. Правда, военачальники старались сохранить спокойствие, хотя бы внешне, и готовились к отпору. «Мы будем драться, – объявил на совете цзинлюэ Юань Интай. – Как и что нужно сделать сейчас, пусть решает цзунбин Чжу Ванлян». При этих словах последний насупил брови и крепко сжал губы, всем видом своим давая попять, что справится он и не спасует.
Едва закончилось это недолгое совещание, как ночной мрак, заполнивший собой городские улицы и укрывший дома, озарили сотни факелов. Их зажгли по распоряжению Цоунбина Чжу солдаты, занимая боевые порядки на улицах, на крепостных стенах. «Это на тот случай, – рассудил Чжу Ванлян, – если вдруг враг, не дожидаясь утра, полезет на стены. Да и у горожан меньше будет тревог, когда увидят, что наше войско наготове».
Колеблющиеся факелов огни не разогнали мрака ночи, не принесли успокоения. Переполох только усилился. При виде блуждающих во тьме огней иным мерещились «красные вороны», которые выбирали здания, чтобы, сев на них, поджечь. Богу огня молились для того, чтобы не дал «красной вороне» опуститься на крышу плоскую жилища. У многих было на уме одно – бежать, пока не рассвело совсем. Пример тому – гражданское начальство. Даоюань Ню Цзияо, шилан податной палаты Чжун Фуго и кое-кто из местных чинов дома покинули свои. Из вещей, что поценнее, прихватив с собой, из города бежали. Ну а за ними потянулся прочий люд, и даже те, кто в списках войска состоял. Но чуть рассвет забрезжил, сражение снова началось. Не спавши ночь, с тяжелой головою и делая усилие над собой, цзинлюэ Юань Ин-тай поднялся по ступеням башни «Чжэныоань». В беспорядочной кутерьме отрывочных видений, обрывков чьих-то слов вдруг отчетливо проступили строки Ван Ханя, и, с трудом передвигая ноги, Юань, не вдумываясь в смысл, бормотал:
«На землю пал полночный мрак, а в чаще золотой поднялся пеной виноградный сок.
Мы сели было пить. Но, чу! Нас снова сесть в седло зовет рожок.
Завидя нас потом лежащими вразброс, как камни, брошенные чьей-то рукой…
Не изумляйся и не качай от удивления головой».
Стоял он, безучастно наблюдая, как мельтешили и падали какие-то безликие фигуры. Не в силах был он повлиять на эту смерти круговерть. Ему казалось, что стороной пройдет и не затянет его она в последний хоровод. Но вот, когда в стене, наискось от башни, завиднелся пролом и одновременно раздался воплей недружный хор, в котором ликование он услышал с угрозой пополам, Юань нутром почувствовал – это конец. Доставая из висевшей на поясе сумки кремень и кресало, Юань с чувством жалости к себе подумал: «А свечку на моей могиле никто не зажжет…» От затлевшего трута быстро задымило звонкое от сухости дерево обшивки, и в разные стороны разбежались языки огня…
* * *
Ляоян уже не сопротивлялся. От этого известия радость заполнила нутро. Казалось, оно не в состоянии вместить её в себя всю. На Ляодуне, считай, уж не осталось городов никаньских и войска в них. Успел едва подумать так, как ликование сменилось нетерпением: «А что сановники никаньского царя, которые сидели в Ляаяне? Пока доподлинно не стану знать о нпх, не въеду в побежденный город», – так Нурхаци сказал себе.
И вот обостренный, слух жадно впитывает слова докладов. Цзинлюэ Юань Интай заживо сгорел в самим же подожженной башне, Фэнь-шоудао Хэ Тннкуй с женой и детьми утоп, в колодец кинувшись. Цзяньцзюньдао Цуй Шуею удавился. Цзунбин Чжу Ванлян и военачальники рангом пониже, имярек – пали на поле битвы. Взят в плен юйши Чжан Цюань{83}. «Ну это птица важная, – с места вскочил Нурхаци. – В звании таком служивых никаньского царя нам еще не доводилось у себя иметь. Ну что ж, пора взглянуть на Ляоян, каков он изнутри, увидеть самому».
А город сам и населявший его люд словно собрались праздновать второе рождение. Все дома были разукрашены полотнищами и стягами. Повсюду на листах желтой бумаги здравица «10 тысяч лет жизни!». И всюду, словно у бесчисленного множества невидимых алтарей, курились благовония{84}. Главную улицу Ляояна, по которой должен был проехать Нурхаци, выстлали тигровыми шкурами и парчой. Преобразился не только вид города, но изменилось и обличье его жителей. Все они теперь одинаково сверкали свежевыбритыми черепами{85}. Сбрив волосы, они уже одним внешним видом заверяли Нурхаци в своей покорности. Чтоб голову в сохранности оставить, волосами можно было поступиться.
Весь город затаился в ожидании, и ровно в полдень торжественно и мощно взревели трубы, возвестив, что Нурхаци въезжает. Горожане, пав ниц по обе стороны дороги, кричали: «10 тысяч лет жизни!»{86}
Бесстрастным оставаясь внешне, с виду ничем себя не выдавая, Нурхаци подумал про себя: «Это они не мне желают долголетия, а молят лишь, чтоб я не тронул их., Глупы же до чего, хотя разумностью своей кичатся. Какой же тот хозяин, что без нужды своим рабам головы сечь станет?»
В Ляоян Нурхаци прибыл не просто, чтобы город осмотреть иль показаться его людям. «Здесь будет моя ставка», – так решил Нурхаци, когда город был еще не взят.
У ворот просторного строения, где, поспешили пояснить сопровождающие, жил цзинлюэ Юань Интай, Нурхаци спешился. Стоял, не двигаясь, глядя в упор на здание. Смотрел и думал в то же время: «Годы… Нет, – поправил себя, – десятка два лет ушло на то, чтобы вот так, не как просителю, с опаской «А примут ли? Да как?», но победителем, хозяином к строению этому прийти, где жило большое никаньское начальство. А что в постройке жил не кто-нибудь простой, сразу видать и без подсказки. Цвет красный… Как будто кровью кто обмазал все его. М-да, сколько ее пролито было, никаней и своих, маньчжур, хватило бы, наверное, дома все в Ляояне выкрасить, не то что дом один». Подойдя к каменной стенке-щиту, стоявшей на небольшом удалении от ворот, потрогал ее рукой, словно удостоверяясь, крепко ли стоит. Удовлетворенно хмыкнул. Пройдя ворота, оказался во дворике, обставленном строениями. Прямо против ворот высилась величественная постройка. Столбы, державшие крышу, были покрыты резьбой, изображавшей драконов, змей и вьющиеся растения. «Здесь жил сам цзинлюэ», – подобострастно заметил кто-то из сопровождавших. Нурхаци, не удостоив говорившего взглядом, молча кивнул головой и огляделся по сторонам.
Каменный лев у дверей глядел незряче и беззвучно скалил зубы, оставаясь совершенно безразличным к появлению в доме нового хозяина. А тот, глядя на недвижного стража, раз и навсегда, пока он будет цел, оскалившего пасть, вдруг вспомнил диковинных животных, что стерегли покои Сына Неба. «Кто знает, – подумалось Нурхаци, – может, и у меня когда-нибудь джаан будет. Вот ведь в доме ляодунского цзинлюэ я теперь хозяин. А кто б сказал мне, что будет такое, назад тому – десяток лет, конечно, не поверил бы. Однако так произошло».
Вдруг он услышал стрекотание кузнечика, и Нурхаци напряг слух: «Не послышалось ли? Здесь ведь не степь. Откуда быть кузнечику?» Стрекотание повторилось, и Нурхаци, отойдя от дверей, направился в ту сторону, откуда доносились звуки. Здесь среди росших в больших вазах цветов и зелени стояли фарфоровые сосуды с золотыми рыбками, а на шестах висели клетки, где сидели большие зеленые кузнечики. «Они зачем здесь?» – не удержался Нурхаци. – «Осмелюсь доложить, – с почтением отозвался домоправитель, – цзинлюэ Юань Интай певчим птицам предпочитал кузнечиков. Они, – хихикнул домоправитель, – в летнюю пору услаждают слух. А осенью развлекают тем, что дерутся. Бой кузнечиков – зрелище, достойное внимания, смею заметить».
Толкнув дверь в помещение, которая легко открылась, Нурхаци прошелся по устланному циновками кирпичному полу. В помещении было вполне светло: наклеенная на рамы бумага пропускала достаточно дневного света. Мельком взглянув по сторонам, прошел через сени и оказался опять во дворике, где тоже стояло строение. Зайдя в него и миновав проход, снова оказался во внутреннем дворике с постройкой. И так шел, пока уже не увидел– впереди стена. Прикинул про себя: выходило – за одной оградой было семь двориков». «А столько для чего? Не иначе, – сам себе ответил, – чтоб в случае чего, было где прятаться. В наших строениях как? Раз только дверь открыл, петлять уже нигде не надо. Все – помещение одно».
– Ну что ж, – осмотрев изнутри дом цзинлюэ, снисходительно изрек Нурхаци, – согласен здесь пожить. Э, – живот погладил, – чего-то подвело меня уже. Пусть есть дадут, – сказал телохранителю Убаю, – туда, где ел обычно цзинлюэ.
Сытно рыгнув, Нурхаци сунул в ножны нож, которым резал мясо. Взял чашку с чаем, сквозь зубы процедил. Довольно крякнул: «Жир хорошо смывает чай горячий». Ушли те времена, когда лишь понаслышке знал, что пьют никани траву, которая у них только растет. Потом, когда в Пекине был, отведать довелось. Попробовать попробовал, а не вошел во вкус тогда. Теперь пристрастился вот. Благо в избытке чай: разжился у никаньского начальства. Забрал, что было в их домах.
– Спать тоже буду там, где прежний спал хозяин, – ответил Нурхаци, когда его спросили, изволит где он почивать. В покои спальные войдя, сильно потянул носом: чем-то непривычно пахло. Не то что запах устоялся другого человека (он тоже, видно, был), но чем-то еще пахло. Чем? Наморщив нос, Нурхаци втянул воздух еще и с подозрением взглянул на домоправителя. У того от испуга на свежевыбритом черепе проступили бисеринки пота. Судорожно разевая рот («Словно рыба, только что вытащенная на сушу», – пришло на ум Нурхаци сравнение), он выдавил из себя: «Запаха не извольте беспокоиться, государь. Это порошок из цветов жасмина сыпали от блох».
– И что, есть польза от этих цветов?
– Да вроде так, – отозвался домоправитель. II поощренный любопытством, проявленным Нурхаци, словоохотливо продолжал: «Жасмин всего надежней оказался от блох. А что касается пяти ядоносов, опасных людям, то бишь: тигра, змеи, паука, стоножки, жабы, то от них защищают «деньги, предназначенные для задавливания и преоборения нечистой силы». Вот такие, – и почтительно подал Нурхаци кругляшок, – соблагоизволите взглянуть».
Пока Нурхаци разглядывал амулет, домоправитель скороговоркой пояснил: «Как видеть изволите, на этой стороне – Небесною Силою Учитель Чжан грозит драгоценным мечом трехланой жабе, а прочие ядоносы – на другой стороне. И надпись соответственно для всей пятерки: «Прогоню нечисть, ниспошлю счастье».
– Да, штука занятная, – заключил Нурхаци, не выпуская амулета из сжатых в кулак пальцев, и прошествовал в опочивальню.
– Чудно, – произнес Нурхаци, – укладываясь на мягком ложе под балдахином. – Это сооружение, – потрогал пальцами тонкую ткань, – вроде палатки. Только стенки тоньше. От мошкары, видно, спасает. Иначе бы не приделали её над постелью.
Лежать на ней было покойно. Удостоверяясь, плотно ли ложе, Нурхаци уперся руками. Твердого не прощупывалось. Это, конечно, не подстилка из коры, на чем обычно спал в молодые годы, да и позднее, во время частых походов, когда корье застилали шкурой.
Лежать было покойно и уютно. Но сон не шел. Чужой устоявшийся запах наводил на мысли о прежнем хозяине, который прежде спал на этом ложе, под этим же балдахином. «Он не придет сюда уже, – говорил себе Нурхаци. – Но а дух его, – тут как тут возникала другая беспокоящая мысль. – Сдержат ли его стены дома и эта тонкая ткань спальной палатки?.. А он тут пришлый был, этот цзинлюэ, чужой. Как и все никани в целом. Вот предки наши жили здесь давным-давно. Тогда, когда никаней-то в помине не было тут. Даже никани те, которые учены, говорили: «А город, что нынче Ляоян зовется, во времена Цзиньской державы, Айжинь по-нашему, Восточною столицей назывался. И потому души предков моих, как старожилов, сильней должны быть, чем душа пришлого никаня». Сказав себе так убежденно, Нурхаци немного поворочался, располагаясь поудобнее, и вскоре захрапел.
* * *
– Оружие, что было найдено в домах у горожан, собрали вроде все, – докладывал Нурхаци поутру бакши Шозе. – Зерно, которое в складах нашли казенных, учтено. Сколько его, записано.
– А как ведут себя людишки?
– Все пока спокойно. Да кто посмеет нам грозить?
– Так, – гася зевок, протянул Нурхаци. Как это он произнес, было непонятно, удовлетворен он или нет. Скривив лицо и ощеря крупные желтоватые зубы, ожесточенно поковырял мизинцем в ухе. Вынув палец, облегченно вздохнул. «Словно мошка туда попала, – объяснил Шозе, – а теперь вот вроде полегчало». Бакши в ответ подобострастно заулыбался.
– Ну, с этим вроде управились, – продолжал Нурхаци, поглаживая ухо. – А что же этот, – недовольно поджал губы, – юйши Чжан Цюань не спешит прийти ко мне покорность изъявить?
– Вмиг приведем его сюда, если угодно государю.
– Нет, мне так не надо. Другое дело, коли сам прийти согласен. Пусть скажут от меня ему, что, если станет мне служить, весьма обласкан будет. Ну, ступай.
– Еще есть дело, государь, и важное.
– Докладывай.
– Что за запорами и под замками было, мы взяли все почти. Припасы хлебные, оружие, ткани. А вот оставили люден, что были посажены в тюрьму еще до нас. Как с ними быть?
– А раз под стражу были взяты, то перед своим, прежним начальством провинились как-то. И потому против него озлоблены. Но нам полезны могут быть своею злобою. Служивых и людей простого звания из тюрем выпустить. Вернуть всем звания, должности, которые имели прежде.
* * *
Со стороны взглянуть, не зная дело в чем, казалось странным все. Человек в богатой шелковой одежде, с шитьем, полулежал на грязной, продырявленной циновке. Длинные, до плеч, волосы свидетельствовали об его образованности, и узкие кисти холеных рук, тонкие пальцы с длинными ногтями говорили за то, что они привычны к кисти и бумаге. Вид же людей, которые окружили вельможной внешности человека, показывал их невысокое положение. Заурядная одежда мелких служивых, стоптанная обувь. Недавно обритые черепа их придавали им сходство с детьми, чьи головы ещё не заросли волосами. И тем более казалось странным, что эти по виду недоросли не просто увещевали, а чуть ли не наставляли ученого – вельможу.
– Непременно надо, почтенный Чжан, – наседали на него одни, – пойти самому к Нурхаци и явить свою покорность. Не только жизнь он сохранит, но и высокий чин пожалует.
– Почему бы не пойти Вам? – вопрошая, убеждали другие.
Выказывая полнейшее безразличие к этим доброхотам-ходатаям, Чжан Цюань, полулежа на циновке и не меняя положения, упорно молчал, словно не слыша обращенных к нему слов.
– Почтеннейший Чжан, – взмолился писарь из ямы-ня наместника по имени Гу, – соизволите сказать нам хоть что-нибудь, чтоб мы могли передать Нурхаци. Ведь это он послал нас к Вам. И если нам нечего будет передать от Вас, то всем нам несдобровать…
– Мне при дворе государя нашего, – голос Чжан Цюаня дрожал, выдавая его волнение, хотя лицом он оставался невозмутим, – были оказаны большие милости. Щедрое жалованье платили. А если покорился врагу государя, то, значит, ты пошел на то, чтобы любой ценой сохранить свою жизнь. И это означает – оставил о себе дурную славу потомкам. Хотя вот вы хотите, чтоб я жил, но я знаю лишь одно – умереть, и все тут. Я смерти жду и о покорности не мыслю. Поэтому оставлю истории свое доброе имя. И не намерен вовсе идти я бить челом разбойнику и дикарю.
Все, что сказал юйши Чжан, почти что слово в слово Нурхаци передали (понятно, о брани умолчали). С ним в это время сын был, Хунтайджи. Когда, слова юйши доложив, люди ушли, бэйлэ, не утерпев, спросил; «Ну что, отец, как Вы решили?»
Нурхаци не сразу отозвался. Пожав плечами, а потом вздохнув, как будто сокрушаясь, губы разжал: «Кабы он пришел покорность изъявить, то, понятно, мне надлежало со всею щедростью принять его. А тут ведь нет того. Наоборот, – в голосе Нурхаци зазвучало озлобление, – сражался до последнего и был пленен. А жить теперь – вовсе не в его намерениях. Раз человек хочет смерти, то зачем я стану о нем печься? Раз хочет смерти, так пусть и умрет. Ты и займись этим»{87}.
«Достойный человек не заслуживает того, чтобы ускорить приближение его смерти, – решил про себя четвертый бэйлэ, подходя к постройке, где содержали Чжан Цюаня. – Раз в бою его смерть обошла, то вправе жить ещё он».
* * *
Взглядом скользнув по посетителю и быстро уяснив, что это важная персона (за то осанка и одежда говорили), Чжан Цюань уперся взглядом в пол. И как сидел, так и сидеть остался.
– Я – сын Нурхаци, – упершись взглядом в темя Чжана, представился четвертый бэйлэ.
– Большую честь мне оказали, – бесстрастно отозвался юйши Чжан, – что посетить меня пришли. – И продолжал при том сидеть, как прежде, лишь только в пол уж не смотрел.
Ногой ему хотел поддать четвертый бэйлэ, чтоб тот вскочил и поклонился, но как-то удержался. «Зачем пожаловал?» – в глазах юйши вопрос прочтя, заговорил увещевающе.
– Тебе наверняка из книг ваших известно, что два су неких государя Хуй-цзун и Цинь-цзун были в плену у цзиньского Тай-цзуна. – Увидя, как веки дрогнули у юйши, четвертый бэйлэ продолжал. – А если ты, лежа ниц, запросишь у отца пощады, то князем сделает тебя он. Мне хочется, чтобы ты жил. Так почему упрямишься ты так и не желаешь покориться?
– Те, ласки полные слова, которые мне довелось сейчас услышать, убеждают меня, что хочешь ты, чтоб я остался жив. Однако упоминания о Хуй-цзуне и Цинь-цзуне тут не совсем уместны. Династия была их не больно уж значительна. Иное дело– нынешняя, которой я служу. Её правитель – хуанди, единый владыка Поднебесной. Как же я могу, покорившись, стать на колени и нанести ущерб достоинству великого государства?
Умолкнув, Чжан Цюань вопросительно посмотрел на собеседника: «Продолжать ли?» Хунтайджи снисходительно махнул рукой: «Говори-говори».
– Я вот чего хочу, – с оживлением продолжал Чжан Цюань, – пусть два государства живут в мире и согласии. Пусть избегают появления душ людей, умерших от мечей и стрел. А что касается меня, то мое нынешнее имя разве не останется потомкам? Разве у меня нет матери, жены и пятерых сыновей? Умру я – они все могут сохранить.
Если ты желаешь, чтоб я жив остался, то это приведет к тому, что в храме предков прекратятся жертвоприношения. Поэтому говорю: кроме смерти нет иных желаний у меня.
– Впустую разговор, – молча идя к выходу, сказал себе Хунтайджи. – Отец был прав.
Присутствовать при казни юйши Чжан Цюаня четвертый бэйлэ не стал. Он только передал приказ: «Без крови. Как обычно». Два дюжих молодца от лука тетиву накинули юйши на шею, ногами тверже в землю уперлись и потянули. Когда тетива только коснулась шеи, успел ещё подумать Чжан Цюань: «Мне повезло ещё. Не довелось живой мишенью стать». Крайне жестокими слыли маньчжуры среди китайцев и корейцев. Рассказывали про Маньчжур, что пленных те в мишень живую обращали. Людей, попавших в плен, в ряд ставили и стрелы в них пускали. И те, кто ранен был лишь, не убит, был должен вынимать стрелу из тела своего и подавать её стрелку-маньчжуру{88}.
Едва открыв от сна глаза, ван настороженно прислушался, поглаживая грудь рукою. Тоскливо замирало сердце, словно западая куда-то. Страх не покидал Кванхэ-гуна. Причиною тому был Ногаджок, далекий и лично неизвестный предводитель орды дикарей. Управиться с ним оказалось бессильно войско Великой страны. А что будет с его Чосон, коль в ее пределы хлынут толпы Ногаджока?
«Разведал я достоверно, – всплыли перед глазами строки из письма товансу Кима (он все еще оставался в плену у Ногаджока, хотя для выкупа родня Кима немало ценностей злодею переслала), – готовят люди Ногаджока много лестниц, и я уверен, что они готовятся вот-вот напасть на нашу Чосон»{89}.
«Придет ли к нам на выручку Сын Неба?» – Сколько не вчитывайся в его ответное послание, с которым вернулся Ли Тингуй, согласия прямого не видно было что-то. Лишь заверения такого рода, что милосердием своим Небесный двор тех, кто мал, не оставлял и не оставит…{90}
Томление в груди не проходило. «Вынь раму», – приказал ван слуге, державшему в руках одежду, в которой ему надлежало выйти к придворным на утренний прием.
– А… мм, – промычал в ответ слуга, не зная, как быть с одеянием короля, которое держал в руках. Удушье подкатило к горлу вана, и он стремглав к окну метнулся. Схватился руками за легкую раму, заклеенную промасленной бумагой, и, рванув на себя, открыл окопный проем. В помещении слабо пахнуло запахом цветов. Ван поморщился: «Я не одну охапку сжег их на жертвенном огне, моля о том, чтоб Сын Неба не оставил меня одного с Ногаджоком. Да только разве одни цветы принес я в жертву? А белых овец? Не поскупился нисколько. Но вот Небесный двор пока расщедрился лишь на милосердные слова…»
* * *
Такого б помещения не нашлось, чтоб всех вместить, И государем было решено, как исстари велось, празднество устроить под открытым небом, но соблюдая чип и положение. На верхнем ряду деревянного помоста места занять поведено было старшим нюру, под ними – начальникам цзяла. Поближе к середине, по правую и левую руку от места, где сядет государь, начальники знамен.
Вот дружно возопили хулара-хафань: «Становитесь в порядок по своим Чинам! Приступите! Преклоните колена! Покланяйтесь! Вставайте и возвращайтесь на свои места!» Едва стихло последнее слово возгласа, как весь чиновный люд пришел в движение. Со своих мест сойдя, приближались к государю, который восседал на желтым обитом возвышении, преклоняли колена. Почтительно поклон положив, вставали и степенно, не спеша и не толкаясь, занимали заранее отведенные места.
Едва поднял Нурхаци стоявшую перед ним чашу, как кутули стали обносить собравшихся вином и раздавать одежды. И благодарные за ласку, били челом в ответ вельможи.
Чашу из золота державшая рука слегка дрожала. Не так уж тяжела была на вид она, та чаша, чтоб руку к земле тянуло, А все же ощущал он дрожь легкую в руке. Нет, вовсе не в чаше, наполненной вином но самые края, тут было дело. Ведь прежде не раз доводилось потяжелее чашу поднимать, ни капли не разлив, а тут рука предательски дрожала. Волнение, видно, слишком велико. А как спокойным оставаться? Ведь велика победа, к которой не один год шли, которую добыли ценою многих тысяч жизней. Земля вся на восток от реки Ляо отныне неподвластна правителю никаней. Достоянием предков опять владеют их потомки! Отпраздновать эту великую победу и собрались сегодня здесь.
Почти не поворачивая головы, Нурхаци обвел взглядом присутствующих: «Боевые соратники, верные люди. Каждое лицо – живое напоминание о сражениях, число которых память не сохранила. Не все, конечно, кто быть достоин здесь, сюда пришли. Иным на это победное пиршество путь преградили укус стрелы, удар меча, недуга… Хурханя нет сегодня тут, брата Шургаци, Фюндона. По храбрости с ним кто сравниться мог? Ведь это он, Фюн-Дон, разбил никаней при Сарху, когда их рать шла на Хету-Ала. И под Фушунью он отличился больше всех. Это о нем тогда сказал я: «Вот муж, который стоит десяти тысяч человек1». Вид одежды, которую вот только что в подарок дал военачальникам, напомнил: «А за рвение под Фушунью Фюндона щедро одарил я». Словно сейчас перед глазами те подарки: шуба из черных лисиц с опушкой из черных соболей, пояс со вставками из яшмы и лошадь в полном убранстве. Совсем недавно вроде это было.
И тут вдруг защемило грудь, в той стороне, где с чащей рука была. Взяв в правую руку её, твердо держа (куда-то дрожь исчезла), заговорил.
– Минское государство – самое большое. Однако считало, что недостаточно ещё велико и пожелало присоединить к себе другое государство. Минская земля – самая обширная. И все же ее владетель считал, что недостаточно, и пожелал захватить землю у других. Поэтому-то и лишился земли, которою владел. Всему тому, случилось что, причина такова: Небу противны Мины, и наоборот. Оно помогает Нам{91}.
Дух переведя и взглядом поведя вокруг, стараясь враз увидеть всех и с каждым встретиться глазами, сказал: «Опираясь на ратную силу ваших слуг, удостоившись любви Неба, Мы и вы смогли прийти на эту землю…»
Вновь голос умолк, и снова он зазвучал, слегка дрожа, как тетива, когда стрела умчалась: «Чаша вина, одежды штука. Все это столь ничтожно, и разве достаточны они, чтобы отблагодарить за труды и старания? Но Мы помним вас, наших слуг, которые отдавали все силы ради укрепления границ страны, усердно занимались делами нашего царства»{92}. Сказав так, чашу поднес к губам и выпил до дна. Смахнув рукавом капли с усов, уставился в дно чаши: «Что эта чаша… Ею только мерить хмельное. А вот такой… такой посуды не сыскать нигде, да и не сделать никому, чтобы вместила всю ту кровь, что пролил мой народ маньчжурский, прежде чем мы сели пить здесь».
* * *
«Словно поветрие пошло какое-то. Пристрастие к пьянству стало все заметнее. Простые лопают, вельможи тоже пьют, не зная меры. Такого прежде не было, чтоб столько народу пило и часто столь. А в чем причина? Началось с чего? Быть может, оттого, что много праздновали побед? И оттого втянулись пить и в будни. Притом добычей разжились в никаньских городах, Запасы винные в них тоже были, и, с ними управляясь, пристрастились к вину. Идут ко мне доклады: «Государь, неладно дело. Пьяниц средь нас становится все больше. Меры прими».
Тут каждого в отдельности, – вздохнул Нурхаци, – приструнивать не станешь. Их сколько? Я один. Да и на начальствующих тоже положиться как? Днями с чем довелось столкнуться самому? Двое дубасят кулаками одного, четвертый на земле лежит. Подъехал к ним, «А ну-ка, Расходись!» – кричу. Они и ухом не ведут. В толк взять не могли, столь пьяны были, что перед ними государь. Но то еще было полбеды. В подпитии, затеяв драку, убили своего же, из одной нюру. Я приказал, чтоб тотчас привели ко мне чалаэчжэна. А он и с места сдвинуться не мог: так сильно пьян был.
И если дальше так пойдет, что станется с моим народом?» – скривившись, Нурхаци удрученно помотал головой, стараясь отогнать неприятные видения. Встав с места, прошелся несколько раз взад-вперед, бормоча под нос. Проговаривал сам себе слова будущего указа.
Перестав ходить, подошел к столу. На нем стояли тушь, кисть, лежала бумага. Нурхаци завел такой порядок, чтобы для письма всегда все было под рукой. Если в походе, то принадлежности такие в особом сундучке. А если дома, то, понятно, на столе. Коротконогий стол был явно мал для рослого Нурхаци. Но расставаться с ним не пожелал никак: достался этот стол в добычу. Прежде за ним писал Ляодунский цзинлюэ. И было лестно сознавать Нурхаци, что этот стол теперь ему, Нурхаци, служит.
Глазом кося на дракона, что, распластавшись на основании тушечницы, зло вытаращил бельма и разинул зубастую пасть, Нурхаци выводил слова указа.
«Слыхали вы, что люди пили издревле. Но, бражничая, что могли обрести, чему научились, какую выгоду извлекли? Вот что случалось с теми, кто пьет. Либо с другим человеком затевает свару, ножом его ранит и потом искупает вину. Или, сев на коня, калечит себе руки, ноги, а то и гибнет, сломав шею. Либо из-за пристрастия к вину без чести умирает. Или, свалившись в пути, теряет одежду и шапку. Либо лишается влияния на мать с отцом и братьев. Или из-за вина ломает утварь дома, рушит собственность своей семьи, имя ее позоря. Об этом всем не раз Мы слышали»{93}.








