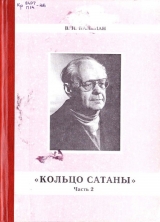
Текст книги "Кольцо Сатаны. (часть 2) Гонимые"
Автор книги: Вячеслав Пальман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
И ушел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Сергей улегся на жестком диване, забросил руки под голову. И улыбался. Без этого последнего разговора романтическая история казалась бы повисшей в воздухе. Савенков поступил действительно как отец. Вот снова появился на его пути славный человек, которых, наверное, так немного среди горестных реальностей Колымы, среди зла и позора. Везет ему, что ли?..
Он не проспал. За окном просматривалось серое утро, морось; сквозь нее – унылые, как на похоронах, редкие удары рельсы в лагере, там подъем. Да, скоро шесть. Морозов влез в свои одежды и бегом побежал к гаражу.
Машина уже была выведена, мотор прогревался. Шофер сидел в кабине. Рядом с ним восседал какой-то вохровский начальник.
– Ну, что? Поехали? – спросил шофер и включил скорость.
И снова трасса, мимо покинутого прииска «Майорыч» с его неприкаянным кладбищем, а дальше некрутой подъем на прижим, где дорога узко высечена в крутобокой горе; слева каменный отвес, в туманной глуби катятся воды холодной и страшной Колымы, река причудливо изгибается, обтекая горные выступы и, полная мрачных тайн, уходит к далекому отсюда Ледовитому океану.
Эти видения смутно проносились в голове Сергея. А думал он о другом…
За прижимом то и дело визжали тормоза, машина осторожно спускалась в просторную долину Дебина, затем повернула вправо, оставила позади знакомые казарму и поселок Дебин, лагерь и реку за ним. И, прибавив скорость, покатилась на север, домой.
Домой? Это слово вызвало у Морозова печальную улыбку.
Облачность редела, вскоре показалось солнце. Трасса уже пылила, где-то впереди был поселок Ягодный.
Сергей задремал. А когда мимо с грохотом прошли встречные грузовики, он открыл глаза, поднялся, встал за кабиной и увидел черные силуэты тополей – жителей долин.
За двумя плешивыми сопками в сторону от трассы уходила малоприметная дорога. Не она ли ведет на «Серпантин», самую страшную из тюрем Колымы, в которую с приисков свозили – а, может, и сегодня свозят? – обреченных на смерть. Спросить бы шофера, эти ребята все знают. Но как спросишь, если сбоку сидит охранник?..
Вот и Ягодный. Здесь Морозову нужно искать другую попутную машину. Вынужденная остановка.
ПЕРЕД ВОЙНОЙ
1
В центре Ягодного Сергей постучал по кабине, машина остановилась, он спрыгнул, поблагодарил шофера и шагнул на пешеходную дорожку.
Печать новостройки ощущалась во всем облике Ягодного. Его возраст едва ли перевалил за пять-шесть лет. В этот тихий и теплый день одноэтажные дома плотной рубки, в три и шесть окон, желтыми своими стенами и белыми крышами гляделись на фоне темной зелени очень уютно, даже красиво. Кое-где за двором и штакетником просматривались маленькие огороды, поблескивали стекла самодельных тепличек и парников. Прорисовывались и параллельные улицы, и разномастные цепочки домишек справа и слева от центральной улицы.
Конечно, не всех колымчан держали в лагерях до смерти, бытовиков и кое-кого по пятьдесят восьмой освобождали, когда кончался срок, а при Берзине даже за хорошую работу день засчитывался за два. Так на Колыме постепенно зародилась и оформилась категория советских граждан второго, пожалуй, даже третьего сорта. Вторыми тогда считались несудимые по какой-то причине горожане-работяги и крестьянская колхозная масса без паспортов.
Понятно, что бывшие заключенные не всегда торопились уехать на «материк». Они не искушали судьбу и оставались на месте. Мастерили себе жилье на окраинах поселков. В дело шли брошенные или краденные доски, старый брезент, ржавые листы железа, ломти дерна с ближнего болота. Устраивали крошечные оконца из стеклянных кусков, навешивали дверь, обитую брезентом или мешковиной, и учились жить «на воле», подрабатывая, кто чем может, только не в осточертевшем забое.
Ягодный был центром Северного горнопромышленного управления. В две стороны от него в те годы работали прииски «Ат-Урях», им. Горького, «Хатыннах», им. Водопьянова, «Бурхала», «Штурмовой» с сетью отдельных лагерей и забоев, большая часть из которых шахтного типа. Деревянное двухэтажное здание в центре поселка занимало Управление, оно стояло чуть в стороне от шумной колымской трассы. По ней ежесуточно проходили сотни автомашин.
Морозов устал от тряски в кузове, ему хотелось лечь, «покемарить» хоть час-другой. Он огляделся, увидел маленький истоптанный сквер, эстраду, выкрашенную в грязно-коричневый цвет, ряды скамеек перед сценой и жалкие остатки кустов по сторонам.
Минут пять он сидел, оглядывался, зевнул раз-другой и не удержался, положил сверток под голову, ладонь под ухо, колени к животу – классическая поза умудренного невзгодами странника – и уснул.
Менее чем через час его сон был прерван грубым окриком:
– Встать!
Сергей мгновенно сел, еще не понимая, где он и что случилось.
– Руки на колени! – послышалась команда.
Перед ним стояли два охранника, а командовал третий с лычками сержанта на погонах. Широкое скуластое лицо выдавало в нем калмыка или киргиза.
– Кто такой? – кобура на поясе сержанта была отстегнута.
– Проезжий, – хрипло ответил Сергей. – В Сусуман еду.
– Документы! – и протянул лапу.
Сергей полез в карман. Как он ненавидел сейчас этого человека! Должно быть, его чувство отразилось и на лице, было замечено во взгляде; калмык вдруг сделал шаг назад, а ладонь его легла на кобуру.
Командировочное удостоверение старший патруля разглядывал минуты три, его узкие глазки недоверчиво сверкали. Потребовал паспорт. И тоже читал, перелистывал медленно и не без подозрительности.
– Что делаешь в Ягодном?
– Жду попутную машину.
– Она к скамейке подъедет?
– Устал от дороги, уснул. Сейчас пойду на трассу.
Бдительный наряд мог бы и уходить, но черный штамп в паспорте все-таки насторожил сержанта.
– За что сидел? – спросил он.
– За пьянку, – все более сердясь, брякнул Морозов. – Алкоголик я. Когда выпью, не помню, что делаю.
И сержант успокоился, подобрел. Он протянул паспорт. С такими бродягами все просто. А вот с врагами народа, даже если у них паспорт… Скажи Сергей правду, его непременно отвели бы в райотдел НКВД, там очень просто мог отсидеть в камере, до выяснения личности, и день, и неделю. И никто не понес бы наказания «за бдительность».
Наряд ушел, Сергей опять лег, потянулся, но сна уже не было, досада, даже злость владели им. Вот такая жизнь «на крючке».
В шоферской столовой пришлось показывать командировку, после чего ему дали обед. А вскоре он уже сидел в кузове грузовика на тяжелых мешках с крупой. По сторонам мелькали серые и голые сопки, уныло смотрелись в долинах перемытые бугры пустой породы, лес показывался только в узких распадках. В этом каторжном краю было грустно и просторно.
Впереди замаячила одинокая остроголовая гора; сквозь версты проглянул знакомый Морджот.
На каком-то крохотном поселке дорожников пассажир из кабины вышел, Сергей перебрался на его место. Молодой шофер прежде всего узнал, кто он и откуда. И проявил повышенный интерес. Агроном?.. Первый раз везет агронома. Вдруг придется побывать в его совхозе, где огурцы-помидоры. С некоторой неловкостью сказал мечтательно:
– Слышь, а я уже начисто забыл, какой у огурцов запах. Четвертый год здесь, почти два провел за проволокой, столько же – за баранкой. И все на крупе и всухомятку.
– Куда теперь едешь? – спросил Сергей.
– Далеко. На Аркагалу. Не бывал в тех краях? Шахты угольные и еще какие-то. Одним словом – каторга.
– Лагеря?
– Каторга, – повторил он. – Настоящая. Для тех, кому был дан расстрел, а его заменили пятнадцатью, а то и двадцатью годами. И в шахту. Наручники, цепочка – и к тачке. Хватай-катай-вози. Смена кончается, их по собачьему проходу из проволоки – прямо в барак, на ноги кляц-кляц – железки, лезь на нары. Телогрейки черные, на спине и шапке – белый туз, ну, как в старых картинках про декабристов. Чтобы целиться верней, если оступился и не туда пошел. Сам видел, когда дрова к ним в зону привозил для начальства. Во местечко!
– Не верится, – подавленно сказал Сергей. – Чтобы в двадцатом веке, да еще у нас… Ну, ладно, насильники, убийцы там. А эти кто такие?
– Которые на товарища Сталина покушались. Шпионы которые. Ну, вредители тоже. Грамотные. Только грамота им ни к чему, так я понимаю. Живыми оттуда не выходят. Ногами вперед – и в яму.
– А кто же уголек добудет, когда всех ногами вперед?
– Других привезут. Карусель, будь здоров!
Минут пять ехали молча. Сергей глубоко вздохнул, отогнал страшное видение. Сказал: – Ну, брат…
– Ты вот что. Никому про это самое… Иначе нас обоих, понял?
– Не беспокойся.
Опять помолчали. Шофер прокашлялся и вспомнил об огурцах.
– Если заеду, угостишь?
– Спросишь агронома. – И назвал себя. – Угощу.
– Я не так, не задарма, – поспешил сказать шофер. – Я за деньги. Почем они за кило?
– Не продаются. А угостить – угощу. Вспомнишь и запах, и вкус. Сам-то из каких краев?
– Клепиковский я. Есть такой городок близко от реки Оки. В лесах-болотах. Не слышал?
– Бывать не бывал, а знаю. Я ведь тоже рязанский. Из Скопина.
– Ну, земеля! – шофер и ладони от баранки оторвал. – Непременно заеду! Потолкуем про родные края. Вот куда нас турнули. На край света.
– Аркагала – край?
– Была – край. А теперь трасса оттуда пошла заворачивать дальше на запад, еще одна ветка на север, туда нынешним летом везли и везли. Кого только нет! Все из новых областей, потом от Балтийского моря, которые присоединились. Здоровые мужики, а уж напуганные – страсть! Чего не спросишь – ни слова не скажут, только белыми ресницами хлоп-хлоп. И отворачиваются.
– Не понимают нашего языка?
– Вроде понимает. Не хотят они разговаривать с русскими. Во, какую мы славу себе заработали! Потому как – штыком работали.
На Колыме уже ходил слух о том, что происходило на Западной Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, куда вошли наши войска и встали лицом к лицу с германскими войсками на новой границе. Вспомнились польские солдаты и офицеры, работающие сегодня на прииске «Светлом». Сколько же лет должно пройти, чтобы редкие уцелевшие, их дети и внуки могли глянуть на русского человека с улыбкой дружелюбия? Холодная Колыма постепенно становилась тюрьмой не только для «врагов народа», но и для соседних славянских народов – международным концлагерем! И это в сороковом году, когда сам воздух уже был пропитан ужасом близкой кровопролитной войны, которой миновать нельзя…
Трасса огибала дальние подступы к Морджоту, снеговая шапка на его вершине с южной стороны была несколько приподнята, с противоположной опускалась ниже, как белая панама, залихватски одетая набекрень.
Перед самым Берелехом Сергей увидел новую дорогу, узкую и щебенистую, в ухабах от множества автомашин. Она уходила точно на север.
– Не знаешь, куда по этой дороге?
– К черту в пекло, – бросил шофер. – Там один за другим прииски. «Мальдяк», «Ударник», «Хатакчан», «Буркандья» и еще какие-то поменьше, где не был, не пришлось. Веришь, нигде деревца не увидишь, на десяток километров – все порубили, чтобы обогреться. Уголь приходится туда возить. А он курной, без поддувала не горит. Мерзнет народ в бараках, лед на стенах, не согреешься. А начальство новые и новые лагпункты открывает. Чуть становится меньше золотишка на старом, бросают забой, а зеков везут на новые, где побогаче. Сливки снимает, за килограммы им ордена дают, вся грудь у чекистов в орденах. Ну, и стараются, а за спиной у них кладбища вырастают. Да кто эти кладбища приметит – ни холмиков, ни крестов. Сбросят в отработанный забой, пяток зарядов аммонала рванут – и уже ничего не сыщешь, если и захочешь. Концы – в воду.
В Берелехе, где большая ремонтная база и столовая, уже в поздний час Сергей с шофером поели холодной, давно сваренной кеты, выпили чай. Мотор не глушили, забрались в кабину: до Сусумана – рукой подать.
– Ночуешь у меня? – предложил Морозов.
– Не-е… Мне к утру быть в Аркагале. Ты покажи, где живешь, чтобы найти, если придется мимо ехать.
За мостиком через ручей остановились. Над долиной светилось бледно-зеленое безоблачное небо, подкрашенное на востоке жиденькой малиновой полоской. Скоро рассвет. Вышли из кабины, постояли. Воздух был холодный, ядреный. Ветки лиственниц приспустились из-за обильной росы. Метрах в трехстах тускло светилось стекло на теплицах. В нетронутой зелени напротив чернел домик.
– Вот в том домике я живу. Придешь на агробазу, спросишь меня.
Ну, будь! Непыльной дороги!
С трудом разминая моги, Морозов пошел к дому, постучал в окно. Орочко вскочил, закашлялся, открыл дверь.
– Наконец-то! Долго ты там. Рассказывай.
– Потом, потом… – Сергей лениво раздевался. – Никакого «ЧП» не случилось?
– Трактор вчера провалился.
– Куда провалился? Где?
– Прямо на поле. Около дороги на Челбанью. Там такая низинка… К вечеру вытащили. Тракторист живой, но испугался до немоты. Понимаешь, под огородом оказалась ледяная линза. Она успела вытаять, а почва с турнепсом осталась, только прогнулась. «Универсал» с культиватором по этой крыше и пошел. И рухнул. Труба чуть выглядывала. Ну, воды, конечно, хоть отбавляй. Бригада близко работала, вытащили мужика, Хорошев пригнал ЧТЗ, срыли одну сторону, выволокли тракторишко. Я завтра буду просматривать всю целину, нет ли там просадок. Этот, из НКВД, как его? Ну, Тришкин, примчался на «эмке», допрашивал, почему аварию допустили. Я ему сказал почему: пути Господни неисповедимы. Тем более, на этой неведомой земле, которую мы в пашню превратили. Все-то им надо, к каждой бочке затычка.
– Не в первый раз. Бдительность и еще раз бдительность! Теперь придется объяснительную писать. Дело… Как Александр Федорович?
– Трудно ему без тебя. Все спрашивал – когда вернешься. Он от зари до зари на ногах. Я как-то походил с ним с самого утра и до вечера.
Удивительно, как умело он настраивает на работу людей, как подымает дух человеческий. Потому что сам любит дело и другим старается внушить эту любовь. И как противен ему дух подозрительности, который постоянно исходит от местного райотдела НКВД – прежде всего там, где возникает что-то новое, интересное. Сами того не понимая, Тришкин и его команда выходят «на охоту» за каждым чем-то выделяющимся человеком, вольным или заключенным, только потому, что любые поиски кажутся им опасным явлением, способным поколебать нынешний строй жизни: «от и до, никуда дальше».
Эта мысль давно не давала покоя Морозову; испытал давление и на себе, понимал, что Тришкин не оставит его в покое, как и Хорошева. И все-таки не собирался стать таким – «от и до» – исполнителем приказов. Противно.
Совхоз разрастался. Строили третий тепличный блок. Нашлись мастера в лагере, которым поручили создать большой засольный цех для квашения капусты – со всей возможной механизацией. В любой новизне агрономы находили удовлетворение, выход инициативе, работа в совхозе имела целью улучшить питание в поселках и лагерях, пусть не всем, пусть не до конца, но все же…
Опять удалось привлечь к работе двух ученых со страшными буквами – статьями Особого совещания – и наладить изыскания на новых землях. Ведь «ЧП» с трактором могло повториться и на нови, только что освоенной совхозом. Опять поставили палатку на старом месте, ученые жили в ней круглые сутки, вели таблицы изменения температур – на разных глубинах, в разных местах. Они обнаружили еще два очага чистого льда, погребенного под наносами. И одним этим оправдали свои обязанности и свой хлеб.
При обходе полей Хорошев привел капитана Сапатова к одной из раскопанных ледяных линз и сказал:
– Здесь можно утопить три трактора. Видите, какая глубина?
– Кто нашел? – строго спросил начальник совхоза и приоткрыл рот, как всегда в неожиданных ситуациях.
– Наши ученые, которых взяли из последнего этапа. Знатоки земли.
Он заглянул в палатку, задал несколько вопросов, увидел бедный скарб, истощенные лица двух зеков и, кажется, что-то в его душе стронулось. Ничего не сказал, но на другой день их вызвали в лагерь и там выдали белье, новые бушлаты, одеяла и кое-какие продукты. Даже сапоги. В Севвостлаге сапогами пользовались только охранники и привилегированные блатари.
Вот тогда Морозов и сказал этим ученым:
– Готовьте свою палатку для зимовки в ней. Раз начальник раздобрился, мы поверили в возможность составить годовой цикл почвенной температуры и водного баланса на огородах. Словом, утепляйте, как можно. И о лагере пока забудьте.
Едва ли не через месяц, уже по холодам, к этой утепленной палатке, конечно, в ночное время, прибыл майор Тришкин и три его опричника. Они подняли ученых, приказали одеться, обыскали, перевернули всю палатку и безо всяких разговоров отправили их в камеру тюрьмы при райотделе НКВД. Там им учинили допрос – кто и почему освободил их от предписанного режима, тут же переодели в тряпье и с угрозой дополнительного срока отправили под конвоем в пересыльный лагерь за рекой. Оттуда была одна дорога – на прииск.
Хорошев и Морозов пришли к зданию управления задолго до появления начальства, ждали в подъезде. Первым подъехал Нагорнов и, увидев агрономов, заулыбался: только вчера генерал Комаров в разговоре с ним похвалил подполковника за дела совхозные. По этой причине Нагорнов был в состоянии несколько благодушном и встретил посетителей по-дружески.
– Раненько вы, товарищи агрономы. Ну, пошли…
Через несколько минут, выслушав жалобу Хорошева, разозленный самоуправством майора, он схватил телефонную трубку и, начав с елейных слов о здоровье майора, вдруг обрушил на него такой отборный мат, что агрономы потупились, опустив глаза. Властный чекист на том конце провода услышал, что совхоз исполняет приказ генерала Комарова и самого комиссара Никишова о получении продуктов на месте, а он, муд-дак, ставит совхозу палки в колеса. «Тебе лишь бы инструкция, статья-срок, тебе в башку не придет, что надо использовать знания людей для нашего деда, а за огурцами присылаешь, будто в свой огород…». Тришкин оправдывался, но Нагорнов привык, чтобы его слушали и отвечали: «есть!». Он заявил майору о его несоответствии, о чем и доложит начальнику секретно-политического отдела, и вообще «кто хочет работать со мной, тот должен советоваться и получать добро, не то…».
– Немедленно исправь свою дурацкую ошибку. Люди эти нужны совхозу и никакие твои доводы, понял?..
– Над-до же, – сказах Нагорнов, положив трубку и как обычно заикаясь в раздражении, – с самого утра испортил мне настроение. Скажите Сапатову, чтобы позвонил мне и доложил о возвращении ученых. Все. Идите. Больше он к вам носу не сунет.
Шли по дороге в совхоз молча, пока не освободились от впечатлений кабинетного разговора.
– Нажили мы себе врага, – вот первое, что произнес Хорошев. – Ведь отыграется…
– Во всяком случае, не скоро сунется к нам в огород, – и Сергей засмеялся. – А хорош он, этот Тришкин! Вот в таких ситуациях и познается человек.
– Вы ему льстите, Сергей Иванович. Человек? Да в нем ни капли человеческого уже нет. Лишите его погонов – босяк, не больше. Из тех людских слоев, что поднялись наверх в тридцатых… Ненавидят всякого думающего. Мы с вами несчастливо попали в годы, когда мыслящие люди были едва ли не целиком зачислены в недруги власти. Смотрите, кто в лагере… Впрочем, это уже отвлеченный разговор. Вы проследите, чтобы наши почвоведы не оставались долго в лагере.
Идти на вахту Сергею не пришлось. Двух испуганных, недоумевающих седоголовых докторов наук конвоир привел на агробазу и ушел.
– Трагедийная ночь, – слабо проговорил один из них. – Шекспировские страсти по-лагерному. Куда нам теперь?
– Идите к себе в палатку. Харчи вам привезут. Потом поговорим, постарайтесь успокоиться. Недоразумение.
– Жаль одежду и сапоги, – вздохнул его коллега. – Теперь не сыщешь.
2
Шел последний месяц сорокового года.
Немногие люди из высшего эшелона Дальстроя получали более или менее достоверные сведения о событиях, которые происходили в стране и в мире. Вольнонаемные специалисты черпали скудные обрывки слухов и статьи из газеты «Советская Колыма», где информация была тщательно отобрана. Кое-что доходило до Морозова из аэропорта, где работал его друг – радист. Знали, что в Европе будет война, что исчезла на карте Чехословакия, поделена Польша, что Россия прибавилась старыми своими землями в Прибалтике, что Франция понесла тяжкий урон, немцы в Париже, в Компьенском лесу подписан позорный мир, что Англия воюет, с обычным британским упорством наращивает сопротивление фашистам, которые сильно бомбят английские города.
О наших переговорах с Германией просачивались очень скупые слухи; эти сообщения вызывали половинчатость – веру и неверие. Вдруг исчезло в сообщениях имя посла в Англии Майского, кто-то шептал, что он уже на Колыме, но этому не верили. Смутно было от таких безвестий, в головах рождались всяческие предположения, а в лагерях участились аресты «за разговорчики», которые кончались новыми сроками. В поселке не проходили никакие собрания, разобщенность людей была повсеместной, каждый боялся каждого. И не зря.
Наладив работу по массовой штамповке торфонавозных горшочков для рассады, с помощью которых удавалось высаживать весной уже крупную рассаду с пятью листьями, удлиняя лето на две недели, Морозов засел за статью о почвах Колымы. Ларин и Аронов напоминали, что статью они напечатают в первом сборнике на следующий год. И торопили агронома. А он – впервые за жизнь – сел писать не газетную заметку, не статью, а исследование, которое влечет за собой выводы и размышления. В данном случае, о почвах, их генезисе, их воссоздании трудом человеческим, в чем не преуспела консервативная природа Севера. Тем более интересно!
Он засиживался далеко за полночь. Спал Орочко. Гудела печь, пожирая за ночь бездну дров; за покрытыми льдом стеклами стояла невероятная зимняя тишь, от которой звенело в ушах. Изредка снаружи слышался треск: промерзшая до дна Сальгурья рвала лед, как только в глубоких местах накапливалась вода. Мертво смотрелись теплицы, стекла их были засыпаны полуметровым снегом. Скрип шагов слышался в разреженном воздухе очень далеко.
Сергей вспоминал работу на Дальнем поле в Дукче, на сусу-манских землях, напичканных замерзшими озерами, всматривался в страницы с показаниями из почвенных лабораторий Магадана и Эльгена, строчка бежала за строчкой, и не испытывал усталости, скорее, удовольствие, когда мысли обретают форму.
Орочко вдруг глубоко вздыхал, открывал глаза. И, смотря на Сергея, спрашивал:
– Ты не спишь?
– Сплю, сплю. Сижу и сплю.
– Сколько сейчас?
– Второй час пошел. Поворачивайся и добирай, до утра далеко. Утро наставало в десять часов – ленивое, сонное, в туманах, запеленавших долину Берелеха и, казалось, весь мир.
Но бригады приходили на агробазу раньше. Как и летом, развод проходил в лагере с шести и до семи. Шли кучно, быстро, молча, стараясь как можно дольше сохранить тепло барака под бушлатами и ватными холявами на ногах. Над тремя теплицами поднимался дым, сперва робкий, потом столбом.
Сергей вскакивал и уходил к бригадам. Штабеля горшочков на поддонах выносили на мороз. Через полчаса они промораживались, и тогда их складывали в штабеля. До весны. Немало. Два-три миллиона штук.
Столько вилков капусты должно получиться из них осенью. И еще немало огурцов и помидоров.
Чуть позже появлялся Хорошев. Здоровался, ходил по проходам, оценивал работу. И говорил Сергею:
– Идите и досыпайте. Или пойдем в столовую?
Ходили они в поселок не каждый день. Брали обеды на дом. Берегли время. Странное это было время, когда внутреннее напряжение людей достигло прямо-таки критического уровня, недовольство никто не высказывал, оно копилось в сердцах, могло достигнуть самых уродливых форм, тем более, что с продуктами становилось все труднее – и в поселках, и в лагерях. На приисках еженедельно «списывали» умерших; каторжный режим, доведенный до абсурда, делал «доходягами» даже молодых и крепких здоровьем людей. Конечно, все это сказывалось на работе.
Начальник Дальстроя Никишов по вечерам прочитывал в своем громадном кабинете сводки с приисков. Они приводили его в бешенство. Лицо комиссара госбезопасности, страшное и в спокойном состоянии, становилось отвратительным, пугающим. Люди, заставшие его в таком состоянии, рассказывали, что он уже не отдавал себе отчета в поведении: хватал и рвал в клочья бумаги со сводками, истерически орал, площадная брань сыпалась на помощников, на заместителей – генералов Корсакова, Комарова, Цареградского, Корша, Вышневецкого, Сперанского. Он требовал, грозил, стучал по столу кулаками. Это было бессилье загнанного в тупик современного рабовладельца. Оно имело свое продолжение только в новых репрессиях на приисках. Тут истерики повторялись уже на уровне полковников, майоров, капитанов. И эти чины НКВД ярились, кидались с кулаками на подчиненных, хотя и те, и другие, и третьи знали, что нельзя совместить такие понятия, как труд и голод, дикий режим и возможности человеческой натуры, страх и хоть какой-то рабочий настрой, как нельзя совместить свет и тьму, добро и зло, жизнь и смерть.
Шифровки в адрес Лубянки оставались без ответа. Молчание означало: выкручивайтесь, как хотите… Военное ведомство перехватывало из резервов Берия продовольствие и одежду для армии, которая готовилась к войне, уже неминучей. Тем более не хотел ничего знать о положении в лагерях Сталин. Ему достаточно было того, что все личные враги либо уже на том свете, либо на пороге туда…
«Там» или «На пороге», к великому сожалению нашей страны, были сотни тысяч советских людей, которые могли бы защищать свою страну от врага, создавать новое оружие на «закрытых» полигонах, выращивать на полях хлеб, поддерживать разгромленные деревни и станицы. Те самые «враги народа», которые в эти страшные предвоенные годы целыми бараками умирали на Колыме от голода, цинги или под пулями озлобленной охраны.
До начала войны оставалось совсем немного.
С газетных полос улыбчиво смотрели на читателя и обнимались Молотов и Гитлер…
Многозначительное фото.
На первый взгляд казалось, что после строгого приказа по Дальстрою об увеличении овощных продуктов на местах, для совхозов наступят светлые времена: будут и люди, и специалисты, и техника, и все, что требуется для доброго и необходимого дела. Только бы сумели развернуться специалисты в совхозах!
И тут же новый приказ, вызванный катастрофическим падением всех объемов работ на приисках. Под угрозой летняя промывка золота, поскольку не подготовлены за зиму карьеры над золотоносными горизонтами. Под угрозой карьера генералов и полковников, всего руководства Дальстроя. Им грозит не отставка, не понижение в звании, а нечто более страшное: на передовую в случае войны, под бомбы и пули. Чего не сделаешь, чтобы спасти собственную шкуру!
Уже чистят Магадан, снимают вольных и заключенных с заводов и порта, под метлу гонят из городских лагерей, заодно из приморских совхозов, с лесозаготовок, с трассы. И машины везут новеньких взамен погибших или погибающих в четырнадцати инвалидных лагерях.
А Сапатов, Хорошев и Морозов идут к заместителю начальника Западного управления с просьбой укрепить совхоз, чтобы выполнить задачу по удвоению овощной продукции. Такую программу, отпечатанную на машинке, они несут перед собой, как щит, поскольку не очень понимают, что творится в высших эшелонах дальстроевской власти.
Кораблин, с потемневшим от непрестанных забот лицом, мрачновато встречает посетителей и заранее знает, о чем будут просить. Молча показывает на стулья и спрашивает:
– Что у вас?
– Вот, – и Сапатов кладет перед Кораблиным три листа, где машинистка аккуратно перепечатала все, что требуется для совхоза.
Кораблин отодвигает листы от себя. И смотрит на посетителей, как суровый отец на детей.
– На днях, – говорит он, – из совхоза на Мальдяк будут отправлены все заключенные, кто способен ходить и подымать кайло или лопату. И механизаторы. И плотники. И специалисты. Как вы будете работать, не знаю, но все планы остаются. Управление потребует, чтобы продукция совхоза была не меньше плановой. Вот так. Не вскакивайте, Морозов. Не надо громких фраз. Золото дороже всего, это вы, надеюсь, понимаете? Или нужно докладывать Федору Вячеславовичу?
Сюда, через двери и приемную доносится заикающийся крик подполковника. Он разносит какого-то начальника прииска.
Хорошев понял, что пора уходить. Он встал. Поднялись и Сапатов с Морозовым.
– Возьмите ваши бумаги, – сказал Кораблин. – И не судите меня строго. Ситуация, сами понимаете…
Дверь распахнулась. Влетел красный от волнения Нагорнов с бумагой. Не поздоровался, оглядел мельком, спросил:
– Чего здесь, крестьяне? – и, не дожидаясь ответа, грубовато толкнул капитана Сапатова. – О, а я думаю, кого бы мне послать на место снятого сегодня начальника лагеря на «Ударнике»? Так вот, капитан, двадцать четыре часа. И прибыть на новое место. Приказ получишь завтра. Все! Есть вопросы?
Спускались по лестнице, Хорошев поддерживал Сапатова под руку. Капитана шатало. Чего-чего, а вот такого фортеля от судьбы он не ожидал. Надо ему было идти сюда?..
Но теперь плакаться поздно.
Через пять дней в совхозе появился отставной командир ВОХРы Седых. Первый раз в жизни он столкнулся с земледелием, о котором знал столько же, сколько об устройстве своих наручных часов. О чем прямо сказал агрономам и зоотехнику с механиком, когда знакомился. А бедняга Сапатов, выписав напоследок три литра спирта из совхозного склада, отправился на самый отстающий участок прииска «Ударник» способствовать увеличению добычи золота.
…Все перемешалось в Дальстрое, построенном на военный манер. Нехватка продуктов питания, перебои со снабжением через Охотское море еще никогда не обострялись до такой степени, как зимой 1940–1941 года. В эту зиму, как потом выяснилось, погибло на приисках несколько десятков тысяч заключенных, другие десятки тысяч были отправлены в инвалидные городки, которые уже сделались обширнейшими из всех лагерных гнезд. Полигоны на приисках обезлюдели, оставшиеся рабочие с трудом передвигались, по десять человек впрягались в сани с коробом и медленно тащили породу к отвалам.
В очередной раз, объехав прииски, подполковник Нагорнов, теперь уже не расстающийся с плеткой на правой руке, решил побывать в совхозе: единственная, хоть и небольшая, надежда на какой-то источник продуктов, в которых лекарство от цинги.
Он приехал на этот раз не один, а с начальником политотдела подполковником Сенатовым, красивым, холеным и подчеркнуто-чисто одетым человеком лет сорока. Политработник, кажется, впервые увидел теплицы, бригады возле парников, где готовили навоз для розжига, – в дыму костров, с запахами скотного двора, с визгом недалекой циркульной пилы. И наморщил нос. Понять здесь что-то доходчивое два офицера просто не могли. Единственное, что успел сказать Хорошев, была полупросьба:








