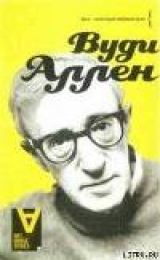
Текст книги "Интервью: Беседы со Стигом Бьоркманом"
Автор книги: Вуди Аллен
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Глава 3 «Бананы»
Ваш второй фильм, «Бананы», – фильм, в котором дается сатирическое освещение революционной ситуации в вымышленной латиноамериканской стране, – снимался в семьдесят первом году. В тот период подобные революции и в самом деле не были редкостью в Латинской Америке. Кроме того, шла война во Вьетнаме. Каких политических взглядов вы придерживались в то время? Изменились ли они с годами? Считаете ли вы себя политической фигурой?
Политической фигурой я себя не считаю. В общем и целом – я бы даже сказал, на девяносто девять процентов – я либеральный демократ. Либеральным демократом я был и тогда; я выступал против войны, против войны выступали все мои знакомые. Политика не представляет для меня особого интереса, однако я принимал участие в избирательных кампаниях. В шоу-бизнесе все так или иначе этим занимаются.
Кому вы оказывали поддержку?
Сначала, когда я был еще очень молод, то принимал участие в предвыборных кампаниях Эдлая Стивенсона, Джорджа Макгрегора, Юджина Маккарти. Ни одного из них в итоге так и не выбрали. Я участвовал в кампании Линдона Джонсона против Барри Голдуотера. Я поддерживал Джимми Картера и Майкла Дукакиса. А сейчас – Клинтона. В общем, я демократический либерал.
Я считал нужным задать этот вопрос, потому что в более поздних фильмах – например, в «Энни Холл» или в «Манхэттене» – нередко встречаются иронические ремарки в адрес левых интеллектуалов, то есть в адрес людей, к которым, я полагаю, вы сами себя относите.
И к которым я питаю глубокое уважение.
«Бананы» начинаются с иронических реплик о влиянии США на другие страны, в особенности на латиноамериканские. Единственный, кто смог пробиться сквозь огромную толпу, собравшуюся у здания парламента, – это человек, называющий себя представителем американского телевидения.
В Америке телевидение обладает неимоверной властью. Не знаю, как в других странах, но в США дела обстоят именно так. С нашей точки зрения, порядка в Латинской Америке никогда не было, правительства никогда не справлялись со своими задачами. По сравнению с латиноамериканскими странами государственная система США – это верх стабильности. Естественно, что эти постоянные перевороты воспринимались здесь как странность: политические лидеры и политические курсы менялись слишком уж часто.
Однако политику США по отношению к этим странам тоже можно охарактеризовать как грабительскую. Например, по отношению к таким странам, как Чили и Аргентина.
Несомненно. Американское давление было очень жестким, мы выступали как эксплуататоры.
Ближе к концу фильма Старый Свет тоже удостаивается иронических комментариев. Один из героев фильма цитирует Кьеркегора и говорит: «Скандинавы очень тонко чувствуют жизнь». И потом государственным языком новой республики Сан-Марко объявляется шведский. Ваше теплое отношение к Скандинавии, и в особенности к Швеции, несомненно, отразилось в этой картине.
Скандинавские страны мне всегда нравились – в первую очередь, конечно, Швеция, потому что с этой страной я познакомился через кинематограф. Но Скандинавия мне близка и без кинематографа: мне нравятся ландшафты, мне нравится погода. Там есть что-то такое, что всегда меня привлекало.
Вы, конечно же, знаете Стриндберга. Каких еще скандинавских авторов вы могли бы назвать?
Я знаю то, что знают все: живопись Эдварда Мунка, музыку Сибелиуса и Алана Петерсона, – эти имена всем известны. Можно сказать, что я знаю скандинавскую культуру – в той мере, в какой она здесь доступна. И из всего, что меня коснулось, лучшим, важнейшим, огромнейшим событием для меня были, конечно, фильмы Бергмана. Там показана жизнь – шведская жизнь, как она есть. Эти фильмы дают ключ к пониманию скандинавской культуры вообще. Со Стриндбергом так не получается. Сколько его ни читай, сколько его ни смотри – «Пляска смерти», например, постоянно где-то идет, – как бы хорошо его ни ставили, все равно он не дает того понимания, какое дает Бергман. У Бергмана дана Швеция – города, деревни, церкви, люди. Это совсем другое чувство.
«Бананы» – одна из самых стилизованных ваших картин. Как режиссер, чувствовали ли вы себя более уверенно, когда ставили ваш второй фильм?
Да, уверенности прибыло. Но до режиссерского чутья, которое появилось впоследствии, было еще очень далеко. В этом смысле большим прорывом для меня был фильм «Энни Холл». А до него – да, тоже была какая-то уверенность в себе, потому что один фильм у меня уже был и я знал, что нужно делать, чтобы избежать ошибок, которые, как мне казалось, были допущены в предыдущей картине. Когда я снимал «Хватай деньги и беги», я понял одну важную вещь: в комедии нужен темп, даже если ставишь сцену в максимально быстром темпе, при монтаже ее все равно хочется убыстрить. Это золотое правило. Есть замечательная история как раз на эту тему. Кто-то из режиссеров – мне кажется, Рене Клер – снимает сцену, и после третьего или пятого дубля она наконец складывается абсолютно безупречно. Тогда он говорит: «Сейчас все было хорошо, актеры все сделали правильно, получилось ровно то, что я хотел. Лучше не сделаешь. Теперь давайте сделаем еще один дубль – все то же самое, но только очень быстро». И он снимал этот быстрый дубль, и в фильм всегда шел именно он. Мне это очень понятно: даже если на площадке сцена кажется очень быстрой, она будто бы замедляется, когда смотришь ее на экране.
Мне кажется, темп – одна из важнейших характеристик ваших фильмов. Из множества других фильмов ваши сразу же выделяются темпом. Я в который раз это прочувствовал, когда пересматривал ваши картины, готовясь к этой встрече. Все они невероятно компактны, время сгущается у вас до предела, при этом большинство картин довольно короткие. «Зелиг», к примеру, идет всего час пятнадцать, большинство остальных фильмов умещаются на пяти бобинах, то есть идут не больше полутора часов. Но при всем при этом фильмы очень плотные по содержанию – что комедии, что драмы.
Это верно. Мне кажется, темп фильмов определяется естественным биологическим ритмом режиссеров. Чувственность у разных людей устроена по-разному. Я не стараюсь укорачивать свои фильмы, никогда не стремлюсь, чтобы они были какой-то определенной продолжительности, – я на телесном уровне чувствую, сколько они должны идти. Я много об этом думал, когда мы работали с Полом Мазурски на «Сценах в магазине». У него другой ритм, он медленнее. У Скорсезе ритм медленнее. Я не хочу сказать, что их фильмы не рассчитаны по времени или плохо скомпонованы, – в них просто другой темперамент.
Фильмы Скорсезе невероятно ритмичны – даже притом, что у него они все обычно укладываются в шесть-семь частей.
Да, но это отличные фильмы – со своим темпом, со своим дыханием. Скорсезе нужны длинные фильмы – по два часа, по два десять. Для меня час сорок уже много. После какого-то момента история утрачивает у меня движущую силу. В фильмах отражаются жизненный ритм и особенности метаболизма их создателей.
«Ханна и ее сестры», наверное, самый длинный ваш фильм. Он идет час сорок.
Да, и, насколько я помню, «Преступления и проступки» и «Мужья и жены» примерно той же длины. Когда в фильме сплетаются сразу несколько историй, он всегда получается длиннее. Фильмы, в которых линия одна, разворачиваются энергичнее и выходят короче. Но опять же вспомните фильмы братьев Маркс или У. К. Филдза – они еще короче моих.
Некоторые ваши картины – например, «Сексуальная комедия в летнюю ночь» – начинаются весьма неожиданно. Первая сцена этого фильма: Хосе Феррер приближается к камере, крупный план – ион тут же начинает говорить. Невероятно эффектное начало.
Как начать фильм – очень важный для меня вопрос. Возможно, это как-то связано с номерами, которые я делал для кабаре. Там было важно придумать что-то специальное для начала и для концовки, что-то очень театральное, что-то такое, что сразу же захватывает внимание. Поэтому, мне кажется, и фильмы мои тоже начинаются не совсем обычно, в начале всегда есть что-то особенное. Первый кадр очень для меня важен.
Абсолютно согласен. В большинстве случаев можно по первым трем-пяти минутам фильма понять, хороший он или нет, интересный или не очень.
Совершенно верно. Трех-пяти минут достаточно, чтобы понять, в хороших ты руках, воодушевил тебя режиссер или нет. Чистая правда.
И здесь совершенно неважно, насколько энергично это начало, – хорошее начало может быть и очень-очень медленным. В любом случае хорошее начало создает впечатление, что режиссер знает, как подвести зрителя к сюжету или как ввести в режиссерскую вселенную.
Да, ощущение должно возникать раньше, чем ты успел о нем подумать. Первые несколько минут, первые несколько сцен – ты еще ни о чем не думаешь, сам еще этого не понимаешь, но ты уже вовлечен в то, что происходит на экране. Очень важно этого добиться.
На каком этапе создается этот первоначальный заряд? Еще на уровне сценария?
У меня эти вещи определяются в сценарии. Когда я пишу сценарий, я почти всегда знаю, какого рода будет начало, какими примерно будут первые кадры. В деталях что-то может меняться после осмотра натуры или интерьеров, но в самом общем виде я знаю первые кадры заранее. Сейчас я иногда начинаю работать над сценарием и без этого образа, но я заставляю себя остановиться и попытаться придумать хорошее начало. Захватывающее.
Именно захватывающее – как первая сцена в «Алисе». Сцена с Миа Фэрроу и Джо Мантеньей в аквариуме сразу же захватывает, буквально втягивает в картину, потому что смысл этой сцены в начале фильма совершенно непонятен. И потом проходит довольно много времени, прежде чем Мантенья снова появляется на экране.
Да, этой сценой создается ощущение, что что-то не так, что эта женщина, Алиса, мечтает о другом. Что у нее на Душе лежит какой-то камень. И тогда смотреть весь этот вводный материал уже не так скучно: ты уже знаешь, что, несмотря на все богатство и благополучие, где-то что-то не так. Именно первые кадры вызывают этот интерес.
Этот кадр остается где-то в подкорке.
Именно.
Посмотрев все ваши фильмы в течение очень короткого промежутка времени, я заметил еще одну интересную вещь: ваше творчество очень последовательно. Мне прекрасно известно – как, впрочем, и вам, – что критики отмечали у вас множество самых разных влияний – от Бергмана и Феллини до Бастера Китона и других комиков. Однако, притом что фильмы у вас получаются очень и очень разные как по стилю, так и по содержанию, притом что вы снимаете то комедии, то драмы, – при всем при этом в ваших фильмах можно усмотреть определенное единство. И это единство того же свойства, что и то, которое мы находим в фильмах Франсуа Трюффо, тоже порой очень разных.
Мне всегда очень нравилось то, что делал Трюффо!
От фильма к фильму у него меняются темы и сюжеты. Он снимал очень личные, полубиографические картины – такова, например, серия фильмов об Антуане Дуанеле[4]4
Пять фильмов Трюффо с Жан-Пьером Лео в главной роли: «Четыреста ударов» (1959), «Антуан и Колетт» (к/и, 1962), «Украденные поцелуи» (1968), «Семейный очаг» (1970), «Ускользающая любовь» (1979).
[Закрыть]. Он снимал триллеры, комедии, романтические драмы. Он делал фильмы о детях – например, «Карманные деньги», фильм, который чем-то напоминает мне ваши «Дни радио». Суть, конечно, не в том, что ваши картины напоминают мне картины Трюффо, – суть в том, что между вами можно проследить параллели.
Которые сводятся к тому, что мы оба сняли много фильмов на разные темы?
Да, но это еще и вопрос чувства, впечатления. Все ваши фильмы производят какое-то особенное, узнаваемое впечатление; похожее впечатление остается, если посмотреть один за другим два-три фильма Трюффо. Как и вы, он был склонен к эксперименту, к смене стилей и тем.
Мне очень нравятся его картины. Это был прекрасный, замечательный режиссер. Некоторые его фильмы кажутся мне образцовыми. Что-то подобное уже говорилось – насколько я помню, Винсент Кэнби писал в «Нью-Йорк Таймс», что есть особый тип режиссеров: о чем бы такой режиссер ни снимал, сразу видно, что это его фильм. Это особый тип мировосприятия или особый тип чувствования, что-то такое, что просачивается сквозь любой материал, так что зритель сразу же ощущает: фильм снял именно этот режиссер. В моем случае важно еще и то, что я не только снимаю все эти фильмы, – я все их еще и пищу. Это своего рода единство почерка. Почерк нелегко поменять.
Возвращаясь к «Бананам»: здесь чувствуется уверенность, какой не было в вашем предыдущем фильме; вы с огромным удовольствием пародируете другие жанры и других режиссеров. Например, сцены в лагере сделаны по образцу мультфильмов. Любовные сцены у моря между вами и девушкой из повстанцев, Иоландой, сняты как мелодрама.
В «Бананах» меня заботило только одно: чтобы было смешно. Это было главное. Я уже снял «Хватай деньги и беги», и мне важно было не повторить ошибок, которые я сделал на первом фильме. Я хотел, чтобы все было смешно и чтобы нигде не провисал темп. Собственно, на решении этих задач я и сосредоточился. Так что если я И снимал какие-то сцены по-мультяшному или монтировал какие-то куски как в мультфильмах, то единственно с этой целью. В какой-то момент я понял, что некоторые МОИ картины действительно напоминают мультфильмы: никто не истекает кровью, никто не умирает по-настоящему. Из сцены в сцену герои просто бегают туда-сюда и шутят, шутят, шутят.
В мультфильмах тот же принцип построения сюжета: что-то происходит в начале, что-то в середине, что-то в конце, но при этом целые периоды в развитии сюжета выпускаются.
Да, выпускается все ненужное.
Все вышесказанное вполне приложимо к фарсовым лентам Фрэнка Ташлина или Джерри Льюиса, например. Они работали в одной и той же манере. Вам нравились работы Ташлина?
Нет. Я видел несколько его фильмов, но я не настолько хорошо их знаю, чтобы выносить взвешенное суждение.
Концовка «Бананов», сцена в суде, сильно напоминает фильмы братьев Маркс.
Действительно, напоминает. Забавно, как это вышло. В фильме нужен был какой-то кульминационный пункт, а у меня не было денег, чтобы снять традиционную погоню. Тогда я решил сделать суд. Это гораздо дешевле.
Получается, что концовка тоже традиционная, просто она из другой традиции.
Да.
В этой финальной сцене роль Дж. Эдгара Гувера[5]5
Джон Эдгар Гувер (1895–1972) – основатель (1924) и бессменный руководитель ФБР.
[Закрыть] исполняет черный актер. Это один из немногих случаев, когда в ваших фильмах задействованы негры. Ваших чернокожих персонажей легко пересчитать: в фильме «Любовь и смерть» есть сержант-негр, но там он был нужен, скорее, чтобы создать анахронизм; есть чернокожий персонаж в «Спящем», и есть чернокожая служанка в «Пурпурной розе Каира» – там есть фильм в фильме, где она и появляется. Помимо перечисленных эпизодов, вы нигде не задействовали чернокожих актеров. Почему?
Вы имеете в виду – в основных ролях или вообще?
Вообще. Даже среди статистов у вас очень мало чернокожих.
Со статистами возможны два варианта. Бывает, что мы просто звоним в соответствующее агентство и просим прислать людей – сто человек, или двадцать, или сколько нам нужно. В таких случаях присылают обычно смешанную группу. Если мы снимаем сцену на улице в Нью-Йорке, от агентства к нам обычно приходят латиноамериканцы, негры и белые – примерно в равных пропорциях. Но это исключительно фоновые вещи – для этих целей мы не приглашаем людей по одному. Что касается основных ролей, то я недостаточно хорошо знаю жизнь чернокожих американцев, чтобы писать о ней хотя бы с минимальной долей достоверности. На самом деле большинство моих персонажей принадлежат к одному-единственному типу: они все ньюйоркцы, более или менее состоятельные, все они люди образованные, все невротики. Я пишу почти исключительно о таких людях, потому что только их я хорошо знаю. О других типах я знаю слишком мало. К примеру, я никогда не писал об ирландских или итальянских семьях, потому что не чувствую себя знатоком ирландской или итальянской жизни.
Я обратил внимание на этот аспект еще и потому, что в последнее десятилетие в голливудских фильмах чернокожим актерам дают все больше и больше ролей. В особенности это касается картин из жизни полицейских: чаще всего там действуют напарники, один из которых белый, а другой – черный, и черному обычно достается классическое амплуа закадычного друга. Это уже своего рода клише.
Да, в фильмах и вообще в киноиндустрии все больше и больше негров. Но, например, когда я писал «Ханну и ее сестер», я писал о среде, которую очень хорошо знаю. В этом фильме есть чернокожая служанка, но я сделал ее чернокожей только потому, что в девяноста процентах таких семей служанки были чернокожими. Я получил массу гневных писем от афроамериканцев с обвинениями в том, что у меня в фильмах почти нет чернокожих, а если они и появляются, то обязательно в качестве прислуги. Но я ни о чем таком не думаю, когда пишу сценарий. В политической жизни – какой бы она у меня ни была – я всегда поддерживаю кандидатов, ратующих за права чернокожих. Я участвовал в марше Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне. Но, когда я пишу, я не верю ни в равные возможности, ни в предоставление преимущественных прав. В рамках сценария такие вещи не делаются. Я пытаюсь воссоздать определенную атмосферу, и мне ничего не остается, как признать, что в большинстве семей в Верхнем Ист-Сайде была чернокожая прислуга. Поэтому и в фильме у меня чернокожая служанка. В ответ я получил массу критики. Все, что я пытаюсь делать, – это дать описание реальности в том виде, в каком я ее воспринимаю, передать ее во всей подлинности. То же самое происходит, когда я описываю еврейскую семью: за образец я беру тот тип семьи, в которой я вырос, и даю ее как она есть, со всеми ее лестными и нелестными характеристиками. И за это меня тоже со всех сторон критиковали. Разнообразные еврейские сообщества считают, что я слишком резок, что я очерняю, что мой подход чрезмерно критичен. Это все очень чувствительные материи. Но я всегда пытаюсь сделать одну-единственную вещь: дать сцену или ситуацию во всей ее подлинности.
Глава 4 «Сыграй это снова, Сэм»
Затем вы написали пьесу «Сыграй это снова, Сэм» и участвовали в постановке в качестве актера. Насколько я знаю, ни до, ни после вы никогда не играли в пьесах. Какие у вас были впечатления?
Мне все очень нравилось. Мне было очень приятно работать с Дайан Китон и Тони Робертсом, я испытывал к ним симпатию. Пьеса пользовалась успехом. Режиссер театральной постановки Джо Харди оказался на высоте. После премьеры нам практически ничего не надо было делать. Вряд ли можно найти более простую работу. Весь день остается в твоем полном распоряжении – делай что хочешь: пиши, отдыхай, расслабляйся, – только к восьми вечера надо подойти в театр. Обычно мы шли пешком вместе с Дайан. Я жил неподалеку, и мы совершали приятную пешую прогулку по Бродвею. Потом заходишь в театр. Никакого волнения. Пьеса уже идет. Ты на сцене со своими друзьями. Поднимается занавес. Ты играешь. Все это длится часа полтора. Через два часа ты уже обедаешь с друзьями в ресторане. Это самая легкая работа в мире! Так что я испытывал огромное удовольствие.
Вас не смущало, что вы как актер были вынуждены подчиняться указаниям режиссера, будучи при этом автором пьесы?
Нет-нет. Театральная режиссура никогда не входила в сферу моих амбиций, так что меня это совершенно не заботило. Как режиссер Джо Харди меня абсолютно устраивал. В работе под руководством режиссера есть своя прелесть.
Позже, когда по этой пьесе решили снять фильм, его режиссером стал Херберт Росс. У вас не было желания поставить этот фильм самостоятельно?
Нет. Мне не хотелось делать из пьесы фильм. Но когда мои агенты продали права на экранизацию, я обрадовался. На момент продажи я был недостаточно известен, чтобы играть в фильме, до звезды мне было еще далеко. Они приглашали других актеров, но все отказывались. В конце концов я приобрел некоторую известность как автор собственных фильмов, и они решили рискнуть и сделать фильм с моим участием. В итоге получился фильм с тем же актерским составом, что был в театральной постановке. Я был очень доволен, что режиссером назначили Херба Росса. У меня не было желания снимать фильм по пьесе – мне хотелось снимать фильмы. Как сказал много лет назад Теннесси Уильяме, завершив работу, писатель идет дальше. Досадно, что нужно продолжать что-то делать, осуществлять постановку. Было бы замечательно, если было бы можно написать вещь и просто положить ее в ящик письменного стола. У меня были похожие ощущения. Я написал пьесу, я шагнул дальше, она стала для меня далеким прошлым. Мне не хотелось тратить целый год на съемки фильма по этой пьесе. Я считал, что в данном случае нужно найти человека со свежим взглядом. Для Херба Росса этот фильм был абсолютно новым начинанием, ему просто приятнее было этим заниматься.
Кино снималось спустя четыре года после премьеры на Бродвее.
Это тоже сыграло свою роль. Я воспринимал все связанное с пьесой как безнадежно устаревшее.
«Сыграй это снова, Сэм» – пьеса о фантазиях и грезах, занимающих огромное место в нашей жизни. Насколько, по-вашему, важна здесь роль кинематографа? Герой пьесы, как и герой фильма, пытается претворить кинореальность и кинематографические ситуации в собственной жизни.
Кто-то сказал обо мне, что если в моих фильмах есть хоть одна большая тема, то это как раз тема расхождения мечты и реальности. Она очень часто всплывает в моих картинах. Я думаю, все это сводится к тому, что я ненавижу реальность. А реальность, к великому моему сожалению, пока единственное место, где на обед дают добрую порцию стейка. Вероятно, это у меня из детства – я постоянно сбегал в кино. Я был довольно впечатлительным мальчиком и как раз застал так называемый золотой век кинематографа, когда выходили один за другим совершенно замечательные фильмы. Я помню, как вышли на экраны «Касабланка» и «Янки Дудл Денди» – все эти американские картины, фильмы Престона Стерджеса, фильмы Фрэнка Капры… Я погружался в них с головой: домашняя бедность, проблемы в семье и в школе – все оставлялось за дверью; ты заходишь в кинотеатр, и у них там пентхаусы, белые телефоны, все женщины прекрасны, мужчины всегда удачно острят, кругом сплошное веселье, при этом все заканчивается хорошо, герои – всегда настоящие герои, словом, мир прекрасный и восхитительный. Влияние кинематографа было сокрушительным, все это произвело на меня невероятное впечатление. Я знаю множество людей моего возраста, которым так и не удалось это впечатление стряхнуть, которым оно создало множество проблем в реальной жизни, потому что они до сих пор – а им уже за пятьдесят и за шестьдесят – не могут понять, почему в жизни ничего не получается как в кино, почему все, на чем они выросли, во что они верили, о чем мечтали и что воспринимали как реальность, не осуществилось, почему реальность оказалась куда жестче и безобразнее. В те времена ты сидел в кинотеатре и думал, что вот она, реальность. Даже в голову не могло прийти, что так бывает только в кино. Наоборот, ты говорил себе: да, я живу по-другому. Я живу в Бруклине, живу бедно, но множество людей в мире живут в таких вот домах, занимаются верховой ездой, встречают самых красивых женщин на свете и ночь напролет пьют коктейли. Это просто другая жизнь. Потом ты читаешь газеты, и все это подтверждается: да, где-то другая жизнь, есть люди, которые счастливы, как в кино. Это настолько сокрушительная вещь, что я так и не смог ее преодолеть, она то и дело всплывает в моих картинах. Желание контролировать реальность, написать для нее сценарий, управлять событиями, чтобы все вышло именно так, как ты хочешь. Ведь что делает писатель или сценарист? Он создает мир, в котором ему хочется жить. Он любит людей, которых придумывает, ему нравится, как они одеваются, нравится, где они живут, нравится их манера речи – появляется шанс пожить в этом мире хотя бы несколько месяцев. В моих картинах всегда присутствует это всепроникающее чувство, что идеализированная жизнь – или фантазия – великолепна, тогда как реальность – неприятна. В «Нью-Йорк тайме» была статья о Сьюзен Зонтаг и ее романе «Любовница вулкана».[6]6
Также выходил по-русски как «Поклонник вулканов» и «Поклонник Везувия».
[Закрыть] Среди прочего она там рассказывает, что, когда отнесла книгу издателю, она вернулась домой и поняла, что лишилась своих персонажей.
Таким образом, вы создаете персонажей и создаете для них отдельные миры. Но их жизнь заканчивается вместе с последней сценой фильма, они уходят вместе с последним кадром. Вы когда-нибудь задумывались, как они живут дальше? У вас не было желания сделать сиквел к какому-либо из ваших фильмов, чтобы рассказать что-то еще об одном или нескольких персонажах в отдельной картине?
Был случай, когда мне показалось, что было бы интересно показать Энни Холл и персонажа, которого я играю, много лет спустя. Я не собираюсь снимать такой фильм, но я об этом думал. Мы с Дайан могли бы встретиться сейчас, спустя двадцать лет, и поскольку мы расстались, было бы довольно интересно посмотреть, что у каждого из нас в жизни произошло. Но от всего этого за версту несет паразитизмом, и мне бы не хотелось в этот паразитизм впадать. Все эти бесконечные сиквелы меня раздражают. Не думаю, что Фрэнсису Копполе надо было снимать «Крестный отец»-3 только потому, что «Крестный отец»-2 вышел неплохо. Сиквел делается из стремления получить дополнительные деньги, и мне такое стремление несимпатично.
Ваше желание проследить дальнейшую судьбу Энни Холл и Элеи очень понятно. Еще интересно было бы посмотреть, что произойдет дальше с Ханной и ее сестрами.
Да, и я постоянно задаю себе этот вопрос, о каких бы персонажах ни шла речь. Этого недостаточно, чтобы снимать о них продолжение, но я всегда спрашиваю себя: чем все это кончится, что случится с этими людьми дальше? С каким впечатлением я оставляю зрителей? Об этом я всегда думаю.
Насколько я понимаю, вы познакомились с Дайан Китон во время работы над театральной постановкой пьесы «Сыграй это снова, Сэм».
Да.
Повлияла ли эта встреча на вашу дальнейшую жизнь и, в частности, на ваше творчество?
Конечно, Дайан на меня повлияла. Во-первых, у нее безошибочные инстинкты. Ей всегда везет. Она очень талантливый человек. Тогда она была очень красивой. Она умела петь, танцевать, неплохо рисовала, писала красками, делала хорошие фотографии. И кроме всего прочего, была актрисой. То есть талантов было даже слишком. И главное, у нее все это хорошо получалось. Она одевалась невероятно эксцентрично. Плюс замечательное чувство юмора. Абсолютная независимость в суждениях. Что бы она ни смотрела – хоть Шекспира, – если ей что-то не нравилось, она никогда этого не скрыв&1а и при этом могла четко объяснить, что именно ее не устраивает. Никаких ложных претензий, никаких предрассудков. Кристальная ясность. И очень хороший вкус. За все те годы, что мы были вместе, мы не сошлись только по одному пункту – поп-музыка, музыка шестидесятых—семидесятых. Ей нравилась, нравится эта музыка, а я ее никогда не выносил. По всем прочим вопросам у нас почти не бывало разногласий. Я помню, как пригласил Дайан посмотреть черновой монтаж «Хватай деньги и беги». Мы сидели в крошечной проекционной. Она сказала: «Знаешь, а фильм ничего. Смешной. Очень смешной фильм». В тот момент, в ту самую секунду я почему-то понял, что публика фильм примет. Ее одобрение очень много для меня значило: было такое чувство, что у нее с миром более глубокие отношения, чем у меня. И это чувство не покидало меня все те годы, пока мы встречались, пока жили вместе. И мы до сего дня остались большими друзьями. Я всегда полагаюсь на ее суждения. Самый важный просмотр любого из моих фильмов – это когда Дайан в городе и мне удается ее затащить.
То есть вы показываете ей еще не законченный фильм? Черновой монтаж?
Если она в городе, я приглашаю ее на просмотр до того, как фильм закончен. Но она теперь живет в Калифорнии, и у меня не всегда есть такая возможность. Но ее слова в любом случае очень много для меня значат. Когда ей что-то нравится или не нравится, это обязательно отражается на мне. Множество вещей я впервые увидел ее глазами. У нее всегда был безупречный визуальный вкус. Музыкальный вкус, вкус к чисто интеллектуальным, умственным вещам – и в дополнение к этому еще и тонкое чувство визуального. Я на многое смотрел ее глазами, и это обогатило и расширило мое понимание. Вероятно, ее влияние было самым значительным в моей жизни. Я тоже очень повлиял на нее. Хотя бы тем, что я родился в Нью-Йорке, был очень городским человеком. Мне нравилась жизнь нью-йоркских улиц, я любил баскетбол, джаз, много читал. Она родилась в Калифорнии, ее больше трогали зрительные образы, фотография, живопись, цвет. У нее было свое понимание кино, у меня – свое. Все эти годы между нами продолжался здоровый обмен. Я познакомил ее со многими вещами. Я показывал ей фильмы, которых она не видела и которые мне казались очень важными, – от фильмов Бергмана до… Помню, сначала я показал ей «Шейн», фильм Джорджа Стивенса, ей очень понравилось, хотя я не ожидал, что ей может понравиться вестерн. Совсем недавно, месяц назад, она приезжала в Нью-Йорк, и я показал ей фильм Билли Уайлдера, который она никогда не видела, – «Туз в рукаве». Это один из моих любимых картин Уайлдера. Абсолютно гениальный фильм. В Штатах у него не было особого успеха, хотя фильм замечательный. Я показал его Дайан, и он ее очень тронул. А на следующий день мы посмотрели – оба впервые в жизни – «Чем больше, тем веселее» Джорджа Стивенса. Там играют Чарльз Кобурн, Джин Артур и Джоэл Маккри. Отличная комедия. Так что на протяжении всех этих лет между нами продолжается творческое взаимодействие. Как я уже сказал, если фильм, который я снял, ей понравился, я понимаю, что достиг своей цели, и мне совершенно безразлично, нравится ли он всем остальным. Тогда мне все равно, что думают критики, как реагирует публика, что вообще с фильмом происходит. Теперь вы, конечно, спросите, было ли такое, чтобы мой фильм ей не понравился. Было. Дайан старается быть вежливой, я всегда понимаю, что она на самом деле думает, по степени ее энтузиазма или по тому, что она говорит. Я очень ценю ее мнение.
Насколько я понимаю, Дайан Китон сама хочет стать режиссером? Она сняла несколько короткометражек и сделала несколько эпизодов «Теин Пике».
Думаю, у нее будет возможность снять собственный фильм. И она будет очень хорошим режиссером. Сначала будет, конечно, нервничать, потому что она очень неуверенный в себе и чрезвычайно скромный человек. Но при всей ее неуверенности и скромности у нее огромный талант. Это очень забавно. Она умеет работать и будет замечательным режиссером, если ей дадут такую возможность.
Вы видели ее картину «Небеса»?
Видел. Недавно она сняла очень интересный телефильм «Дикий цветок». Она абсолютно замечательный человек.







