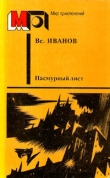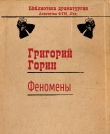Текст книги "Семья и школа"
Автор книги: Влас Дорошевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Призрак
Это было года два тому назад в Петербурге.
В дверь моего номера постучали.
– Войдите!
Из передней раздался голос:
– Позволите?
– Да входите же!
На пороге появилась фигура.
Вероятно, какой-нибудь мастеровой без места.
Обтрёпанный пиджак. Рыжие сапоги в заплатах. Загорелое лицо. Вылинявшая рубаха. Скомканный порыжевший картуз в руках.
Он стоял и кланялся.
– Что вам нужно? Говорите, голубчик, скорей! Я занят!
Я полез в карман за кошельком.
– В чём дело?
Он поклонился.
– Позвольте представиться. Народный учитель…
Мне стало страшно совестно. Я растерялся.
Мы стояли друг перед другом растерянные, оба красные.
– Ради Бога, простите! Садитесь пожалуйста! Чем могу быть полезен?
«Вот он, сеятель на ниве просвещения, пришёл ко мне, – как я его принял?!»
«Сеятель» сел, смущённо комкая в руках старый картуз.
– Я пришёл просить у вас помощи… Приехал в Петербург хлопотать… Ходов никаких… Знакомые указали на вас… У вас, вероятно, много знакомств… Не окажете ли мне протекцию…
– Как раз по вашему ведомству ни одного знакомства!
– Да мне не по своему… Мне бы место сидельца винной лавки!
Час от часу не легче.
Было гадко. «Сеятель» – и в питейное!
– Винной лавки?
– Винной лавки-с!
– Из народной школы?!
По губам его мелькнула улыбка, жалкая, настоящая страдальческая улыбка.
Так, когда гроза и буря пройдут, на небе мелькает ещё слабая зарница,
Буря была уже, тяжёлая буря, в этой душе, и теперь зарницей мелькнула страдальческая улыбка.
Мне стало жаль его.
– Простите меня… Но как же так?
Он поднял на меня глаза, и в этих глазах было много скорби и долгого, молчаливого страдания.
– Меня призрак замучил.
– Призрак?
– У каждого человека есть призрак, который его мучит. У одного – слава, у другого – богатство. У вас, вероятно, цензура. У нашего брата, народного учителя, тоже есть свой призрак.
– Я знаю. Нужда!
Он пожал плечами и оглядел свой костюм.
– Когда сапоги в заплатах, пиджак с плеч валится, рубаха по целому расползается, – какой же нужда призрак? Это самая реальная действительность, а не призрак.
Мне хотелось показать, что я понимаю, сочувствую.
– Тоска? Я вижу положение интеллигента, заброшенного в глушь деревни. Всё, чем красна наша жизнь, – искусство, литература, кружок людей, с которыми можно перекинуться словом, – какая-то сказка. Ни собеседника ни книги.
– Какая же книга?
Он грустно улыбнулся и пожал плечами.
– Захочется почитать, возьмёшь учебник, перечитаешь. Всё-таки печатные буквы! Какие у нас могут быть книги?! Нет, и не тоска. От тоски есть дело. Отдайся делу до самоотвержения, устань. Нет, другой призрак меня замучил!
– Какой же? Что же?
Становилось жутко: уж не сумасшедший ли?
А он смотрел глазами, в которых, в глубине, светился ужас, словно он видел перед собой и сейчас этот призрак.
– Что призрак?
– У вас были когда-нибудь дети? – спросил он тихо.
– Нет.
– Тогда объяснить вам это трудно. Это надо самому почувствовать. Когда ваша жена начинает ходить припухлая, и её прихоти и капризы наполняют вас и радостью и тревогой за неё. Это два уже существа ходят. И оба вы любите всей душой. И вы любите её вдвойне. Два самых дорогих существа, которые слиты в одно.
Его красное, загорелое, обветрившее лицо стало мягким и нежным.
– Это очень радостные минуты.
– Какой же призрак?
– В эти-то радостные минуты мне и явился призрак, Я совсем уж было заснул мёртвым сном, за день устал страшно. Мысли стали уж так приятно в голове путаться, как всегда перед сном бывает. Как вдруг среди красных, синих, золотистых кругов, искр и узоров появился ребёнок. Не знаю, мальчик, девочка, лица не рассмотрел, – но по чувству, которое охватило меня, я сразу понял, что это он, мой будущий ребёнок. Остановился передо мной и прозвенел детским голоском:
«Папа, а на что ты меня на свет произвёл?»
– И весь сон у меня вдруг как рукой сняло. Вскочил на постели. Сижу. Глаза таращу. А ребёнок передо мною стоит и молчит. Словно ответа ждёт. Галлюцинация-с? Бред? А жена рядом спит, ровное, глубокое дыхание её слышится. И в этом глубоком дыхании я слышу два дыхания. Какой же это бред? Живая действительность!
Учитель достал красный клетчатый платок и вытер им вспотевшее лицо.
От того, что он говорил, беднягу, видимо, бросало то в холод, то в жар.
– Во второй раз призрак явился мне на деревне. Я деревню люблю, в учителя пошёл по влечению, но ходить по деревне всегда тяжело. Это всё равно, что идти по вспаханному и только что засеянному полю. Тут вырастет, если не побьёт градом. Но пока-то ещё пахнет только разрытой землёй, могилой. Не то, знаете, нашему брату обидно, что всякий себя над тобою, народным учителем, начальством считает и власть показывает, От этого улыбкой оборониться можно. Вспомнишь «Ревизора»: «беда служить по учёной части, всякий вмешивается, всякий показывает, что он тоже умный человек». И посмеёшься. То тяжело, что эти самые, которым служишь, которым жизнь отдаёшь, по темноте своей тебя если не за врага, то за лишнего человека считают. «Сидит барин на нашей шее, На наш счёт кормится. Только деньги наши переводит. Дармоед-барин, как бы на мужиков счёт прожить, только о том и думает». Вот почему тяжело ходить по деревне. Иду я, задумался. Гляжу, – и затрясся весь, чуть не закричал от ужаса, Под окнами избы ходит ребёнок. Мой ребёнок. Я сразу его узнал, потому что сердце. захолонуло. Ходит от окна к окну, кланяется и просит кусочков. Слезливым голосом вопит: «Подайте, Христа ради, сироте! Тятька помер, мамка больная лежит! Подайте голодненькому».
– Послушайте! Это же, действительно, галлюцинация! Вам бы с доктором…
Учитель задрожал и испуганно замахал руками.
– Не говорите про доктора! Не говорите!
Он наклонился ко мне и почти шёпотом, словно как для того, чтоб самому не слышать, сказал:
– Боюсь. Грудью я слаб. Вдруг пойду к доктору, а он скажет… Вы знаете, чахотка ведь так «учительской болезнью» и называется. Прежде-то я, знаете, ничего. А вот как стала жена с торжественным и радостным лицом ходить, – я закашляюсь, меня всего в холодный пот бросит, и зубы стучат. Я закашляюсь, а он передо мной и станет. Он. Призрак. Ребёнок-то мой. Глядит на меня. Я теперь уж и глаза его вижу, – лица не рассмотрю, а глаза вижу, материнские. Глаза испуганные, широко смотрят. И говорит:
«На кого ж ты меня, папа, оставишь?»
– И у меня от этого «папа» всё сердце перевернётся. И мило на душе невероятно и страшно. А то ещё жена подойдёт, когда закашляюсь, воды подаст, по голове меня погладит. «Ты бы, папа, так себя не утруждал…» Она меня с тех пор, как в положеньи, «папой» зовёт. И чудится мне, что в её голосе он, ребёнок, говорит. Призрак! Она ведь теперь за двоих думает. Это не только её, это и его мысли. Страшно мне, страшно кашлять!
И как назло, он закашлялся. Кашлял долго, мучительно, затяжным кашлем.
Потом посмотрел на платок и вздохнул облегчённо:
– Нет, крови всё ещё нет. Хотя белые бы платки надо было завести. На белом виднее… А красное на красном…
Он всё-таки повеселел.
– Предводитель у нас уездный. Жизнерадостный такой, дай Бог ему. У нас его по уезду «петухом» зовут. Но хороший такой петушок. И «ку-ка-ре-ку» хорошее кричит, радостное. Предутреннее!
И при мысли о «петушке-предводителе» добрая улыбка заиграла на лице у учителя.
– За нашего брата петух на кого угодно наскочит, и каждую минуту готов разодраться. Очень славный петушок. У него имение огромнейшее. Как кто в гости приедет, – он сейчас великолепную тройку или четверик. Бубенчики… И по школам повезёт. Мы его слабость. И когда шампанское подают, он никогда не пропустит, чтоб за наше здоровье тоста не выпить. Очень хороший петушок! Приезжает он как-то ко мне. И с ним гость из Петербурга. Как назвал имя, я глаза вытаращил и вдруг себя меньше песчинки почувствовал, Писатель…
Учитель назвал имя писателя, действительно, громкое, «много говорящее уму и сердцу».
– Осанистый такой старик. Грива львиная. И во всей голове что-то львиное чуется. Борода надвое. В пенсне. Глаза ясные и глубокие. Ума в них, ума! И всё лицо и радушное и серьёзное. Показал я им школу. Школа у меня, – это могу сказать с уверенностью, – ведётся хорошо. Как народную школу показать можно. Предводитель около писателя в восторге ходит. «Вот он один-с из невидных „пахарей“, вот один из сеятелей-то на ниве народной. Какое делище незаметно делает! По убеждению в народные учителя пошёл! Как школу ведёт!» Знаменитый писатель вопросы предлагает. О всём спрашивает. И что ни вопрос, – так глубоко, метко, умно. Видно, что человек любит дело и понимает. Вот если бы наши инспектора так спрашивали! Хожу я с ними, ног под собой не чувствую. Плакать от радости хочется. Сжал мне на прощанье писатель руку, без слов, так сжал, словно всю душу в этом рукопожатье передать хотел. Сел в коляску. Зазвенели бубенчики. Только пыль столбом. А я стою, слёзы на глазах. Какой чести удостоился! Самый передовой публицист, «властитель дум», и учитель, на статьях которого воспитывался, братски руку пожал, товарищем признал. От радости, от счастья дрожу. Одна такая минута за всё вознаграждает. А из пыли-то, поднятой предводительской рессорной коляской, перед моими глазами «он» вырастает. Призрак! Ребёнок-то мой! Широко открыл глаза, на меня смотрит.
«Что ты, папа, себя для народа в жертву принёс, это – прекрасно! – звенит детским голоском, – Но меня-то за что же в жертву приносишь?»
– Задрожал я в ужасе. Так Авраам, вероятно, дрожал, трепетал всем телом, когда ножом над Исааком замахнулся. И в ужасе оглянулся я кругом: где же ангел, чтоб меня за руку схватить и «остановить подъятую руку»?
И дрожавший в страхе, словно всё это заклание происходило перед ним, учитель заплакал:
– Простите… Но не могу я… Не могу… Призрак меня замучил… И избавиться от него не могу. И не желаю! Как же я от него избавляться буду, когда он самое дорогое для меня в жизни? А замучил он меня, замучил. Я в школе перед ребятишками стою. Весело это! Весело смотреть, как в их глазёнках просыпается мысль. Весело, когда хор звонких голосов за тобой урок повторяет. Словно хор маленьких колоколов пасхальную заутреню звонит. Весело, радостно! И вдруг между мной и ими становится мой ребёнок.
«Им ты служишь, папа! А мне, а своему собственному сыну, что ты готовишь?»
«Призрак! Не могу я быть учителем. Призрак плачет. Не учитель я больше… Не учитель»…
И он весь дёргался, произнося эти слова.
И чувствовал я, что это были страшные для него слова,
Мы долго сидели молча.
Он сказал, наконец, глухо, тяжело, как говорится отреченье от любимого.
– Помогите. Устройте мне место сидельца в винной лавке.
Он весь съёжился, словно его придавило, сгорбился, голова ушла в плечи.
Он добавил:
– Если я так же усердно поведу лавку, как вёл народную школу, – моя лавка будет первой винной лавкой кругом. Я буду получать награды и повышения. И меня скоро сделают сидельцем в лавке первого разряда.
Через месяц
«Облетели цветы, догорели огни».
Среди писем, полученных на моё имя в редакции, есть одно, которому не лежится ни в кармане ни в портфеле. Оно просится в печать.
М. Г.[15]15
Милостивый государь.
[Закрыть]
Прежде всего позвольте представиться.
Я – герой.
Я тот самый «великий маленький человек», или «маленький великий человек», о котором, когда Вы писали, слёзы умиления капали с Вашего пера.
Словом, я народный учитель.
Заплачьте:
– Какое святое слово!
Впрочем, вы, вероятно, думаете с тоскою:
– А! Народный учитель!.. Вероятно, опять жалоба!
Нет, милостивый государь, мне жаловаться не на что. Своим положением я могу только хвастаться.
Я старый учитель. Служу делу более 20-ти лет. У меня – семь человек детей. Старшая дочь второй год учительствует. Вторая через несколько месяцев кончает семинарию и тоже начнёт учительствовать.
Мне остаётся поднять на ноги и вывести в люди остальных пятерых.
Чтоб сделать это на учительское жалованье, я не пью. Со дня рождения третьего ребёнка бросил курить. Сам обшиваю всю семью. Выучился шить. Выучился тачать сапоги. И сам шью обувь на всё семейство.
Я из крестьян. Поступив на службу в одно из сёл этой губернии, я приписался к местному обществу. Но новые односельчане воспользовались этим, чтобы не выдавать мне квартирных.
– Раз здешний мужик, какие ему квартирные?
Я перевёлся в другое село, и вот живу. Получаю 250 рублей в год жалованья, 50 квартирных, за 4 пятилетия по 50 рублей за каждое в год добавочных. Итого – 500 рублей.
Для чиновника, записывающего входящие и исходящие, для репортёра, пишущего о раздавленных собаках, для актёра, докладывающего «карета в барыне и гневаться изволит», было бы «ужас, как мало». Для народного учителя – за глаза довольно, и тысячи моих коллег, прочитав эти строки, сказали бы:
– Вот счастливец!
Итак, жаловаться мне не на что. Я берусь за перо просто для того, чтоб описать вам, как я вернулся с учительского съезда.
Первым долгом я заехал в нашем уездном городе к инспектору, до которого у меня было дело.
Артемий Филиппович всегда встречал меня с недовольным лицом:
– Чего, мол, ещё притащился! Чего ещё надо?
На этот раз он, как увидел меня, так весь и просиял. Улыбка во всё лицо, руки потирает:
– Ну, что? Побаловались? А? Отвели душу? А?
Молчу
– Так как же? Нас, инспекторов, по боку надо? А? Упразднить? А?
Молчу.
– Делу мешаем? А? Тормозим? А?
Всё молчу.
– Бюрократическое отношение вносим? А? Самовластвуем? А?
Всё молчу, всё молчу.
– Поругали нас на парламенте-то на своём? Смотрю, – у него на столе Московские Ведомости.
Поиздевавшись ещё таким образом, отпустил.
Приезжаю вечером к себе в село, наутро староста приходит:
– А мир с тебя, Василий Кузьмич, решил с весны за двух коров, за выпас, 10 рублёв положить!
– За что, про что?
– А так, мужички говорят: «жалованье получает, водки он не пьёт! С его можно».
Основание!
– Куды ему? – говорят. – Он, ишь, и сапоги сам шьёт!
И дёрнул меня чёрт горб гнуть, над сапогами сидеть! Вот тебе и экономия!
Я должен в свободное время, согнувшись, за сапогами сидеть, чтоб им мои 10 рублей на пропой пошли!
– Вы, – староста говорит, – в Москву ездили у начальства жалованья выпрашивать, чтоб больше было. Нам же тяжёльше.
Слухом земля полнится.
И откуда только у них слухи берутся!
В полдень зашёл батюшка.
Расспрашивал о «светских удовольствиях». Но видно было, что другой вопрос у него на уме.
Наконец, только спросил:
– И о церковнослужителях тоже отзывались с порицанием?
– Начитаны, – говорит, – мы в газетах. Начитаны. Хотя и вскользь, но есть. Не похвально! Срамить-с на всю Русь? Я так думаю, что от высшего начальства… вас за это по головке не очень погладят!
– Ну, – говорю, – батюшка, я, во-первых, лично за себя никому отчёта давать не обязан: что я говорил, чего я не говорил, с чем соглашался, с чем не соглашался.
– Нет, нет! Я не говорю. Я не говорю,
– А во-вторых, относительно съезда и начальства, наш председатель князь Долгоруков, прямо заявил, что никому за высказанные мнения ничего не может быть!
– Ну, коли так, значит так. Ему, конечно, лучше знать! А только мы, на местах, всё-таки знать будем, с кем дело имеем. Да-с!
И ушёл, едва попрощавшись, рассерженный.
Перед вечером заходил писарь.
Он у нас человек образованный. Свободное время – за книжкой.
Интересовался:
– А не видали ли вы в столице, Василь Кузьмич, сочинителя Максима Горького?
– Нет, не видал.
– Жаль, очень жаль. Интересно было бы знать, действительно ли так волосат, как пишут? И правда ли, будто ему рупь за каждую строку платят? Строку написал – рупь. Ещё строку – ещё рупь.
– Не знаю.
Перешли на съезд.
– Разъясните, говорит, мне. В толк взять не могу. Что такое, например, ваш съезд?
– Вот, – говорю, – собрались с разрешения высшего начальства, выясняли наши нужды, высказывали пожелания,
– Тэк-с! А начальство?
– А вот эти пожелания к нему и пойдут!
– Тэк-с! И оно как вы порешили, так тому и быть?
– Ну, это нет, – говорю. – Вы, Алексей Степаныч, человек развитой. Вы поймёте. Наш съезд имел больше не практическое, а моральное, нравственное, общественное значение.
– Тэк-с! Ну, а пожелание-то? Пожелание?
– Пожелания выслушаны. Но, от вас не утаю, говорят, что вряд ли будут исполнены. Примеры бывали.
– Тэк-с!
И смеётся.
– Это, – говорит, – в роде как я господина Гоголя сочинение читал. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там тоже Иван Иванович, как нищую встретит, беспременно расспросит. «А тебе очень, небось, кушать хочется?» – «Очень, панычу!» – «Ты, может, хлебца бы теперь скушала?» – «Да уж там чего милость будет. И хлебца бы скушала». – «Да тебе, может, и мясца бы хотелось?» – «Да оно и мясца бы, если милость ваша такая, – хорошо бы!» – «Скажи пожалуйста! Ну, что ж ты стоишь? Проходи, проходи! Ведь я тебя не бью!» Так и вас расспросили. Пожелание вы учебному начальству высказали. «Проходите, проходите! Ведь вас не бьют!» Хе-хе!
Тут уж я на него рассердился.
Он у нас по селу Мефистофель. На беду книг начитался и иногда очень ядовито цитаты приводит.
И вот я, «герой», о котором вы писали со слезами умиления, сижу снова в своей хибарке над сапогами. В окно глядит тёмная ночь, в трубе ноет ветер, и у меня ноет, ноет в душе.
– За что они у меня отнимают последние 10 рублей? За то, что я тружусь и не пью?
Мне вспоминается встреча с нашим уездным предводителем на станции.
Наш уездный предводитель – отрадное явление.
Я вообще заметил, что за последнее время все уездные предводители в «отрадные» пошли.
Мы ехали со съезда в одном поезде.
Он – в первом, я – в третьем. Только всего и разницы.
Он ел на станции котлетку с горошком, я пришёл кипяточку набрать.
Остановка двадцать минут. Увидал меня:
– А, Василий Кузьмич! Подсаживайтесь!
Отрадные предводители перед съездом всех своих учителей по имени-отчеству узнали, кого как зовут. По крайней мере, тех, кто на съезд поехал.
– А, – говорит, – Василий Кузьмич! Подсаживайтесь. Поболтаем, Василий Кузьмич! Красненького не угодно ли, Василий Кузьмич? Недурное.
Разговорились, конечно, про съезд.
– Что, Василий Кузьмич…
Он так и повторял ежесекундно: «Василий Кузьмич», словно боясь, чтоб не забыть.
– Что, Василий Кузьмич? Бодрость духа со съезда несёте? Новые силы на великую работу, Василий Кузьмич?
– Силы, – говорю, – что же! Силы те же самые. А вот скажите, ваше сиятельство, каких вы результатов от нашего съезда ожидаете?
– Практических, – говорит, – быть может, и никаких! Но съезды имеют огромное общественное значение! Огромное общественное значение, Василий Ильич! Это смотры-с интеллигентных сил страны, Василий Ильич! Смотры-с передовых элементов, Василий Ильич!
Таки забыл!
«Смотры»…
И невольно шевельнулась мысль при этом слове. «Смотры».
Смотры – праздник для генералов, у которых «дивизии в порядке». Смотры – праздник для разряженных адъютантов, для блестящих офицеров, которым смотр – случай попарадировать па кровном, энглизированном коне. А спросите у простого рядового, что такое смотр? Он скажет вам, что уж легче поход, чем смотры.
– Дефиле! – как фыркнул наш Мефистофель-писарь, когда я упомянул ему про «смотры».
И вот я сижу над сапогами в своей хибарке. Ночь глядит в окно, в трубе ноет ветер, и у меня ноет, ноет на душе.
– За что у меня отнимают последние 10 рублей?
У героя-то! Совсем не геройские мысли?
Уж поздно. Пора бы лечь спать. Но сон бежит, и «недостойные меня мысли» идут в голову вашего «героя».
И наш «маленький великий человек» зачем-то садится за стол и принимается на бумаге беседовать, – не с вами, – с собой.
– Дефиле! – как говорит наш волостной писарь.
Я снова беседовал с ним о съезде.
– Вижу, – говорит, – события. А значения их не понимаю. Разъясните пожалуйста. Ну, начальство на ваши «пожелания» либо взглянет, либо нет.
– Вернее нет. Но, кроме учебного начальства, есть ещё земства, которые всегда чутки…
– Да что ж земства-то без вашего съезда, что ли, не знали, каково таково есть ваше положение? Это и в Москву ездить не стоит, чтоб узнать, что человеку голодным жить невозможно. Это и на месте видать! Вон я в другой губернии служил, так там учителям и вовсе 20 рублей платят. Председатель управы, – отрадная такая личность, – с каким-то ещё отрадным барином проезжали. Остановились, – я разговор слышал. С большим чувством председатель говорил: «Светлая личность у вас учитель, отрадное явление, идейный человек! А! На 20 рублей с семьёй существует!! Какую нужду терпит! В куске хлеба себе отказывает! А учительствует! Убеждённый человек!!» Чуть слёзы не капали от умиления. А по-моему стыдно! «Отрадное явление» – и голодает. У нас всё так: как «отрадное явление», так голодает, как «печальное исключенье», так живот припеваючи и на всём на готовом. Человеку за экий труд 20 рублей в месяц давать. На всю семью! Стыдно! Да делать-то что, ежели у земства денег нет? Потому и платят мало, что денег нет, и никакие ваши съезды…
– А значение съезда для нас самих? А общенье? Общества взаимопомощи теперь будут как развиваться…
Только плечами пожимает.
– Да ведь ежели каждому есть нечего, много ли вы друг другу поможете? «Пойдём! – сказал безногий безногому. – Вместе-то идти веселей!»
– Я же вам говорил, что практических результатов съезд не даст никаких. Но моральные! Общество, по крайней мере, узнает, в каком положении находится народный учитель!
– Тэк-с! Дефиле, стало быть.
– Ну, дефиле!
– Это, как я в газете. читал, в Лондоне. Которые без работы – за ручки взялись, ребят перед собой, да так во всех своих лохмотьях по всем улицам и пошли. «Смотрите, дескать, люди добрые, какое наше положение!» На заседаньях, вы сами говорите, вам много разговаривать не приходилось. А в дефиле без слов всё видать. На манер маскарадной процессии, как я в газете читал, – оченно занятно. Вот вы, например, Василий Кузьмич, впереди семь человек детей, за ними ваша супруга с корытами и белья при ней куча. А затем вы сами с дратвой, с шилом, с сапогом. Надпись: «А жалованье – 500, да и то за 20-летнюю службу!» А в руках у вас хрестоматия Галахова. Наглядно. Каждый дурак понял бы!
Чуть не выгнал его вон.
Но негодяй говорит убедительно.
– И откуда вы, Василь Кузьмич, взяли, будто общество вами интересуется? Ежели б в действительности интересовалось, никаких бы ваших «дефиле» не потребовалось. Давным-давно бы про ваше положенье всё разузнало.
– Пословица есть: «дитя не плачет, мать не разумеет».
– Так то про дур матерей говорится. Общество! Я по делам частенько у нашего помещика бываю. Он всё проекты сочиняет, а я переписываю, потому что почерк имею круглый. А он сочинять мастер, но чтоб понять было можно, – Бог не дал. Так зайдёшь иной раз, ждать велят, общество у них. Разговоры. Дым коромыслом. «Сколько, например, министерство во французской республике продержится?» Господа наедут, крик, – того гляди, сцепятся. И выкладывают и выкладывают! Про любого французской республики депутата спроси, такого про него выложат, чего, может, они сам-то про себя не знает! А им известно! Как же так, Василь Кузьмич? Про любого французского депутата всю подноготную знают, а чтоб узнать, как свой учитель живёт, им ещё дефиле нужно. Никакого интереса тут я не вижу.
Действительно, интересуется ли нами общество?
Не у нас только, но всюду, но везде. Интересуется ли теперешнее буржуазное общество народными учителями?
Немцы говорят:
– При Садовой победил школьный учитель.
А несколько лет тому назад по какому-то поводу выяснилось, что немецкие школьные учителя живут в голоде, в холоде. Их держат в чёрном теле, платят гроши. Это не жизнь, это – медленное умиранье.
Немецкие журналы печатали, а наши перепечатывали картинки: лачуги, в которых живут в Германии деревенские народные учителя, лохмотья, в которых они ходят. На портреты жутко смотреть было: словно из голодающих местностей.
Ещё почище нашего!
Вот вам и герои-победители!
Общество живёт относительно нас романтическими представлениями.
Мы, народные учителя, что-то в роде пожарных.
– Их уж дело такое, чтобы собой жертвовать!
«Народный учитель».
– Ах! Святое дело! Ах! Святое слово! Ах, эти люди всем, всем жертвуют! Их и удовольствие такое, чтобы всем жертвовать.
Так думают.
Раз я народный учитель, я только и смотрю кругом:
– Куда бы мне собой пожертвовать!
Встаю утром, – сахару к чаю нет.
– Ах, какой счастливый случай! Сахару нет!! Ах, как приятно хоть маленькую жертву принести! Буду пить без сахару!
На обед у меня – жертва. На ужин – жертва.
На ногах, вместо сапог, жертва.
И мне других не нужно! Я и в жертвах похожу!
– Ах, сапог лопнул! Какое счастье! Ещё одна жертва на ниву народную!
Вы найдёте, быть может, что в моих словах много желчи?
Что же мне делать? Вся Русь залита желчью. Послушайте, – все слова пропитаны желчью. Посмотрите, – все лица полны желчи. Желчь разлилась в отечестве моем. Что же я за исключение?
– Общество, – говорят, – преисполнилось сочувствия к народным учителям!
Отлично.
У общества был и способ реально, наглядно выражать своё сочувствие.
Существует «общество попечения о детях народных учителей и учительниц». О нём много говорилось на съезде.
Что ж? Хлынул туда поток пожертвований от общества, охваченного симпатиями?
Поймите, что я не милостыни прошу!
Я просто хочу отделить чувство сентиментальности.
Здоровое, настоящее чувство от кислой, противной сентиментальности.
Маргарин от масла.
Чувство сказало бы:
– Их дети обречены на нищету. Я могу помочь… Помогу.
Сентиментальность проливает слёзы:
– Ах, они не только себя, они и своих детей приносят в жертву! Ах, как это велико!
И ни с места…
Потому что чувство диктует:
– Иди и помоги!
Сентиментальность вызывает эффектные и трогательные представления. И с неё довольно.
И эта общественная сентиментальность, разлитая в воздухе, заставляет слёзы умиления капать с Ваших перьев, гг. публицисты.
Когда сыро в воздухе, каплет с желобов.
Эта сентиментальность, разлитая в воздухе, источает у Вас, гг. представители общественного мнения и всеобщей глупости, «прочувствованные строки».
«Учителя разъедутся со съезда, унеся в своей душе воспоминание о светлых и радостных минутах. И сколько раз там, в тиши снежных сугробов, под унылое завывание вьюги вспомнятся им эти незабвенные светлые дни, и засветят им, как звёздочки, как маяк среди непроглядного тумана, и согреют им сердце».
Это очень тронуло бы меня своей искренней глупостью, господа, если бы я на один день не задержался в Москве и не прочитал описания какой-то ёлки, устроенной дамами-патронессами для детей Хитровки:
«Дети вернутся в свои трущобы, унеся в душе воспоминания о светлой и радостной ёлке. И сколько раз там, во мраке и грязи „ночлежки“, под пьяную ругань ночлежников, среди общего ожесточения кругом, вспомнится им эта ёлка, устроенная добрыми людьми, и засветит им своими огнями, как звёздочка, как маяк среди непроглядного тумана, и согреет им сердце».
Вы думали, что я уехал, господа, и что можно тем же печатным пряником, который я обмуслил уже, угощать других?
А я покупал дратву для сапог, в Москве она, думалось мне, дешевле, я обегал весь город, стараясь где-нибудь выторговать пятачок, и опоздал на поезд.
И так узнал о вашем сентиментальном мошенничестве.
У вас это, очевидно, готовый набор, господа!
Вы суёте всем в рот один и тот же обсосанный леденец для утешения.
Как у нас в деревнях «шпитомцам» суют всем одну и ту же грязную соску:
– Чтоб не плакал!
Уберите же ваши обслюнявленные пряники, милостивые государи, сосите сами ваши обмусленные леденцы, бросьте совать всем в рот ваши грязные «утешительные» соски.
Здесь, «у себя в хибарке», как любите выражаться вы, под нытьё вьюги, воющей в трубе, сгорбившись над сапогами, которые я, народный учитель, тачаю вместо необходимого мне отдыха, – я, не скажу, чтобы спокойно, – но подвожу теперь, через месяц, итоги съезду.
Да, результат есть.
Результат большой моральной важности.
Съезд показал, что нам, народным учителям, не на кого сейчас надеяться.
Что ни от кого ничего, кроме «слов, слов, слов», нам ждать нельзя.
Что мы одни, совсем одни.
– Горькое сознание? – умилённо скажете вы.
Но правда!
А «правды нет и выше».
Правду знать необходимо.
Я прошу Вас извинить меня, что письмо вышло немного длинно, быть может, резко, быть может, грубо.
Но вы ведь не мой инспектор. Ведь для Вас, как для меня, говоря словами Пушкина:
«Правды нет и выше!»
Не правда ли?
Всего Вам лучшего.
Ваш слуга, народный учитель (следует подпись).