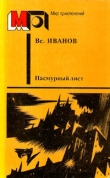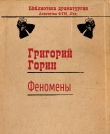Текст книги "Семья и школа"
Автор книги: Влас Дорошевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Что такое ребёнок?
Правда, странный вопрос?
А между тем обратитесь к любому отцу семейства.
– Скажите пожалуйста, что такое ребёнок?
– Ребёнок?!.. Какие странные вопросы вы задаёте!.. Ребёнок… Ну… Ну… Ну, это будущий человек… Ну… Ну… да это всякий понимает, что такое ребёнок…
Вопрос мне показался интересным.
Именно теперь, когда так много разговаривают о школьной реформе.
Я обратился с этим вопросом к трём отцам и получил в ответ три письма.
I
Если бы вы спросили меня, верю ли я в бессмертие души, – я отвечал бы вам, не колеблясь:
– Да.
Для меня это не подлежит никакому сомнению. Для меня это очевидно.
Бессмертие души, это – дети.
Я бессмертен в моих детях. Я не умру, если у меня есть ребёнок. Не умрёт лучшее, что во мне есть.
Я жил, страдал, работал, мыслил, и лучшие из тех мыслей, которые у меня накопились за жизнь, лучшие из чувств, которые у меня выработались, я передам моему ребёнку.
Только лучшие! Заметьте.
Все мы знаем, что в жизни очень важно умело лгать. Однако, мы не учим ребёнка:
– Лги умело.
Мы говорим ему:
– Люби правду!
Горький опыт учит нас, что низкопоклонничать очень выгодно.
Однако, мы говорим ребёнку:
– Не низкопоклонничай. Это гадко.
Разве добро так уж выгодно, полезно, практично? Есть много дурного, скверного, гнусного, что приносит в жизни гораздо больше пользы.
Однако, мы не учим ребёнка:
– Умей ловко пользоваться гнусностью. Не избегай подлости, когда надо. Кругом, мой друг, так делают. Это необходимо в борьбе за существование. Пользуйся и злом.
Мы не даём ребёнку этого единственно практичного воспитания.
Мы очень непрактично учим его добру, которое не всегда полезно, которое чаще всего очень вредит интересам человека.
Почему?
Ведь, собственно говоря, если б я хотел облегчить своему сыну жизнь, я бы должен был внушать ему:
– Доставай деньги. Это главное. Какими путями, – это всё равно. Когда ты достанешь много денег, – про пути все забудут. Только делай это ловко, чтоб не попасться. Беги от людей, с которыми случилось несчастье. Никогда не следует подплывать к человеку, который тонет: и тебя с собой утопит! Но, мой друг, когда поступаешь так, никогда не дай заподозрить себя в жестокосердии. Напротив, ты сожалей, плачь, на словах говори как можно больше. Хорошие слова, это – всё.
Почему же, вместо того, чтоб подавать ребёнку такие, действительно, полезные в жизни, советы, ему внушают массу «хороших вещей», которые окажутся лишними, непрактичными, непригодными к жизни, которые будут мешать ему, вредить в борьбе за существование?
Почему? Зачем?
Я передаю своему ребёнку только то, что есть в моих мыслях и моем сердце лучшего, божественного и потому бессмертного.
Я стремлюсь, чтоб лучшая часть моей души осталась бессмертной и жила в моём ребёнке.
Это – бессознательное стремление к бессмертию,
Рождение ребёнка, это – скульптура.
И я – маленький Пигмалион, который хочет вдохнуть в созданную им статую живую душу, – мою душу. Чтоб она жила на свете после моей смерти.
У меня есть мечты, идеалы, грёзы. Я не доживу до их осуществления. Но он, может быть, доживёт. Не он, – его сын, которому он, в свою очередь, передаст мою душу, вложенную мною в него.
И когда мой внук увидит осуществление того, о чём мечтал я, и когда он скажет:
– Мой дед ещё мечтал об этом! Вот если б старик увидел!
Это моя душа прочтёт его устами:
– Ныне отпущаеши…
Вы слышите, про человека говорят:
– Совсем его покойный отец! Та же прекрасная душа!
Вот человек, который не умер, хотя его и похоронили.
Оп живёт, живёт в своём сыне.
И старики, помнящие отца, с радостью видят живую душу человека, которого они знали, узнают её и улыбаются ей, как старой милой знакомой.
Скупец хотел бы, чтоб и сын его был скрягой. Человек, любящий людей, хотел бы, чтоб и сын его обладал той же душой.
Это – стремление обессмертить себя.
Боязнь умереть.
Путь к бессмертию, это – дети.
Вот вам, мне кажется, и решение о школе.
Послушайте, в то самое время, как я пишу вам, мой сын в соседней комнате сидит и зубрит историю Иловайского, – именно историю Иловайского, а не историю мира, потому что с настоящей историей мира этот «курс всемирной истории» ничего общего не имеет. Это – самый тенденциозный и потому отвратительный учебник в мире. Он напоминает мне подтасованную колоду карт. Извращённые факты, извращённое освещение.
То, что читает сейчас вслух мой мальчик, ложно и потому отвратительно. И это вбивают ему в голову!
Что я должен сделать?
Пойти и сказать:
– То, что ты сейчас прочёл, – ложь. Дело происходило вот как!
Он скажет мне:
– Вот хорошо, что ты мне сказал. Я так и отвечу!
Что я должен возразить ему?
– Нет, мой милый мальчик, отвечать ты должен так, как написано в учебнике. А правду – скрывать про себя. Говори ложь, а думай правду!
Передо мной лежит газета, которую я только что прочёл.
В ней какой-то господин рекомендует ввести особые классы «народной гордости».
Он с умилением вспоминает, как где-то в Германии видел школьников, которые распевали во всё горло под дирижёрство учителя:
И он рекомендует ввести такие же прогулки с пением для наших школьников.
Да если я-то думаю, что «ueber Alles[3]3
Превыше всего (нем.).
[Закрыть]» должна быть справедливость, а не «Deutschland[4]4
Германия (нем.).
[Закрыть]»? Зачем же мне калечат моего ребёнка?
Вы хотите давать «политическое воспитание» детям? Ради Бога! Да они ещё слишком малы для этого!
Вдруг я имею в доме девятилетнего представителя партии! Да это так же приятно, как иметь в доме урода.
Политика, даже самая лучшая, неуместна в преподавании. Политика, это – такая приправа, которую нельзя класть во всякое кушанье.
Я требую, чтоб школа дала моему ребёнку три вещи: знание, любовь к знанию, уменье учиться и достигать знания.
Пусть он знает, хочет знать больше, умеет заниматься сам.
С знанием придёт и любовь.
Любовь, это – знание.
Только то, что мы знаем, нам близко. Только то, что нам близко, мы любим.
Чтобы полюбить какого-нибудь человека, надо узнать его. Когда вы знаете его, его мысли, его радости, его печали, его прошлое, понимаете причины каждого его поступка, – вы сочувствуете ему, вы жалеете уже о тех дурных чертах, которые просто возмутили бы вас, если б вы не знали, почему, откуда они явились, у вас является желание помочь этому человеку – вы любите его.
То же самое и с целым народом, со страной.
Узнайте, и вы полюбите.
Почему этнографы всегда в конце концов любят тот народ, который они изучали? Потому, что они вошли глубоко в его быт. Потому, что они его знают.
Пусть школа только даёт знание.
И когда мой сын будет знать Россию, знать её литературу, её историю, её быт, – он будет любить её.
А уж что он будет считать «ueber Alles», предоставьте позаботиться мне.
Он будет видеть свет там, где видел свет я. Когда я умру, он пойдёт туда же, куда шёл я. Моя душа пойдёт в его теле.
Одно знание, чистое знание, любовь к знанию, уменье добиваться знания пусть даёт школа. Всё остальное – дело семьи. Дело моё. Дайте мне самому заботиться о своей душе. Если я ребёнку не передам самого заветного, что есть в моей душе, – зачем я жил? Зачем он у меня родился?
II
Что такое ребёнок? Очень просто ответить.
Ребёнок, это – несчастье, которое надо как-нибудь поправить.
Я жил и знаю, что такое жизнь. Я знаю, что на минуту радости здесь годы несчастия. Хорошенькая планета, где у лучших и сильнейших умов является мысль:
«Позитивно только страдание. Счастье, это – отсутствие страдания!»
Почему я не ухожу отсюда? Я попал в скверное место и продолжаю в нём оставаться! Казалось бы, странно?
Почему обитатель ночлежного дома никак не может уйти из него?
Дайте ему денег, – он пропьёт и вернётся в «ночлежку».
Иначе сделает! Вымоется, «справит» себе приличное платье, на остатки угостит приятелей, с которыми прощается. Напьётся, за бесценок продаст платье, пропьёт и пойдёт чистый спать на грязные нары. Желание было страшное уйти, а в конце концов всё-таки останется.
Почему?
Ведь от грязи и мерзости его также тошнит. Он также слышит, что в кабаке и ночлежке мерзко воняет.
У него искреннее желание уйти.
Почему же он не может уйти из скверного места, в которое попал, не может даже тогда, когда к этому есть возможность?
Причина простая.
Слабость воли. Вот и всё.
Привычка жить, желание жить – слабость воли. И только.
Я знаю, что здесь мерзко, и дальше будет также мерзко. И не могу «уйти» из жизни. Слабость воли. Только и всего.
И я презираю себя за это бессмысленное, поистине какое-то запойное желание жить.
Презираю, как алкоголик презирает свой запой.
И вот я, знающий, что такое жизнь, сам сидящий в этой мерзости, нечаянно посадил сюда и другого. У меня ребёнок.
Неосторожно я причинил ему жизнь.
Беда, которую надо как-нибудь поправить.
Вооружить его хоть чем-нибудь на жизнь.
Чем? Знанием. Я отдаю его в школу.
– Вооружайся!
Я прошу школу:
– Вооружите его!
Вооружите, чтоб он мог других есть, а не другие его ели.
Знание, это – средство сесть кому-нибудь на спину.
Иван Иванович знает, в котором году родился Кир, в котором умер Камбиз, и с какого по какой год длилась война Белой и Алой розы, и передаёт эти знания другим.
А потому кухарка Акулина, которая не знает даже, в каком году она сама родилась, жарится у плиты, варит ему щи и бегает по дождю в лавочку за папиросами.
А если бы Иван Иванович не знал, в каком году родился Кир и когда умер Камбиз, он сам бы чистил сапоги Василию Петровичу, который знает, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, и может преподать это другим.
Зато и Акулина, знай она про Камбиза или гипотенузу, была бы не кухаркой, а учительницей и, придя домой, орала бы на Матрёну:
– Ты что ж это, дрянь этакая, по любовникам шатаешься? Опять щи не готовы?!
Точь-в-точь так, как теперь Иван Иванович орёт на неё, Акулину.
Я еду на извозчике потому, что знаю побольше его. А если бы было наоборот, – кто из нас сидел бы на козлах?
А потому, мой друг, вопрос о школе, – вопрос самый простой.
Как можно больше знаний, которые могут пригодиться.
Самая простая формула:
– Учите только тому, что можно съесть.
Только тому, на что можно пообедать, на что можно купить папирос.
Никаких этих знаний, возвышающих душу, расширяющих кругозор.
Ведь чем возвышеннее душа и шире кругозор, тем больше неприятностей и огорчения в жизни чувствуешь, и тем сильнее их чувствуешь.
Зачем же я буду делать всё это ребёнку?
Посадил человека в клоповник, да ещё буду заботиться:
– Чтоб кожа у него была тонкая!
Зачем это?
Чтоб боль он сильнее чувствовал? К чему такое свинство над ребёнком делать, как кругозор ему расширять и дух возвышать?
Сделал неосторожность, – хоть не увеличивай!
III
Дети, это – налог на страсть в пользу государства. Это – пошлина за поцелуи.
Я поставщик сырого материала.
Я поставляю на государство детей. А оно уж делает из них различные поделки. То, что ему нужно: чиновников, офицеров, инспекторов, учителей и т. д., и т. д., и т. д.
Для этого у него есть школа.
Как поставщик сырья, я себе в стороне.
Сдал к известному сроку то, что нужно, – и кончено.
С девяти до половины третьего дня материал в работе. Его обтачивают, шлифуют.
А затем присылают ко мне на сохранение.
Я его и храню у себя до утра.
Конечно, я должен заботиться, чтобы «штука в работе», пока у меня на дому лежит, как-нибудь не попортилась.
Вот, по-моему, чем должны регулироваться отношения между семьёй и школой.
Не школа должна прислушиваться:
– Чего семья требует.
А семья должна глядеть:
– Чего школа желает?
То и делать.
Были древние языки, – я говорил своему:
– Учи, мерзавец, Кюнера! Учи, мерзавец, Кюнера!
Теперь греческий, говорят, совсем по боку.
Да если я увижу, что мой сын читает потихоньку Гомера на греческом языке, – да я запорю негодяя:
– Не смей недозволенных книг читать!
Вот что такое ребёнок, – и какие должны быть к нему истинные отношения у истинного отца.
Собственно говоря, мне понравились все три письма.
И понравились бы даже очень, если бы у каждого из них не было маленького postscriptum’а.
Под первым была приписка:
– Нельзя ли напечатать это письмо в какой-нибудь газете? Покрупнее, на видном месте!.. И непременно за моей полной подписью. Пожалуйста! Кажется, ничего себе? А? Возвышенно!
Под вторым:
– Кажется, в современном штиле? С пессимизмцем. Если напечатаете, – пришлите. Очень обяжете. У меня вообще репутация пессимиста. Знаете, это как-то делает человека интереснее.
Под третьим стояло:
– Не будете ли вы добры при случае, будто ненароком, показать это письмо его превосходительству Петру Петровичу? Вам это всё равно, а мне может принести пользу: у нас освобождается место помощника экзекутора, и мне очень хотелось бы, чтобы его превосходительство знал образ моих мыслей. Чрезвычайно обяжете!
Семья и школа
В одно прекрасное утро, – вероятно, это было солнечное, ясное, хорошее утро, – г. попечитель петербургского учебного округа, – вероятно, вообще очень добрый человек, – проснулся в превосходном, особенно добром настроении духа.
В таком настроении король Генрих IV воскликнул когда-то:
– Я бы хотел, чтоб у каждого из моих подданных была к обеду курица!
В таком настроении г. попечитель учебного округа отдал гг. директорам гимназий распоряжение, чтоб они обратились к гг. родителям с вопросом:
– Как вы хотите, чтоб вашим детям ставили отметки: за каждый отдельный ответ, как теперь, или за известный промежуток времени: за две, за три недели?
Первый случай, когда родителей призвали к решению школьных вопросов.
Почин благой. Мысль прекрасная, светлая, ясная.
Но когда в один хмурый, ненастный, осенний день подочтут результаты плебисцита, – ответь получится:
– Предпочитаем старый способ.
Г. попечитель учебного округа будет, вероятно, страшно удивлён:
– Что это? Неужели семья у нас, действительно, довольна существующими школьными порядками?
Нет.
– Что ж, они, значит, не сумели разобраться в предложенном вопросе?
На первом же экзамене срезались!
И г. попечитель учебного округа, быть может, горько улыбнётся:
– Вот тебе и зови родителей на помощь в разрешении школьных вопросов!
Не берём более раннего периода, но тридцать лет без одного года семья и школа были ожесточёнными врагами друг друга.
Образования не было, – была «школьная повинность», тягостная, ненавистная, которой подчинялись, как подчиняются воинской повинности:
– Что же делать?
Ученья не было, – было сложение и деление отметок.
Мальчик получал единицу. Значит, надо или сразу сыграть и получить пять:
– Спросите меня сегодня, г. учитель!
Или сыграть два раза и получить по четыре.
1+4+4=9; 9, делённое на 3, даёт 3.
Мальчик получал пять. Значит, можно неделю не учить уроков и получить единицу.
5+1=6; 6, делённое на 2, даёт 3.
Или две недели плохо учить уроки и получить две двойки. Опять:
5+2+2=9; 9, делённое на 3, даёт 3.
– Ванечка! Ванечка! Надо заниматься. У тебя единица есть. Нужна пятёрка.
– Ванечка, чего ты ничего не делаешь?
– Мамочка, у меня пятёрка есть. Мне не страшно.
Никакого ученья не было, а был ряд арифметических действий с таким расчётом, чтобы в результате получилось хоть 3.
Семья ненавидела школу. Школа презирала семью.
Семья вызволяла кое-как у школы своего мальчика:
– Мама, дай записку, что у меня голова болела. А то опять кол поставят.
Школа презрительно смотрела па эти маневры семьи:
– Опять записка! Не верю. Мало ли что вам там дома напишут!
Школа приходила в соприкосновение с семьёй только для катастроф.
– Вызову родителей!
– Пошлю родителям записку!
Хуже не было угроз.
«Вызов в гимназию» повергал семью в трепет:
– Какой ещё ужас надумала совершить школа?
Всякая записка из школы была как письмо в траурном конверте, – заставляла испуганно вздрагивать:
– До чего довёл? Записку к родителям пишут? А?
Отец, мать ходили в гимназию, как парламентёры, чтоб «выхлопотать» пленника.
И вот когда, спустя тридцать лет без одного, года, родителей спрашивают:
– Какою должна быть, по вашему мнению, школа в таком-то вопросе?
Родители не знают даже, что ответить.
Да откуда же мы знаем, какою должна быть школа, какою бывает школа?
Мы школы не видели. Мы школы не знаем.
Мы знаем, что такое «канцелярия» для «маленьких чиновников», но школа!..
Мы понятия не имеем, что такое школа! Какая, такая она бывает! Какою даже может быть!
Если спросить сейчас всю Россию:
– Какой должна быть средняя школа?
Во всей России не найдётся ни одного человека, который бы ответил на этот вопрос.
Тридцать лет без одного года мы знаем канцелярию, а не школу. Мы привыкли к канцелярии.
А семьи канцелярских служащих всегда боятся реформ:
– А ну, как хуже будет?
И когда после тридцатилетней войны школа предложила семье перемирие, нечего удивляться, что семья отнеслась к этому предложению с опаской.
– Как ставить отметку: за отдельный ответ или общую за две недели?
Из двух зол человек не всегда выбирает меньшее. Часто выбирается из предосторожности старое, более привычное.
Родитель рассуждает так:
– Отметка за отдельный, часто случайно плохой ответ, – конечно, нелепость. Мальчик мог случайно не приготовить, не понять только этого урока, и ему ставят «кол».
Но, с другой стороны, родитель рассуждает:
– Зато я всё время в курсе игры. Принёс Ванька отметки за неделю, – есть кол, – я его следующую неделю никуда не пущу, дохнуть не дам, «учись, проси, чтоб спросили, поправляйся!» А тут…
Родителей пугает фраза циркуляра:
– Две-три недели и т. п., по усмотрению педагогических советов.
А вдруг, как они «усмотрят» ставить отметки раз в месяц!
Прошёл месяц, – хвать, а у него кол. Когда тут «поправляться»? Да ещё вдруг в последний месяц перед «четвертью»?
В последние дни перед четвертью даже самые беспечные родители тревожно осведомляются у детей:
– Вызывали? Сколько поставили? Приготовь на завтра! Вызовись!
Тут уж арифметические расчёты идут с особою силою.
Выходит оно как будто бы и очень хорошо.
Отметки не за отдельный, часто случайно плохой ответ, а за две, за три недели, – за срок, в который всё же можно судить об успехах и прилежании мальчика.
Да, но кто поручится, что учитель, привыкший к отметкам, не умеющий и ценить иначе, как по отметкам, не заведёт себе этакой меленькой карманной книжечки, с клеточками, и не начнёт в неё ставить отметочек.
А потом через две недели просто-напросто сложит и разделит: 3+2+3+1+3=12; 12 на 5=22 / 5. Значит – 2.
И родитель говорит:
– Нет, уж пусть лучше игра идёт в открытую. Удобнее за игрою следить и в игре участвовать!
Родитель предпочитает явную канцелярию, потому что боится тайной канцелярии.
Правда, циркуляр обещает «сверх того»:
– Оповещать родителей в случае слабых успехов их детей по тем или другим предметам.
Но тридцатью годами без года родители научены, пуще огня боятся таких «оповещений».
Когда «оповещают»?
Накануне выгона.
Родители привыкли, – вызывают сказать:
– Ваш сын слаб.
Значит, в следующий раз вызовут, чтоб оповестить:
– Возьмите вашего сына!
– Переведите вашего сына от нас в другую гимназию.
– Ваш сын остаётся на второй год.
Вообще что-нибудь «утешительное» в этом роде.
Родитель рассуждает:.
– Учитель поставит у себя в маленькой карманной книжечке моему Пете маленький колик или двойку. Что ж, он сейчас и пошлёт за мной: «ваш сын слаб»? Да если каждый учитель начнёт из-за каждой единицы и из-за каждой двойки родителей вызывать, так ему 24 часов в сутки на разговоры не хватит, да и ни в одной гимназии для приёма родителей места не найдётся! «Оповестят» тогда, когда совсем уж плохо, как раньше делали. И будет он, колик-то, в книжечке стоять, пятёркою или двумя четвёрками не прикрытый, и ждать второго и третьего колика. Тогда уж и вызовут, – да поздно, ничем не поможешь! Нет, уж лучше своевременно об опасности узнавать!
В основе всех этих рассуждений лежит одно. Отвечая на заданный вопрос, родители предполагают:
– Учителя будут относиться к делу по-прежнему, по-канцелярски.
И это приведёт, наверное, авторов добрых и светлых начинаний в отчаяние:
– Сами родители смотрят на школу, как на канцелярию.
Вернее, нё верят, что вы будете смотреть на неё иначе.
За родителями горький опыт тридцати лет без одного года!
Только через тридцать лет без одного года захотели выслушать голос родителей в школьных вопросах. Какой запоздавший циркуляр!
Но он и преждевременный циркуляр. Сначала школе надо было сделать несколько шагов навстречу. Изменить сначала канцелярское отношение к учащимся. Показать, что школа перестала быть канцеляриёй.
И если бы тогда спросили родителей:
– Какой порядок вы предпочитаете теперь, при отсутствии в школе канцелярского духа?
Ответы родителей были бы иными, чем они будут теперь.
А теперь? Как родители, если б они даже и знали, чем должна быть школа, могут ответить на предложенный вопрос?
– Мы-то хотели бы так и так. Да вы-то будете продолжать втайне военные действия.
И тридцатилетняя война никак не может закончиться желанным перемирием.
Ведь войско врага осталось всё то же, и способы военных действий не могут быть иными.
Если бы опросить всю образованную Россию по вопросу, самому важному, самому коренному: «Какой системы образования желаете вы для ваших детей?» – на миллион голосов не нашлось бы одного за классицизм.
И всякому понятно, что эта система, ненавистная русскому обществу, существует, потому что, куда же деть эту армию несчастных «латинистов» и «греков»?
Эту армию несчастных, ничего более не знающих и ни к чему более не пригодных.
Эту армию, отдавшую всю жизнь свою на служение «по мере разумения циркуляров». Эту армию, сушившую, забивавшую детские головы Ходобаями и Кюнерами. Эту армию, давшую России ряд малограмотных, малоразвитых поколений.
Куда они пригодны?
Ведь не вышвырнуть же их на улицу, не сказать же:
– Умирайте с голоду!
И как же они иначе будут относиться к делу, когда они иного отношения и не знают?
Разве они умеют образовывать, воспитывать? Они умеют, они знают одно:
– Ставит отметки.
Это отметчики.
Разве у них есть какое-нибудь другое мерило, другой педагогический приём, кроме «отметки»? Разве учить не значит для них «ставить отметки»?
Ну, скажите им:
– Отметок в журнале за отдельные уроки ставить не надо.
Они разорятся из скудного жалованья по гривенничку, купят по маленькой книжечке с клеточками и начнут ставить отметки тайно, «для себя».
А потом складывать и делить:
3+2+3+1+3=12; 12 на 5=2 2/5. Значит – 2.
И родители, зная, что такое эти педагоги, зная, как только они и могут относиться к делу, предпочитают, чтобы следствие об «Иванове Павле, обвиняемом в непрестанном уклонении от исполнения своих обязанностей», велось гласно, а не тайно и, – кто знает – быть может, пристрастно.