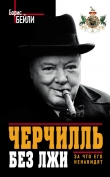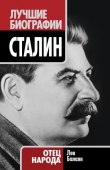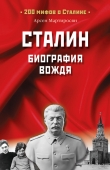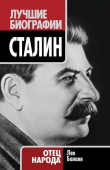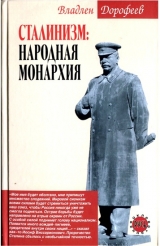
Текст книги "Сталинизм. Народная монархия"
Автор книги: Владлен Дорофеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Глава дома Романовых
Став всероссийским императором, Николай II стал главой дома Романовых, в распоряжение которого переходило огромное состояние. «Личные доходы императора складывались из трех источников:
1. Ежегодные ассигнования из средств Государственного Казначейства на содержание царской семьи. Это 11 миллионов рублей.
2. Доходы от удельных земель.
3. Проценты с капиталов, помещенных за границей в английских и германских банках.
В удельные владения входили сотни тысяч десятин земли, виноградников, охотничьих угодий, промыслы, рудники, фруктовые сады…
Семья Романовых являлась обладательницей драгоценных сокровищ, среди которых была и Большая императорская корона со знаменитым бриллиантом «Орлов», не менее знаменитый скипетр с «Черной луной» – нешлифованным бриллиантом весом около 120 карат и «Полярной звездой» – бледно-розовым рубином в 40 карат».
К слову сказать, первый конфликт между Алисой и вдовствующей императрицей произошел именно из-за драгоценностей. Алиса с первых же дней стала настаивать на своем праве владеть частью фамильных украшений дома Романовых, а Мария Федоровна не торопилась с ней делиться. Вокруг этого и разгорелся семейный скандал, положивший начало обострению отношений между невесткой и свекровью.
Из недвижимого имущества императору принадлежали семь дворцов: Зимний и Аничков – в Петербурге, Александровский и Екатерининский – в Царском Селе, Большой дворец – в Петергофе, Гатчинский дворец, а также Большой Кремлевский дворец в Москве. Царскую семью обслуживали три тысячи дворцовых служащих, среди которых были гофмаршалы, церемониймейстеры, повара, камер-лакеи, камеристки… О таком богатстве и роскоши Алиса, проживая в своем заштатном королевстве, могла только мечтать.
О мыслях Николая, провожавшего отца в последний путь, мы можем лишь догадываться. Как уже говорилось, Николай не был подготовлен к управлению страной. Он не успел накопить для этого ни опыта, ни знаний. По рассказам современников, вначале он решил было во всем полагаться на братьев отца. Что ж, казалось бы, вполне естественное желание и реальная возможность не наделать преступных глупостей в управлении государством. Но только при условии доброжелательных взаимоотношений и здравомыслии родственников. К сожалению, все обстояло не так хорошо, как хотелось бы.
У Александра III было четыре брата. Старший из них, великий князь Владимир Александрович, большой любитель охоты и застолий, балагур и весельчак, слыл покровителем изящных искусств, был президентом Академии художеств и одновременно командовал императорской гвардией. Такая разносторонность делала его дилетантом во всех областях. Единственное, что он глубоко и основательно знал, – это балет, где он активно покровительствовал хорошеньким балеринам.
Великий князь Алексей Александрович заведовал морскими делами, мнил себя великим флотоводцем и покорителем ближних и дальних морей. Однако большую часть времени он проводил на суше. Еще при жизни Александра III он, вместе с адмиралом Верховским, выпросил разрешение у императора на строительство кораблей хозяйственным способом. Деньги разворовывались, а корабли типа броненосца «Русалка», построенные сомнительными подрядчиками, переворачивались и шли ко дну. Алексей Александрович постоянно смущал своими действиями морское ведомство. В день Цусимского сражения он разъезжал по Петербургу подшофе и похвалялся: «Мы еще покажем этим япошкам, где раки зимуют».
Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, прославился своим суровым нравом и жестокостью. Во многом из-за его халатности произошла Ходынская трагедия, так что он даже получил в народе титул «Князь Ходынский». О взглядах и умонастроении этого человека говорит хотя бы тот факт, что он запретил жене читать «Анну Каренину». Свою семейную жизнь он, по свидетельству современников, превратил в сущий ад. Дело кончилось тем, что его жена бросила свой дом и ушла в монастырь.
Самый младший, великий князь Павел Александрович, был всего на восемь лет старше Николая. Николай относился к нему с большой симпатией. У них было много общего. Но у Павла Александровича имелись серьезные проблемы в личной жизни (после смерти первой жены он женился на разведенной женщине. – Ред.),из-за которых он был удален от двора и многие годы провел за границей вдали от родины.
Вот такие были «наставники» у Николая II, которые обещали ему помощь и поддержку в управлении государством и на которых он опирался в течение первых десяти лет своего царствования.
У каждого дяди имелась своя свита, свои миссионеры, колдуны, ясновидящие, прорицатели, чудотворцы и медики, содержание которых обходилось очень недешево государевой казне. У тех также была огромная челядь, которая, в свою очередь, требовала для себя кусков и кусочков общественного пирога.
А тем временем экономика страны трещала по всем швам, народ нищал и голодал, тогда как кучка царственных вельмож обогащалась, блаженствовала и прожигала жизнь. И не было им никакого дела до обездоленного люда.
В народе росло недовольство, повсюду слышались слова «революция», «свобода», «справедливость». Однако, когда об этом докладывали правительственным чиновникам, те реагировали довольно беспечно.
Армия слабела и была деморализована. Иностранные капиталы, искусно привлеченные министром финансов С. Витте, разворовывались, промышленность и сельское хозяйство находились в упадке. Новые железные дороги строились без стратегического расчета и глохли, ложась тяжелым бременем на экономику страны.
Новому императору выпала трудная судьба. Но он мог спасти свою страну, возродить ее к новой жизни – ведь он владел неограниченной властью и неограниченными возможностями. Но этому не суждено было произойти.
Свита нового царя заметно изменилась, но не в лучшую сторону. Свое окружение Николай формировал не по деловым качествам, а руководствуясь юношескими пристрастиями и симпатиями. Ко двору и в свиту императора стали входить люди с подмоченной репутацией и довольно сомнительными деловыми качествами. Не останавливался Николай и перед реабилитацией таких лиц, которых его отец наказывал за дела чисто уголовного порядка. Он их приближал к себе, за что они, стараясь заслужить его расположение, всячески угождали ему, искажая в своих докладах действительное положение вещей в стране и восхваляя его мудрость в управлении государством. Когда старейший генерал-адъютант Чертков попытался обратить на это внимание монарха, тот сухо ответил, чтобы он не вмешивался в его личные назначения.
Вскоре царский двор пополнился всякого рода ясновидящими, колдунами, прорицателями и просто шарлатанами, выдающими себя за святых. В их числе был и Распутин. Что касается здравомыслящих людей, действительно болеющих душой за судьбу страны и монархии, то они оказались на обочине, их мнением царь не интересовался. Ему казалось, что они покушаются на его власть. «Мне известно, – сказал он в своей первой тронной речи 17 января 1895 года, – что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтами об участии представителей земств в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель».
Многие из присутствующих слушали царя с недоумением. Правда, оставалась слабая надежда на то, что речь новоявленного императора просто не очень хорошо продумана. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре многие стали замечать в молодом самодержце проявление жестокости, бессердечности и вместе с тем – детскую наивность, веру в обряды, чудеса, спиритические предсказания.
Помазанник Божий
Первое, что обращает на себя внимание: никто из современников Николая II не дает ему положительной оценки и не поминает добрым словом. По крайней мере, мне не удалось найти этого ни в воспоминаниях выдающегося судебного деятеля и ученого-юриста, блестящего оратора и талантливого писателя Анатолия Федоровича Кони, ни в очерках публициста, служившего в одном из гвардейских полков в Царском Селе и близко наблюдавшего императора Виктора Петровича Обнинского, ни в мемуарах крупных политических деятелей того периода Сергея Юрьевича Витте и Михаила Владимировича Родзянко, ни в оценке английского дипломата сэра Джорджа Бьюкенена, ни у кого-либо другого.
«Мои личные беседы с царем, – пишет в своих воспоминаниях А.Ф. Кони, – убеждают меня в том, что Николай II несомненно умный…» И тут же делает оговорку: «если только не считать высшим развитием ума разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, а не развивать только свою мысль в одном исключительном направлении».
В каком именно направлении развивал свою мысль император, Кони не уточняет. Говоря о достоинстве, он отмечает: «Если считать безусловное подчинение жене и пребывание под ее немецким башмаком семейным достоинством, то он им, конечно, обладал».
Одним словом, мыслительные способности и интеллектуальные достоинства Николая II Кони оценивает, мягко скажем, невысоко. Однако беда не только в ограниченности ума, но «…и в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков, – считает Кони. – Достаточно припомнить посещение им бала французского посольства в ужасный день Ходынки, когда по улицам Москвы громыхали телеги с пятью тысячами изуродованных трупов, погибших от возмутительной и непредусмотрительной организации праздника в его честь, и когда посол предлагал отложить этот бал».
Ходынская катастрофа случилась 18 мая 1896 года в Москве во время коронации Николая И. В тот день, вследствие преступной халатности местных властей и, в частности, генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, погибли тысячи людей. Великое горе свалилось не только на Москву (посмотреть на коронацию царя и получить подарки в честь его коронации приезжали люди из многих областей страны), но и на всю Россию. А Николай И тем временем танцевал на бале французского посланника. Когда ему посоветовали не ходить на бал, он не согласился: «По его (Николая И) мнению, – вспоминал в своих мемуарах С. Ю. Витте, – эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать».
Подобные рассуждения не назовешь даже глупостью – они говорят скорее о душевной черствости. Однако танцы на балу после катастрофы – не единственное свидетельство жестокости и бессердечности императора. Такие качества своего характера он демонстрировал на протяжении всего царствования. «Разве можно забыть, – пишет Кони, – равнодушное попустительство еврейских погромов, жестокое отношение к ссыльным в Сибирь духоборам, которым как вегетарианцам на Севере грозила голодная смерть, о чем пламенно писал ему Лев Толстой. Можно ли, затем, забыть Японскую войну, самонадеянно предпринятую в защиту корыстных захватов, и посылку эскадры на явную гибель, несмотря на мольбы адмирала. И, наконец, нельзя простить ему трусливое бегство в Царское Село, сопровождаемое расстрелом безоружного рабочего населения 9 января 1905 года».
А между тем, по мнению Кони, «…ему, по Евангельской изречению, вина прощалась 77 раз. В его кровавое царствование народ не раз объединялся вокруг него с любовью и доверием. Но все это было вменено в ничто, и интересы Родины были принесены в жертву позорной вакханалии распутства и избежанию семейных сцен со стороны властолюбивой истерички».
Вспоминая свои встречи с Николаем II, Анатолий Федорович пишет: «…хотя я и был удостоен, как принято было писать, «высокомилостевым приемом», но никогда не выносил я из кабинета русского царя сколько-нибудь удовлетворенного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая… Глаза газели смотрели на меня ласково, рука, от почерка которой зависело счастье и горе миллионов, автоматично поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь вопросом «из другой оперы».
Цену ласкового царского приема ощутили на себе многие приближенные. Обер-прокурор Синода Самарин, приехав на другой день, после благосклонного доклада, в совете министров прочел записку Царя к Горемыкину, в которой было сказано: «Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему сказать это». Таким же образом был уволен и Ванновский, на плечах которого лежало тяжкое бремя народного просвещения.
«Председателю Государственной думы, – пишет Кони, – явившемуся с докладом о деятельности этого учреждения, оказывался «всемилостивейший прием», а вслед за тем Дума распускалась».
Не поддается никакому описанию состояние и настроение человека, которого высокое начальство только что обнимало, лобызало, гостеприимно усаживало за стол, а потом, ничего не объясняя, снимало с работы.
Если подобное поведение нельзя назвать иезуитством, то как его можно назвать?
Сопоставление и размышление
Нынешние демократы и политики новой волны в своих потугах возвести Николая II в ранг великого монарха, не смущаясь, черное выдают за белое. Подобное лицемерное поведение царя по отношению к неугодным ему людям выдают за… скромность, деликатность и интеллигентность. Он, мол, был настолько чуток, отзывчив и деликатен в понимании чужого горя, что не хотел огорчать человека и показывать к нему свое нерасположение. Он считал, что лучше дать отставку человеку без всяких объяснений, через второе или третье лицо, по записке. Таковы, очевидно, современные понятия нравственности и человеколюбия.
Мне лично ничего не остается, как только пожелать нынешним толкователям нравственных поступков Николая II хоть раз в жизни испытать на себе подобную доброту, милость и деликатность.
Я скорее соглашусь с мнением современников Николая II.
«Трусость и предательство, – продолжает рисовать облик императора А.Ф. Кони, – прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать поспешно и не последовательно, с трусливой готовностью – то уполномочивая Комитет министров на реформы, то обещая Совещательную Думу, то создавая Думу Законодательную в течение одного года. Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занимаясь спиритизмом и гаданием, смотря на своих министров как на простых приказчиков, посвящая некоторые досужные часы стрелянию ворон в Царском Селе, скупо и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, поддерживая церковно-приходские школы и одарив Россию изобилием мощей, он жил, окруженный сетью охраны, под защитою конвоя со звероподобными и наглыми мордами, тратя на это огромные народные деньги».
Вот такая характеристика дана последнему российскому царю человеком, который встречался с ним и писал свои воспоминания не под диктовку (как утверждали демократы) коммунистов, а еще до Великой Октябрьской революции.
* * *
Николай II смотрел на себя (и в этом его убеждала царица и его ближайшее окружение) как на помазанника Божьего, что, видимо, вызывало в нем чувство самодовольства.
О таких приливах тщеславия и высокомерия вспоминает английский посол сэр Джордж Бьюкенен, который накануне Февральской революции встречался с императором. Речь зашла о положении дел в стране. Повсюду останавливались фабрики и заводы. Сотни тысяч рабочих и их семей вышли тогда на улицы, требуя хлеба, тепла и света. В Петрограде появились баррикады и начинались погромы. Союзники боялись, что при дальнейшем неблагоприятном развитии событий Россия может выйти из войны, а это абсолютно не устраивало ни Англию, ни Францию, привыкших воевать российскими солдатами, подставляя их под удары.
У союзников на сей счет была своя тактика и стратегия. Когда Германия готовилась перейти в наступление на западе, они требовали от России активизации действий на востоке для того, чтобы немецкое командование перебросило туда свои войска, тем самым снимая угрозу на западе. В результате гибли российские солдаты, а не солдаты союзников.
Одна только мысль о том, что Россия может выйти из войны, приводила в панику английское и французское правительства. Узнав о беспорядках в Петрограде, они забили тревогу и потребовали от своих послов встречи с царем для обсуждения выхода из создавшейся ситуации. По утверждению английского посла, у него состоялся следующий диалог с Николаем II:
– Ваше величество! – говорил Бьюкенен. – Позвольте мне сказать, что перед вами открыт только один верный путь, – это уничтожить стену, отделявшую вас от вашего народа, и снова приобрести его доверие.
Император выпрямился во весь рост, и жестко глядя на посла, спросил: «Так вы думаете, что я должен приобрести доверие своего народа или что он должен приобрести мое доверие?»
Вот так, не больше и не меньше. Кем же нужно себя считать, чтобы высказывать подобные суждения?!
Затем посол стал критиковать правительство и говорить о необходимости прислушиваться к мнению Государственной думы, предлагавшей сменить нынешнее правительство на «правительство доверия». Однако эти советы император пропустил, как говорится, мимо ушей. Позже посол узнал реакцию императрицы на его предложения. «Великий князь Сергей Михайлович, которого я встретил затем за обедом, – вспоминает Бьюкенен, – заметил, что если бы я был русским подданным, то был бы сослан в Сибирь».
И еще о самодовольстве. Когда Государственный совет постановил обратить внимание государя на необходимость отмены телесных наказаний, которое было бы своевременным, последовал отказ и резолюция: «Я сам знаю, когда это надо сделать!»
Судьба посылала Николаю II умных людей, на которых он мог бы опереться, но он от них избавлялся всеми правдами и неправдами. Не ко двору пришлись деловые реформаторы граф Сергей Юрьевич Витте и Петр Аркадьевич Столыпин. Оба они занимали высокие посты в правительстве, но под давлением царицы были смещены. Ей не нравилась их самостоятельность и недружественное отношение к Распутину. Руководителями внутренней политики стали угодные «старцу» и царице никчемные деятели типа Горемыкина, Штюрмера, Голицына, Хвостова, Протопопова… С их помощью Николай II и привел Россию на край пропасти.
Кони вспоминает и свои личные встречи с царицей. Она поддерживала некоторые благотворительные проекты. Однако это не помешало ему дать жене Николая нелицеприятную оценку.
«Нельзя сказать, – пишет он, – чтобы внешнее впечатление, производимое ею, было благоприятно. Несмотря на ее чудесные волосы, тяжелой короной лежавшие на ее голове, и большие темно-синие глаза под длинными ресницами, в ее наружности было что-то холодное и даже отталкивающее. Горделивая поза сменялась неловким подгибанием ног, похожим на книксен при приветствии или прощании. Лицо при разговоре или усталости покрывалось красными пятнами, руки были мясисты и красны».
Но это, так сказать, внешний портрет. Что касается внутреннего содержания, то здесь проявляются еще более уродливые черты. «…Ей нельзя простить, – пишет Кони, – тех властолюбия и горделивой веры в свою непогрешимость, которые она обнаружила, подчинив себе мысль, волю и необходимую предусмотрительность своего супруга. Она не любила русский народ, признавая в нем хорошим лишь монашество и отшельничество; она презирала его и ставила ниже известных ей европейских народов… Еще более нельзя ей простить и даже понять введение дочерей в круг влияния Распутина, послужившее еще лет семь назад поводом к увольнению фрейлины Тютчевой. Опубликованные в последнее время письма несчастных девушек к наглому и развратному «старцу» и их имена на иконе, оказавшейся на шее его трупа, показывают, в какую бездну внутреннего самообмана, ханжества и кликушества, внешнего позора, огласки и двусмысленных комментариев повергла своих дочерей «Дармштадтская принцесса», ставшая русской царицей и воображавшая, что ее обожает презираемый ею русский народ…»
История с увольнением гувернантки великих княжон мадемуазель Тютчевой, о которой упоминал ф. Кони, была известна всему Петербургу и Москве. Все началось с того, что «чудотворец», под предлогом совершения молебна, появился в комнате царских дочерей, когда они, надев ночные сорочки, готовились ко сну. Тютчевой это не понравилось, и она, усомнившись в благих намерениях и святости «Божьего человека», заговорила об этом с императрицей. Последняя была разгневана, но не Распутиным, а Тютчевой. С ней состоялся «крутой» разговор, и она была уволена.