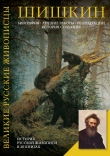Текст книги "Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Медведь одиночества
Земля поседела, измученная ожиданием зимы, солнце светило куда-то мимо.
Когда Василий Андреевич прикатил в коляске Юшкова к Тургеневым, все уже были в шубах, и Кайсаров читал с листа свои стихи, посвященные отъезжающему другу:
О ты, которого так много я любил,
Кого любезнее, всего милее чтил,
Чья дружба кроткая мне счастье доставляла
И в одиноку грудь отраду мне вливала…
Стихи были короткие, но не без надрыва.
И мне назначено суровою судьбой
Далёко от тебя вести в тоске век свой.
Все поднялись, расцеловались, старый слуга подошел к Андрею с иконою Божией Матери Путеводительницы. Андрей приложился, осенил себя крестным знамением. Подмигнул Жуковскому:
– Трепещи, Петербург, Москва на тебя пошла!
Провожать Андрея поехали отец, братья, Жуковский. Проводили до Черной Грязи, на двадцать шестой версте попрощались.
Уже через неделю Василий Андреевич получил от сердечного друга пространное письмо, вернее, три письма в одном. В первом Андрей писал о Марии Николаевне. Писал с восторгом, будто это он влюбленный. Сравнивая супругов, Свечина называл «балалайкой», Марию Николаевну «арфой». «Я смотрел на них вместе и чувствовал, что не так бы должно быть, если бы в этом мире царствовала гармония. Я знаю другой инструмент, который мог бы аккомпанировать, но вздохнем оба от глубины сердца. – И Андрей переходил в атаку. – Ты должен приехать и быть здесь. Между вами святая и невинная связь…» И далее с тем же восторгом, не замечая собственного бессердечия: «Мария Николаевна была в белом. Какая-то томность при свечах делала ее пленящею».
Жуковский тотчас увидел эту томность, это бунинское в глазах, в очертаниях губ, пепельную дымку кудрей, а Тургенев с настойчивой беспощадностью передавал слова Марии Николаевны, сказанные о юном дядюшке своем: «Какой он милый (с чувством и неизъяснимой приятностью)! Боже мой, как мне жаль, что здесь нет Василия Андреевича… Ах, как часто он бывает задумчив».
Сорваться и скакать в Петербург на последние гроши? Соляная контора – хуже кандалов. Неволя, может, и не добровольная, но дающая пропитание.
Второе письмо Андрея – его ответ на письмо Екатерины Соковниной, третье – ее письмо к Андрею, пересланное Жуковскому для прочтения и совета. Письмо возлюбленной Тургенева сочинено было высоким слогом, но писала его женщина, для которой высокие чувства – дразнящая воображение игра, а продуманное, взвешенное замужество – жизнь непререкаемо правильная.
«Но ежели судьба нас определила на другое, – писала Екатерина Михайловна, – то мы заранее к тому приготовимся… Вас еще другая эпоха ожидает: слава! Стремитесь за ней, и она вас утешит… Не огорчайтесь обо мне. Надежда еще не умерла в моем сердце».
Вот и замена найдена: слава. И от отчаянных поступков защита: надежда.
Жуковскому было плохо в Москве. В январе отбыл в Петербург Митя Блудов. За ним Кайсаровы, Паисий и Андрей. В начале февраля всем семейством подались в столицу Тургеневы. Иван Петрович желал учить Александра в Геттенгене, а лучше бы в Париже. Без аудиенции у императора такого вопроса не решить.
Жуковскому было так одиноко, что даже Соляная контора стала терпимой: заглатывала день, пусть бессмысленно, зато о себе некогда раздумывать.
«Дружеское литературное общество» Василий Андреевич перестал посещать. Без Тургеневых, без Кайсаровых Воейков навел своих приятелей, говорунов, особенно красноречивых за бокалом вина.
Жуковскому открылось, что среди толпы одиночество горше, чем в четырех стенах или в лесу.
Ему был сон. Увидел себя медведем, поднявшимся из берлоги посреди зимы, шатуном.
Тогда он вытер ноги о свою деревенскую робость и постучался в дом Карамзина.
Уж если ты Карамзин, то в каждом русском доме, где умеют читать, ты член семейства. Об отечестве беседа, о Слове и Боге, о материях всечеловеческих, тончайших – как же без Карамзина? Карамзин всякому русскому, почитающему себя ответчиком за весь белый свет – первый товарищ. Даже самому заядлому спорщику, любое слово Карамзина подвергающему язвительному исследованию и полному даже отрицанию – все равно свой. В России уж так заведено: я и Карамзин, мы с Николаем Михайловичем. А изречения кумира! «Русский в столице и в путешествиях разоряется, англичанин экономит». «Англичане живут в городе, как в деревне, и в деревне, как в городе».
Василий Андреевич трижды видел Карамзина. В Пансионе, где говорил ему речь, на Никольской – Андрей Тургенев водил знакомиться, встретил однажды в лавке Бекетова, но чтобы один на один, чтобы занижать собою время Карамзина!
Николай Михайлович принял родственника по-домашнему. На нем был халат черного без блеска бархата, белоснежная, с открытым воротом, рубашка, на ногах татарские сапожки, мягкие, козловые и, кажется, без каблуков.
Великий писатель глянул на красные щеки собрата по перу, улыбнулся:
– Зимушка!
– Воздух скрипит, как снег под ногами.
Николай Михайлович рассмеялся:
– За вами хоть записывай. Елизавета Ивановна хочет вас видеть, но сначала побеседуем о делах. Тургенев перед отбытием в столичную службу приезжал проститься и оставил для прочтения ваш пересказ «Элегии, написанной на сельской кладбище». Произведение сие громко – знаменитое, оно – исток нового направления в мировой литературе. Сентименталист поэзию глагола с готических высот приблизил к земле и поместил в человеческом сердце. Поэзия деяний и поэзия чувства пока еще существуют параллельно, но обязательно сольются в единое русло. В вашем пересказе державинский надсад, громогласие, а картина-то хотя и печальная, хоть и касается вечного, жизни и смерти, но ведь деревенская. Обычная. – Николай Михайлович положил руку на руку Жуковского. – Даровитость ваша неоспорима и в этом варианте пересказа, однако от вас нужно требовать не просто лучшего, но в высшей степени превосходного. И вот мой совет: отстранитесь от Грея, от его английской жизни. Говорите о русском. Пусть кладбище будет у вас то же, что в Мишенском – Елизавета Ивановна рассказывала мне об имении Буниных… Когда станете сочинять, держите перед глазами – родное. Но, может быть, вас удовлетворяет пересказ?
– О нет! – Василий Андреевич даже отстранил от себя листы своего же сочинения. – Я видел, насколько эго беспомощнее элегии Андрея, но я не мог разглядеть причины своего поэтического недомогания.
Николай Михайлович снова засмеялся.
– Точнехонько подмечено. Уж когда впадешь в недомогание, никакими переменами слов, строк, строф – неудачи не осилить. Коли не пошло само собою, смирись и отложи до лучших времен, а может, и оставь… Впрочем, стихи – наше потомство. Уродец бывает тоже дорог.
– Иные, не находя в своих сочинениях достойного, сжигают рукописи.
– Избави вас бог от гордыни. Сожженные рукописи – гордыня, сокрытие своей человечности. Слабости наши – самое верное проявление человечности!
– Николай Михайлович! – Жуковский встал, сел, снова встал. – Николай Михайлович, но это ведь вами сказано: гений не может заниматься ничем, кроме важного и великого. Вы предлагаете в пример Франклина, который, ставши ходатаем человечества за свободные его права, не жил уже для себя.
– Верно, сие написано мною. Но, сколь помните, это пересказ лекции Платнера… Нет, я не сжигаю рукописей. Юная наивность, даже молодое наше высокомерие, – а от него бросает в жар и бывает ужасно стыдно, – для сочинителя драгоценность. Разве такое измыслишь, взявшись писать о молодых, а тут вот она, живая молодость, кладезь наших глупостей. В ранних рукописях опытный сочинитель обнаруживает порою удивительное откровение, темы великие. Сил когда-то не хватило объять все это… – Карамзин усадил Василия Андреевича. Наклоняясь, в глаза посмотрел: – Вы сожгли все свое… раннее?
– О нет! – воскликнул Жуковский. – Я мало что написал… Я все не решаюсь…
– Не умничайте, тогда и получится, – просто сказал Карамзин. – Наше перо умнее нас.
– Николай Михайлович! – Жуковский отирал о фалды фрака вспотевшие ладони. – В чем тайна вашего стиля? Я трижды перечитал «Письма путешественника». Наизусть многое помню. «Темнота ночи мало-помалу исчезает. Горы открываются от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проницает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои». Здесь же ничего… я хочу сказать, где же здесь… то есть высокое, великое? Так все просто. Но ведь хорошо!
Карамзин улыбнулся.
– Тайна стиля, говорите? Язык Карамзина, Жуковский, – не безобразие, как о том пишут мои недоброжелатели, я отнюдь не чудо. Язык Карамзина – холсты. Я готовлю холсты, на этих холстах напишут иные поколения. И прежде всего поколение Андрея Тургенева, Василия Жуковского… Издание «Вестника Европы» дело решенное. Я обязательно напечатаю «Элегию» Андрея Ивановича и очень жду вашу. Дерзайте…
– Я заберу это! – Василий Андреевич потянулся к листам со своим пересказом «Сельского кладбища» Грея.
– С одним условием: новый вариант «Элегии» вы отдадите «Вестнику Европы»! – И Николай Михайлович подбросил и поймал медаль, лежавшую на столе. – Вот видите, пиитов тоже награждают. Медаль в память коронации.
Карамзин положил медаль перед Жуковским.
– Какова надпись! «Залог блаженств всех и каждого». – Правда, колонна почему-то обрезанная. – Перевернул. – Государь молод – стало быть, и государство Российское помолодело. Удачно помолодело. Но мы ведем себя уже бессовестно. Елизавета Ивановна ожидает вас.
Они прошли в светлицу. Елизавета Ивановна сидела за пяльцами.
– Васенька! Я ведь помню вас, когда вы были радостью Мишенского – Васенькой. Не хочу вас называть иначе.
– Я готов убежать в Мишенское хоть сегодня! – признался Василий Андреевич. – У меня от Соляной конторы в мозгах скрипит.
– Всякая служба требует терпения! – улыбнулась Елизавета Ивановна.
– Ах, если бы одного терпения! Пресмыкания она требует. Ползанья на брюхе перед каждым, кто чином выше.
– Чиновничество – неизживаемое зло России. Первейшее! – согласился Карамзин.
– А крепостничество?!
– Тут дело сложное. Тут ведь немало хорошего, патриархального.
И Жуковский поймал себя на том, что маскирует свое недоумение миной заинтересованного слушанья.
Отставка
Апрель исплакался. Шесть часов утра, значит, солнце уже взошло, но за окном серая тоска.
Василий Андреевич разогнул спину – не заметил, как час пролетел. Неделя-другая – и первый том «Дон Кишота» будет кончен. Отложил перо – походить надобно, ноги размять. Шагая, взял с бюро письмо Андрея Тургенева. Андрей болен Москвою, как сам он Мишенским.
«Вспомните этот холодный сумрачный день, – письмо и к нему, и к Мерзлякову, – и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами… Вспомните себя и, если хотите, и речь мою; шампанское, которое вдвое нас оживило; торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец; вспомните – и вы никогда позабыть этого не захотите. Вы отдадите справедливость нашему Обществу. Его нет, но память о нем вечно будет приятнейшим чувством моего сердца.
Перед глазами стояли темно-багровые с огнем диваны. Дом Воейкова показался просторным, но чтобы развалившимся…
Увы! Общества уже нет. Сборник «М.Ж.Т.» лишь мечта…
Не апрель серый – жизнь.
Передернуло. Что за год?! Смерть императора, зловещие шепотки об этой смерти… Потеря возлюбленной, отъезд друзей, великое горе Карамзина… Елизавета Ивановна родила в марте дочь Софью, но роды были тяжкие, не оправилась. Могила Елизаветы Ивановны на кладбище Донского монастыря.
Василий Андреевич зажег еще три свечи, сел за стол, взял папку с либретто. Издатель Попов заключил договор на перевод оратории Гайдна. Либретто по мотивам англичанина Джеймса Томсона написал немец Ван Свитен. Предстояло англо-немецкое превратить в русское.
В стихах солнце, когда солнце в сердце, а в сердце – мгла. Еще час времени, и явится Максим, с кофе, с мундиром. Выю в рабскую рогатку, и опять тащись среди сутулых московских улиц, страдая за измученную холодом весну. И для чего? Чтобы ухнуть в обморочную тишину Соляной конторы, убить полубездельем еще один великий день. А у Мясоедова подагра взыгрывает – Господи, избавь от высокого внимания их высокородия.
К директору пригласили, едва переступил порог конторы. Мясоедов, зеленый от немочи, потряс перед лицом розовощекого конторщика стопою бумаг.
– Вы смеете этак?
– Что я смею? – не понял Василий Андреевич.
Мясоедов кинул бумаги на стол и тыкал, тыкал в них перстом:
– Так фельдмаршалы пишут на поле брани. Размахался! Мелюзга тринадцатого разряда, но даже в начертании букв – непочтение!
– Вы старый дурак! – тихо сказал Василий Андреевич.
У Мясоедова отпала челюсть, он щелкал ею, но слов не было. Медленно поднял руку, указал на дверь. Жуковский вышел, сел за стол, ни к чему не притрагиваясь.
Минут через десять к нему подошел один из старших чиновников.
– Вам приказано покинуть присутствие.
Василий Андреевич поднялся, поклонился чиновной братии, не смевшей даже глазами его проводить, вышел на воздух.
На черной, в бусинах дождя, ветке старой липы сидела синица и свистела, свистела что-то очень счастливое.
Николай Иванович Вельяминов уже через час прислал записку. Обещал уладить печальное недоразумение, но просил не мешкая поторопиться в Соляную контору, упасть Мясоедову в ножки, моля сыновнего прощения.
Василий Андреевич Николаю Ивановичу не ответил, в контору не пошел, сел переводить либретто.
Явилась полиция: за нарушение присяги по статье «Неуважение начальства» полицмейстер Москвы городового секретаря Жуковского подвергал домашнему аресту.
Арестант сел писать письма: в Петербург – Андрею, в Мишенское – Марии Григорьевне.
Арест – дело громкое.
За своего воспитанника вступился директор Благородного пансиона Антон Антонович Прокопович-Антонский, его прошение поддержал вернувшийся из Петербурга Иван Петрович Тургенев. Волновались друзья – Мерзляков, Воейков.
Андрей прислал ответ уже на третий день: почта в старой России была быстрая. «Я не рад, очень не рад этому, что ты будешь в отставке, – писал огорченный товарищ, – но что же было делать на твоем месте? Если все еще можно поправить, я бы этого очень желал, но если тут оскорбится чувство твое, если будет хоть тень оскорбления для твоей чести, то делать нечего».
В начале мая пришло письмо из Мишенского.
«Нечего, мой друг, сказать, а только скажу, что мне очень грустно, – писала Мария Григорьевна. – Теперь осталось тебе просить отставки хорошей и ко мне приехать. Всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками».
– Судьба! – Василий Андреевич поцеловал письмо мудрой своей «бабушки».
Сердце билось, замирая. Свобода! Жизнь вольного сочинителя.
Из Москвы укатил в конце мая, на сиреневую благодать поспешал.
Милая родина
Туманы Оки слились с туманами Выры, затопили равнину и, клубясь, потекли в ложок между имением Буниных и Васьковой горою. Беседка свободного сочинителя Жуковского превратилась в корабль, плывущий по облакам.
Писательскую жизнь Василий Андреевич начал не с покупки стада гусей на перья. Он приготовлял себя к созерцанию. Отец и мать поэзии – уединение и созерцание. Погубитель высших устремлений человечества – чиновничья суета, страсти вокруг общественного пирога. Почитая себя другом вечности, Василий Андреевич похерил в Соляной конторе саму возможность роста по табели рангов. Там она, у Мясоедова, жуткая лестница чинов, звезды и кресты. Каждая ступенька Мясоедовой лестницы – призрак полезности и нужности. И верный путь в пустоту забвения.
Оседлавши облака, сошедшие ради поэта с небес на землю, Василий Андреевич не токмо душою, но кожей чувствовал единение с Творцом.
Вот она, его надмирная башня.
Плотник Пров с двумя сыновьями за день поставили беседку, точь-в-точь по его рисунку. Васькова гора вершина не ахти какая – бугор, но с этого бугра он судия столетиям, житель Вселенной. Поэзия вздымалась в нем, как вешняя, вода перед плотиной. Ища в себе поэму, страдая, ибо поэзия, не ставши словом, все равно что вера без храма. Василий Андреевич изводился за каждый потерянный день. И, чтобы чудо не умерло в сомнениях, не иссякло, не сыскав выхода, он принес нынче в беседку элегию Томаса Грея и свой пробный перевод. Стихи перевода блеклые: Карамзин добрый, мягкий человек – не испепелил, но подал даже надежду…
Туман возле сиреневых зарослей имения – сиреневый… Коровы замычали. Стадо спускается с Мишенского холма в белую пучину. Коровы то ли идут, то ли плывут по молочному морю.
Погрезился и запах молока. Когда стадо возвращается вечером в деревню, поднятая пыль, трава, сам воздух – пахнут молоком.
Перо само собой побежало по белому листу:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой.
Усталый селянин…
(в голове чредою рифмы: рукою, покою, порою)
медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.
Утро, но перед взором почему-то поздний вечер.
В туманном сумраке окрестность исчезает…
Повсюду тишина, повсюду мертвый сон…
Со дна молочного моря шумно выпархивают утка с селезнем. Хлопотливо трепеща крыльями, летят навстречу потокам света.
В туманном сумраке окрестность исчезает.
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
Все это правда. Вчера они с матушкою, с Елизаветой Дементьевной, засиделись вечером на лавочке, и майские жуки прилетали вдруг из потемневшего сада, а где-то у Фатьянова звенел и звенел колоколец заблудившейся коровы.
…Вспомнилось детство, тяга к полетам полуночниц сов. В имении были две деревянные башни, и в этих башнях жили совы.
Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвнаго владычества покой.
Под кровом черных сосни и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.
Лицо горело, ужасно хотелось хлеба.
Василий Андреевич положил руки на лист, словно написанное могло улететь, как улетели селезень с утицей.
Вдруг сделалось горько. Отца он знал стариком. Раздумался о матушке. У нее были мать, отец, его дедушка, бабушка. Может быть, они живы, не ведают о внуке. А пращуры той солнечной страны? Над их могилами ветры моря, ветры гор. Земля же там – история человечества. Эллины, византийцы, крестоносцы, османы…
Стало жарко. Поглядел на ложок: куда же исчез туман, а небо – ни единого облака.
Опять захотелось хлеба, и он поспешил домой. Думал, что промочит ноги, но луг порос манжеткой. Тяжелые капли росы сияли со дна рифленых чаш.
Он увидел босоногих детей с лукошками – в такую рань за щавелем бегали. Капуста, знать, кончилась, а без щей какая жизнь!
Увидел старика с вязанкою лозы: будет плести корзины.
Уплыл в себя, и вдруг в ноги подкатилась счастливая от встречи собака. Кофейно-крапчатый ливербельтон. Его догонял крестный матушки Дементий Голембевский.
– Узнала своих? – Старик показал ведро, полнехонькое ершами. – Приходи на уху. Кстати, у меня на псарне пополнение. Курухаару в Белёве купил. На осенней высыпке все вальдшнепы будут наши.
– Я не охотник, – повинился Василий Андреевич.
– Куда ты денешься? Бунинская порода.
Василий Андреевич улыбался: ему подумалось, что он тоже возвращается домой с уловом. Четыре строфы прилетели в его тетрадь. Душа их привела, как приводит за собою верный голубь стаю прекрасных птиц.
Завтракали всем семейством, за большим столом.
Во главе «барыня» – Мария Григорьевна, по правую от нее руку Елизавета Дементьевна. Далее дочки покойной Варвары Афанасьевны Юшковой. Анне – шестнадцать, Маше – четырнадцать, Дуне – двенадцать. По левую руку от хозяйки Мишенского – Ольга Яковлевна.
Мария Григорьевна, целуя Васеньку в точеные бровки, показала сесть напротив себя.
– Раннюю птаху Бог золотыми зернами кормит. В пять часов небось вскочил?.. Господи! Никак не привыкну к тебе. Длинный, в бабьих кудрях.
– Бабушка! – Анна даже стулом двинула. – Он – поэт! Парики теперь – вчерашний день.
– Знаю, что – поэт! – И уж так тяжко вздохнула, будто поэт – воз неподъемный.
– Жуковского вся Москва знает! – не сдалась отважная защитница.
Василий Андреевич подошел к матушке, поцеловал ей руку.
– Помолимся. – Мария Григорьевна поднялась с креслица. – Друг мой, молитву читай.
Только теперь Василий Андреевич сообразил: он в царстве женщин единственный мужчина, единственный мужчина в доме.
Дуняша, похорошевшая, умноглазая, спросила, опуская ресницы:
– Василий Андреевич, а вы с московскими поэтами водили знакомство?
– Я дружен со сверстниками: с Андреем Тургеневым – это будет великий поэт, с Воейковым, с Родзянко. В пансионе было немало сочинителей. С Алексеем Федоровичем Мерзляковым, он теперь профессор университета. Встречался в Лавке у Бекетова с Василием Львовичем Пушкиным, был у Ивана Ивановича Дмитриева.
– А Карамзин? Каков он? Это же океан таланта и ума.
– Какие вы дурехи! – ахнула Мария Григорьевна. – Умен тот, кто без роду-племени, а генералы!
– Карамзин – слава России, – поперечила бабушке неугомонная Анна.
– Слава – не масло, на хлеб не намажешь. У Василия Андреевича тоже небось слава.
– Карамзин в обращении ласков. Он совершенно доступный человек, – не давая разразиться грозе, поспешил с рассказом Василий Андреевич. – Мы говорили с ним об элегии Андрея Тургенева, о моей элегии. Николай Михайлович нашел мои наброски – обнадеживающими… И сегодня, кажется, я сыскал ключ к «Сельскому кладбищу». Четыре строфы почти готовы, а может быть, и вполне даже готовы.
– Почитай! Почитай! – потребовала Анна.
– Мне пора наведаться на почту, и я обещал быть у Екатерины Афанасьевны. Вечером – к вашим услугам.
Екатерина Афанасьевна имела дом в Белёве. Не пожелала вести жизнь приживалки возле властной матушки.
Во дворе крестника окликнул старик Жуковский.
– Далеко ли?
– В Белёв.
– Да что же пешком, я еду в Спасо-Преображенский за свечами да в Кресто-Воздвиженский. Моя Ольга Яковлевна матушке Матроне медку просила отвезти.
Неторопко прокатиться на лошадке лугами тоже хорошо.
Заговорили о Екатерине Афанасьевне.
– Гордая женщина! – повздыхал Андрей Григорьевич. – Господи, ей уж за тридцать, но ведь первая красавица в Белёве. Первейшая! Однако ж вдовствует строго. Черного платья так и не сняла. Ради дочерей живет… Про пожар-то тебе, должно быть, матушка отписала?
– Мне о недобром не сообщают.
– Пожар случился – вовек небывалый! Половина города – в прах. Огонь-то на монастырь перекинулся. В Кресто-Воздвиженском – матушки, но отстояли обитель, отмолили, а Спасо-Преображенский два дня полыхал. Колокольня сгорела! Было семь колоколов, стал единый слиток меди. Нарочно взвесили – 298 пудов потянул. Уж такой ветер бушевал – головни в Оку летели. Как змей, шипела река-то!.. Всё – новый герб, Павлом Петровичем дарованный.
– А какой у Белёва герб?
– В голубом поле золотой ячменный сноп, а из сего снопа – пламя! О Господи, прости Ты нас, грешных! Так я тебе скажу, Васенька, что ни делается – к лучшему… Ты небось думаешь – в Белёве черно и трубы торчат… Новехонький Белёв. План из Петербурга доставили. Улицы – как стрелы. Муравейника больше нет. Купчики-то наши, на хлебе, на пеньке, на семени конопляном – великие тысячи огребают. Прежде жили-теснились, а теперь что ни дом – дворец. На широкую ногу пошла жизнь: денюшки напоказ. Да и слава богу, чего ради нищими притворяться!
Дом Екатерины Афанасьевны Протасовой стоял на Крутиковой улице. Улица заканчивалась гусиным лужком и обмиранием сердца. Под ногами разверзалась изумрудная травяная бездна, на дне – Ока лентой, за Окою – простор. Неоглядный. Лопатки чесались – до того хотелось крыльев.
Екатерина Афанасьевна, в пронзительно белом чепце, в черном бархатном платье, при виде Васеньки одолела оцепенение свое, ожила.
– Боже мой! Господи! Свет ты наш! Василий Андреевич! В уединение наше! В затвор белёвский!
– Коли Белёв, стало быть, – бел. – Василий Андреевич, расцелованный в щеки, тронул губами мраморную руку… сестрицы. – Чиновную прозелень мою смывать где, как не в Выре?
– Что прижукнулись?! – подзадорила дочерей Екатерина Афанасьевна. – Встречайте свое счастье.
Семилетняя Саша, раскрыв объятья, налетела с такой прытью, что пришлось ее подхватить, и она очутилась на руках, выставляя губки, чмокала Василия Андреевича в щеки, в глаза, в нос.
– Фу! Александра! – возмутилась Екатерина Афанасьевна.
– Самый! Самый! – Сашенька положила головку на плечо своему другу.
– Немедленно сойди с рук! – приказала матушка.
Маше было девять лет, она подошла к Василию Андреевичу, робея поклонилась.
– Маша, да поцелуй же ты Василия Андреевича! – снова возмутилась Екатерина Афанасьевна.
Щечки у Маши запылали, она крепко зажмурилась, губки у нее были, как огонь.
Василий Андреевич привез девочкам целый зверинец глиняных игрушек: длинношеие полосатые олени, кони, коровы, наседка с цыплятами. Все полосатые, из соседнего Филимонова. Был еще золотоголовый, с зеленой шеей, с красным телом – то ли козел, то ли баран. Был и пастух на трехглавом коне.
– И вот, вот! – Василий Андреевич достал из саквояжа кожаную золоченую папку, а в папке литографии зверей, птиц, рыб – со всего света.
– И вот, вот! – снова сказал Василий Андреевич, выставляя резную шкатулку в виде замка.
Вставил ключ в ворота. Повернул. Тотчас пропела труба, распахнулись двери. В дверях появился принц. Встал на одно колено, протягивая дамам цветок. Цветок – колокольчик, зазвенел раз, другой, а потом ещё, и ещё, но тише, тише.
– Прелесть! – сказала Екатерина Афанасьевна. – А у меня тоже есть подарок.
И принесла из своей спальни серенькую книжицу «Вестника Европы».
– Здесь «Элегия» твоего друга Тургенева.
Жуковский открыл заложенное место.
– Андрей! – поцеловал страницу. – Так вот являются в мир великие поэты!
Посмотрел счастливыми глазами на девочек. Маша, склоня головку, разглядывала литографию прекрасноокой жирафы, а Саша дула в глиняные свистульки. Во все по очереди.
– Васенька, что ты наделал! – зажала уши Екатерина Афанасьевна. – Александра, ты меня оглушила.
Василий Андреевич поднял над головою папку с литографиями.
– Предлагаю состязание! – Девочки радостно воззрились на своего любимца. – Берем по листку, никому не показывая, смотрим, изображаем, что там, на картинке, а все отгадывают, кто сей зверь.
– Чур, первая!
Саша схватила листок, затворилась в спальне.
Ее зверек бегал по комнате и облизывался, бегал и облизывался.
– Угадали?
– Кот, сожравший масло! – сказала Екатерина Афанасьевна.
– Волк, – предположила Маша.
– Лиса!
– Лиса! Лиса! – закричала Саша. – Жуковский, миленький, ты угадал!
– Лиса? – Василий Андреевич поднялся с дивана и так прошел по гостиной, так зыркнул на глиняного петуха, так ему улыбнулся, что Екатерина Афанасьевна захлопала в ладоши.
Маша, не заглядывая в лист, встала на одну ногу, а руки поставила коромыслом.
– Цапля! – сказала Саша. – Но вообще-то чучело.
– Василий Андреевич, изобрази нам цаплю! – попросила Екатерина Афанасьевна. И ахнула: – Копия!
Девочки от восторга чуть было не уронили стоявшую на одной ноге цаплю.
– Наш Жуковский! Наш Жуковский! – кричали они друг перед дружкой, позабывши все уроки французского воспитания.