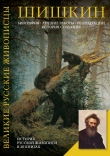Текст книги "Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Утрата
Труженики по рабочим будням скучают, как по родным.
Жуковский примчался в Мишенское, будто Васькова гора могла, обидевшись, уйти за тридевять земель.
Пылая жаждою трудов, чаял замахнуться на великое, но в первый же утренний поход на Васькову гору ощутил странную зыбкость не жизни своей, не положения своего, но зыбкость мира. Будто все это – Мишенское, Ока и Выра, все это могло… перемениться.
Когда ему подали письмо от Ивана Петровича Тургенева, вдруг ощутил на себе мундиришко городового секретаря Главной Соляной конторы. Вскрывал конверт в ознобе…
Избегая первых строк, глянул в середину листа: «Лечил лучший медик государев». Значит, Андрей! Но ведь государев лекарь-то! Глаза беспощадно прочли: «А мой цвет увял в лучшую пору».
Сердце надорвало христианское покорнейшее «Верую». Иван Петрович глаз не выплакивал, но его масонское упование на всемогущество разума перед бедою – пыль словес. «Он жив, жив любезный Андрей! Как ему быть мертву, когда ничто не умирает, а только изменяется. Природа то доказывает, разум утверждает… Что есть смерть? Переход от времени в вечность… Так, мой друг, все живет, ничто не умирает, а только изменяется и другой вид и образ приемлет… Как умереть Андрею? Как погаснуть его искре? Чем долее, тем пламя его будет чище».
Мир с места не сдвинулся, а Андрея нет! Василий Андреевич с ужасом смотрел на стопу листов – перевод «Дон Кишота», на толстенную тетрадь, сшитую из синих листов: «Историческая часть изящных искусств. Археология, литература и изящные художества у греков и римлян», на внушительный альбом с застежками (для записей прозрений и планов). О планы, планы! Сколько их! Исполни – и вот оно, бессмертье. Но мысль – всего лишь зерно. Нужна жизнь, чтобы росток вытянулся, а колос созрел.
Подвинул к себе третью тетрадь, для записи изречений. Сегодня утром занес в нее мысль Джона из Солсбери: «Плоды словесной науки милы нам во многих отношениях, и больше всего в том, что, отменяя всю докучливость пространственных и временных расстояний, они дают нам исключительную возможность насладиться присутствием друзей и не допускают, чтоб вещи, достойные познания, убила забывчивость».
Останется ли в памяти России – Андрей Тургенев? Столько обещал и всё унес с собою… Господи, нужны ли гении Небесам? Гении – для жизни.
– Не отступлю! – Василий Андреевич упал на колени перед иконою Вседержателя. – Господи! Моя жизнь в Твоей Воле, но я не отступлю. Благослови мечтания наши с рабом Твоим Андреем, мы готовили себя для великой службы Слову, Свету.
Плакал, смахивая слезы ладонью, но не кинулся в постель заспатъ врачующим сном скулящую боль. Сел за стол, достал стопу тетрадей, принялся надписывать. «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», «Для журнала чтений или экстрактов», «Для выписывания разных пассажей из читаемых авторов», «Для собственных замечаний во время чтения, для записки всего, что встречается достойного примечания, для разных мыслей», «Для отдельных моральных изречений».
Оставил перо, умылся и снова – к столу. Сшил еще две тетради. Надписал: «Примеры (образцы) слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским», «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо, перевод с французского, том первый».
Чувствовал, как дрожит сердце: отныне надлежит творить в одиночестве, но за двоих. В тетради, куда заносил пришедшие на ум сюжеты и образы, записал, что нужно сочинить в ближайшие годы: 1. «Марьина роща» – что-нибудь из «американской жизни» в подражание «Атала» и «Рене» Шатобриана. 2. Биографии великих людей (Жан-Жак Руссо, Лафонтен, Стерн, Фенеолон). 3. Статьи: «О садоводстве», «О счастье земледельца», «О вкусе и гении».
Перевернул страницу и написал, что нужно перевести из мировой литературы: “Оберон” Виланда, “Освобожденный Иерусалим” Тассо, творения Гомера, Вергилия, Лукиана, Овидия, “Дон Карлос” Шиллера – не исполненное с Андреем дело, произведения Вольтера, Буало, оды Горация и Анакреонта…»
Сверху втиснул: “Эпическая поэзия”: отрывки из “Мессиады” и Мильтона…».
Не зная, куда деть себя, выбежал из флигелька и кинулся в луга, минуя тропинки. Остановила буйная Выра. Смотрел на кипение воды на перекате, пошел к ветлам, сел на корневище. Стихи пошли сами собой, их словно бы листва нашептывала:
О, друг мой! Неужель твой гроб передо мною?
Того ль несчастный я от рока ожидал?
Забывшись, я тебя бессмертным почитал.
Святая благодать Предвечного с тобою!..
Вернувшись домой, записал все три строфы, закончив последняя строку бесшабашно начертанным восклицательным знаком:
С каким веселием я буду умирать!
В нем кипело, как в Выре.
В тетрадь для замыслов вписал сюжет еще одной повести: «Приступ: утро; пришествие весны; Весна всё оживляет, разрушение и жизнь – Андрей Тургенев… Краткость его жизни, гроб его. Надежда пережить себя. Опять обращение к весне: главные черты весенней природы (из Клейста); жизнь поселянина (из Клейста) цена неизвестной и покойной жизни, уединение, обращение к себе, к Карамзину, лес черемуха, ручей; гнезда, конь… озеро, рыбак, первый дождь».
И глазами – иконе:
– Господи, пошли долголетие, ибо задуманное – как молния, на исполнение задуманного – жизнь положить.
Дом
«Вестник Европы» попечатал повесть Василия Жуковского «Вадим Новгородский». Повесть предваряла поэма-плач: «О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, блаженная! – кричало сердце по Андрею Тургеневу. – Где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца…»
Карамзин тоже не остался безучастен. Слово его было краткое, простое: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств».
Потерявши сына, таланты коего почитал за сокровище с печатью мирового духа, батюшка его Иван Петрович замкнул сердце от наук, а правдивее сказать, бежал от университетского юношества. Получил отставку, купил дом в Петроверигском переулке на Маросейке, собираясь дожить оставшиеся дни отшельником, без чувств, без желаний. Но жизнь никогда не убывает – заканчивал учебу в Геттингенском университете Александр, младший – Николенька – был светочем Благородного пансиона, ему прочили золотую медаль и место на мраморной доске, пониже Кайсаровых, Воейковых, Жуковского.
А у Василия Андреевича вышел первый том «Дон Кишота». Он принес книгу порадовать матушку, да Мария Григорьевна не без гнева перехватила подношение.
Как ножом по сердцу резанула сия сцена бедного Василия Андреевича, но осерчал на самого себя. Сколько матушке ждать его сыновнего обещания свой дом поставить! Убежал во флигелек, взял большой лист бумаги и нарисовал мечту: двухэтажный просторный дом с итальянским окошком в центре второго этажа. Место для дома ни выбирать не надобно, ни тем более покупать. С 1797 года имел он недвижимость: дар от дочери Афанасия Ивановича Авдотьи Афанасьевны Алымовой – дом в Белёве, над Окою. Одна беда, хоромы сии били столь ветхие, что жить в них нельзя ни зимой, ни летом: стены мороз пропускают, а крыша – дождь.
Со своим планом поспешил к матушке Елизавете Дементьевне. Ей представил не столько рисунок, сколько смету расходов. Матушка призадумалась, а скорее всего биение сердца уняла, дабы не расплакаться, и благословила.
К Марии Григорьевне подступиться Василий Андреевич не посмел. Опасался какой-либо невоздержанности грозной барыни, но та, узнавши о затее от Елизаветы Дементьевны, поцеловала любимца в макушку и решила дело:
– В голове стишки, а ведь хозяин! С богом, Васенька. Пора тебе иметь свой дом. Строку-то о найме плотников зачеркни. Своих пришлю, наши не хуже белёвских.
Зимой Василий Андреевич закупал лес. Летом плотники раскатили по бревнышку старые хоромы, копали яму под фундамент. Дом недалеко от обрыва, строить нужно прочно.
Сам тоже был в трудах, с поспешанием заканчивал перевод «Дон Кишота». Грозились в гости друзья, Мерзляков с Воейковым. Обещали быть в Белёве из рязанского имения Воейкова – не приехали.
Но Господь послал дружбу Василия Ивановича Киреевского, хозяина сельца Долбино. Василий Иванович вышел в отставку в чине секунд-майора. В юношеские годы переводил английских поэтов, ибо любил мудрую жизнь островитян, а посему дом содержал в английском духе, хозяйствовал тоже на аглицкий манер. Сочинительством стихов переболел, и теперь на первом месте у него была химия, на втором – медицина, на третьем – философия.
Владел Киреевский пятью иностранными языками и библиотеку собрал превосходную.
Летом Василий Иванович зачастил в Мишенское и наконец, набравшись духа, посватался к Авдотье Петровне. Батюшка ее Петр Николаевич Юшков да бабушка Марья Григорьевна благословили влюбленных и венчание назначили на январь, через неделю после Крещения.
История государства Российского
Василий Андреевич снова ехал к великому Карамзину. Ладони уже не вспотевали, когда думал о встрече. В сердце ни восторга, ни радости. Все чувства и мысли перебивала маята. Наконец-то признался себе: тяготился сельским своим уединением. Пожалуй, с тою же болью, какая жила в нем… по Агапке. Девка исчезла из Мишенского, и никто из домашних о ней не вспоминал ни разу, а он стыдился спросить, где она. Замуж, должно быть, выдали, с глаз подальше. Случись беда – дворня бы не смолчала.
Дорога к Николаю Михайловичу стала короче верст на сорок. Вот уже третий месяц новоиспеченный историк жил возле Подольска, в Остафьеве, в имении князей Вяземских.
Не без тревоги ехал Василий Андреевич к преображенному Карамзину. Пусть побочная, но родня князьям: летом сыграл свадьбу с Екатериной Андреевной Колывановой – сукиной дочерью сенатора, князя Андрея Ивановича Вяземского. Да и сам уже не вольный сочинитель, а человек двора. Должность получил не ахти какую денежную, однако ж весьма почетную – государственный историограф.
Не слава первого писателя России доставила автору «Бедной Лизы» царскую службу – протекция. Михаил Никитич Муравьев, товарищ министра народного просвещения, – словечко замолвил императору. Михаил Никитич был учителем Александра, преподавал русский язык и русскую историю.
Доходы от «Вестника Европы» были вдвое против царского жалованья, но Николай Михайлович, как и обещал, из журнала ушел. Вместо себя предложил друга молодости, сослуживца по Преображенскому полку Панкратия Сумарокова. Панкратий Платонович тонул в долгах, но издательское дело знал. Два журнала редактировал в Тобольске, переехав в Тулу, затеял еще один: «Приятного, любопытного и занятного чтения». Эпохе Жуковского в журнале время не приспело.
Принял Николай Михайлович Василия Андреевича ласково, но был он и впрямь другой. На лице сосредоточенность. Говорить стал медленнее. Василий Андреевич насторожился: «Должно быть, каждое слово у него теперь, прежде чем с языка слететь, на весах взвешивается».
– До великой беды дожили, – сказал Карамзин, ycaживая гостя в мягкое кресло.
– До беды?! – удивился Жуковский. – В дороге ничего не слышал… Пожар?
– Будет и пожар. – Николай Михайлович потер озабоченно лоб. – Наполеон посла отозвал из Петербурга, генерал Гедувиль уже уехал.
– Гедувиль, должно быть, республиканец, а Наполеона сенат провозгласил императором.
– Ах, если бы так! Речь не о перемене посла. Отзыв – иное. Прекращение дипломатического диалога. Бонапарт посчитал неприличным, даже глупостью со стороны Петербурга объявить траур по герцогу Энженскому.
– Но это же было ужасно! Герцога схватили в Эттенхейме, на территории герцогства Баден. Тотчас и расстреляли возле Венсенского замка.
– Какая дивная у вас память! И замок помните, и город… Боюсь, многие неизвестные деревушки и реки скоро станут достоянием истории. Кровавые битвы, громовые победы, ошеломительные поражения…
– Но Россия, слава богу, далеко от Наполеона.
– Пока далеко. Сардинское королевство новоявленный император уже захватил, на очереди Неаполитанское. Но довольно о политике. Скоро обед. Обедать нужно в добром настроении.
Повел гостя показать парк. Тут, на природе, Василий Андреевич и опростал свои душевные тайники.
– Не казни себя, – утешил Карамзин. – Твои теперешние чувства – усталость и недовольство собою. Задатки могучие, а сделанного мало. Поверь, всему свое время. Душа жаждет мир повидать – так собирай саквояж не мудрствуя. – Вздохнул, показал на старые липы: – Я думаю, мне до конца жизни будет этого достаточно. Дворцы, мундиры, бриллианты, пойманная улыбка государя… Теперь я, слава богу, при деле… Всему свое время… Возвращайся в свет; в кипение страстей, слишком ты молод для затворничества.
– Свет для таких, как я, побочных детишек, завуалированное шутовство. Поэт среди князей и княжен – забавная игрушка. Но я вижу, мне из Мишенского не дотянуться до светочей разума. Книги без профессоров, без среды посвященных – не имеют ни вкуса, ни аромата, ни цвета. Я даю себе три года на завершение образования. Год на Парижскую Сорбонну, год на Геттингенский университет и год на путешествия: Италия, Англия, Испания… Швейцария…
– А Вена? – улыбнулся Карамзин.
– Вена! Да ведь и славянские страны! И Скандинавия!..
– Манит, манит свет Европы жаждущих знаний русаков! Даже если в Европе Наполеон… Друг мой, прекрасные, здравые планы! – Карамзин пожал руку Василию Андреевичу. – А для меня Европа… погасла. Для меня разверзается во всей своей необъятности – судьба России… Год тому назад мы как-то заговорили с тобой о Пугачеве, об Иване VI, Петре III… Хочу почитать тебе самое свежее, то, что вчера писал…
Но их позвали. Приехал Василий Львович Пушкин.
– Ко мне теперь редко наведываются, – улыбнулся Карамзин. – Стихами не бряцаю, не до статеек… А разговоры мои о России для большинства – скука смертная.
Василий Львович был в удивительном однобортном фраке, волосы прилизаны, блестят жирно, благоухают.
– Вот он сам Париж! – Николай Михайлович обнял расцветшего от комплимента Пушкина.
В прошлом году знаменитый московский модник посетил Берлин, Париж, Лондон. Письма Пушкина к Карамзину печатались в «Вестнике Европы». Толковые письма. Василий Львович слушал лекции аббата Сикара, обучавшего грамоте глухонемых, свел знакомство с поэтами Дюсисом, Виже, Мерсье, посетил знаменитую графиню Жанлис, чьими романами зачитывалась Россия, успел стать своим в салоне Жанны Рекамье. В музее Наполеона восхищался «Венерой Медицис», в Сен-Клу «Федрой» придворного художника барона Гереня. Был на приеме Жозефины Багарне и на аудиенции ее супруга Первого консула Франции.
«Физиономия его приятна, – написал наш путешественник о Наполеоне, – глаза полны огня и ума; он говорит складно и вежлив».
– Василий Львович, а Бонапарт перестал быть вежливым, – припомнил Пушкину сей опус Карамзин. – По крайней мере, с Россией.
– Наполеон – генерал! Он просто заскучал без войны!
– Ах, не веселитесь! Великие люди малыми войнами не довольствуются! – Историк не скрывал озабоченности. – Наполеону подавай славу Александра Македонского.
– Значит, ему нужна Индия!
– Боюсь, прежде всего он будет искать славы в победах над сильнейшими противниками, кои близко.
Сели обедать. К обеду вышла Екатерина Андреевна.
Николай Михайлович представил супруге Жуковского. Пушкин на правах старого знакомого позволил себе приятельски восхититься Екатериной Андреевной.
– Ваши домашние наряды – праздник. Ах, мне бы подобное бесподобное искусство!
– Секрет простой. Я доверяю своим дворовым портнихам. – И Екатерина Андреевна потянула ноздрями воздух. – Василий Львович, я теперь понимаю, почему в Москве только и говорят, что о вашей голове. Это же бальзам владык Востока!
– Самый что ни на есть парижский, но редчайший. – Пушкин наклонил голову в сторону Екатерины Андреевны. – Тайна сего бальзама не токмо в аромате. Поверите ли, – как намажусь, так в голове – стихи! Перо само летит по бумаге… Я заказал еще три флакона и обязательно поделюсь с Николаем Михайловичем.
Карамзин всплеснул руками.
– Я уже не сочиняю стихов! Вот разве Василий Андреевич! Он у нас сама поэзия.
– Жуковский, Москва почитает вас своим, а вы, ко всеобщему огорчению, – отшельничаете. – Екатерина Андреевна подала гостю соус. – У Василия Львовича бальзам, а у меня – соус… Вам бы для театра написать. Какое диво – Сандунова, Мочалов, Волков, Баранчеева. Их таланта хватает спасать от провалов фальшивые ничтожные трагедии, комедии. Но чтобы творить божественно, нужна божественная драматургия.
– В Париже я был на спектаклях Жорж! – Пушкин даже немножко подскочил на стуле. – Три грации – в одной. Если бы не Бонапарт, то Франция жила бы в эпоху Жорж. Она прекрасна, но более того, она сама гармония. Париж расколот на два лагеря. Одни поклоняются Дюшенуа, другие Жорж… Консул на стороне Жорж, и я его понимаю. Дюшенуа великая актриса, но она дурнушка! Вы, Василий Андреевич, были в Париже?
– Собираюсь…
– В Париже быть надобно каждому русскому! И – знаете, почему? Да чтобы парижане доподлинно понимали, сколь они необходимы Вселенной. Мы, русские, жить не умеем. Но зато как восхищаемся!
Василий Львович изрек сию тираду, и было видно, сколь он доволен собою. Воскликнул:
– Жуковский! Я покорен вашей мудростью в столь младые лета. Вы не в столицы ринулись шаркать по прихожим. Вы избрали благословенную жизнь поселянина, и, попомните мое вещание, жизнь сия отблагодарит вас твореньями духа высочайшего! Вы станете примером для юношества.
Пушкин расточал похвалы Василию Андреевичу не совсем бескорыстно, ему не терпелось прочитать свое новое сочинение «Сельский житель». И прочитал:
Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает,
В кругу своих друзей, от шума удален —
и с ударением в голосе, рукою показывая на Василия Андреевича:
Средь бурь и непогод, он будущим богат.
Судьба труды его успехом награждает:
Здесь кравы тучные млеко ему дают;
Там стадо пестрое пригорок украшает,
Источники шумят, и соловьи поют,
И пчелы перед ним сок роз душистых пьют;
Он под жужжаньем их приятно засыпает.
Последние две строки:
И нежный в ней певец, природой восхищенной,
На лире счастие и радости поёт, —
прочитал стоя и кинулся целовать Жуковского.
Сразу после обеда Василий Львович уехал, его ждали в городе дела малоприятные. Предстояло появиться в суде по затеянному его супругой, красавицей Капиталиной Михайловной, бракоразводному процессу: обвинила в преступном сожительстве с вольноотпущенной девкой Аграфеной.
– Господи, кто без греха?! – махнул рукою Василий Львович и укатил.
– Европа на российский лад, – улыбнулся Карамзин и положил руку на руку Василия Андреевича. – Я обещал тебе почитать… историческое.
Поднялись в кабинет Николая Михайловича. Против свибловского это был воистину – кабинет. Вдоль стен приземистые, будто осевшие под тяжестью книг шкафы. Все – красного дерева. Но словно в пику шкафам – два огромных стола. Один – пюпитром. На нем древние грамоты, летописи. Другой обычный. Но оба из гладко струганной, некрашеной сосны. Окно, чуть не во всю стену, смотрело в парк.
– Отсюда я в такие дали засматриваюсь, самому страшно, – улыбнулся Карамзин.
Стулья в кабинете тоже были простые, жесткие, не для мечтаний.
– Я теперь пишу об Олеге. Олег не был князем, опекун малолетнего Игоря, но властвовал тридцать три года, до смерти. В начале своего правления Олег призвал в свою дружину не только новгородцев, но кривичей, весь, чудь, мери, а с большим войском он и над князьями был князем. Добился союза со Смоленском, но такого союза, что власть в городе вручил своему боярину. Завоевал Любич – это всё днепровские города, и возжелал Киева. В Киеве сидели Аскольд и Дир – воеводы Рюрика, городов, от него не подучившие. Они сами себе и добыли княжество. Да какое! Благословенный климат, тучные черноземы. Я думаю, Олег позарился на Киев и по более весомой причине. Новгород – вотчина Рюрика, продолжительного опекунства новгородцы не потерпели бы. Олегу нужен был свой город. А теперь я лучше почитаю: «Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воинском, принудила его употребить хитрость. Оставив назади войско, он; с юным Игорем и с немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев; скрыл вооруженных ратников в ладиях и велел объявить Государям Киевским, что Варяжские купцы, отправленные Князем Новгородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег: воины Олеговы в одно мгновение окружили их. Правитель сказал: вы не Князья и не знаменитаго роду, но я Князь – и, показав Игоря, примолвил: вот сын Рюриков! Сим словом, осужденные на казнь, Аскольд и Дир под мечами убийц, пали мертвые к ногам Олеговым…» – Карамзин положил рукопись на стол. – Вот начало Киевской Руси. Через поколение Владимир убьет предательски брата Ярополка. Святополк убьет братьев Бориса и Глеба.
– Такова природа власти?
– Такова природа человека. Каину было тесно на земле с братом Авелем.
– Как же вас полюбил бы Андрей Тургенев за сей гигантский труд! – вырвалось у Жуковского. – Вы один перед морем времен. И вам не страшно.
– Страшно, Василий Андреевич… Да ведь словечко к словечку, событие к событию, царствие к царствию. – И сказал без улыбки: – А литература-то российская теперь на ваших плечах.
Жуковский только вздохнул: всей его литературы – «Сельское кладбище». Правда, обещал Бекетову в декабре представить сразу три тома «Дон Кишота».