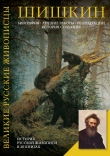Текст книги "Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Званка
Плыть по лону вод исконно русской реки – наслаждение уму и сердцу. Александр Семенович Шишков, хоть и досадовал на медлительное хода, но в то же самое время благословлял неспешное сие путешествие. И даже находил отрадное преимущество речного судоходства перед морским. Море – очарованная пустыня, у реки – берега. Зелеными клубами дубовые рощи, чудо березняков, золото сосен. Всё родное, и река родная. У рек облик народа, живущего по ее берегам. Вон какие дали-то! Богатырские. Окунись сердцем в сии дали, очами же в могучий поток – и ты сам частица сокровенной тайны Русской земли. Волхов. Волх, волхование.
Отправляясь в путешествие, Александр Семенович изучал карту.
Исток Волхова в озере Ильмень, впадает в Ладогу. А каковы притоки! Оскуя, Пчевжа, Кересть, Тигода! Вот оно, волхование, но о чем? Чей загад? В какие времена сбудется прореченное.
Александр Семенович сидел на корме. Запах чистой, должно быть, напоенной серебром воды пьянил непонятной, невесть о чем – грёзой. Теплые волны воздуха, пахнущего медвяным сеном, накатывали с покосов одна за другой. В груди было молодо. И на тебе – обольщенье!
Отгородясь от берега густыми ветлами, Паранька ли, Манька, а статью да живым мрамором – Венера – отжимала золотой сноп волос, должно быть, не токмо пят, но песка касавшихся. Красавица обмерла, увидевши перед собой ладью. Дивное мгновенье явившейся очам девичьей тайны, и – пассаж! Укрыла наготу власами.
– О, где же ты, Сандро Боттичелли! – воскликнул Александр Семенович и улыбался до самой Званки, думая о Державине: – Есть чего ради быть поселянином!
Званка открылась вдруг, поразив нежданностью. На ласково зеленом холме ослепляющий белизной храм с колоннами гордого бельведера. Столь же безупречная мраморная лестница прямо от воды. Посредине лестницы фонтан, извергающий алмазные струи. И всё это среди волшебного сада!
Царство Муз!
Едва Александр Семенович ступил на лестницу, грянул пушечный залп, и пока он шел по лестнице вверх, пушки палили. Аховый грохот новых залпов сливался с эхом. И небеса дрожали! Слава богу, не страшно, скорее, с бесшабашной радостью.
Пушки палили, но людей не было. Александр Семенович, дивясь затейливости Гаврилы Романовича, вступил на площадку перед фонтаном, выложенную мозаикой: Аполлон со всеми его Музами. Грохот пушек смолк, заиграл пастушеский рожок, и к поэту-адмиралу вышли ботичеллевские грации – недаром на ум пришли, – в прозрачном газе, держа над собою венок из полевых цветов и роз, а с грациями – Весна – несравненная Дарья Алексеевна, хозяйка Званки.
Грации увенчали адмирала венком, ваяли за руки, повели на лужок, и он очутился посреди хоровода, поющего русское, вечно молодое, призывно игривое:
Куманечек, побывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня,
Побывай-бывай-бывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня!
Хоровод плыл кругом, да всё быстрее, роговая музыка заливалась пуще, жарче! И – тишина. Хоровод растекся, и перед Александром Семеновичем, раскрыв объятья, стоял Державин.
– Экий ты Пан! – восхитился Шишков.
– Здравствуй, драгоценный наш воитель во славу русского слова! Здравствуй!
Сенатор обнял адмирала, и они пошли в беломраморный храм, оказавшийся уютным домом, за столы дубовые.
Скатерть-самобранка в серебре и хрустале, кушанья все русские, настоечки свойские, разве что шампанское из Шампани.
– Какое мистическое, какое вдохновенное место избрали вы, Гаврила Романович, для жизни, а стало быть, и служения русскому слову!
– За встречу! – поднял чашу Державин.
– За Волхов! – добавил растроганный встречей Шишков.
– Река полноводная, рыбная, что ни поворот – красота и восторг! – добродушно согласился Гавриил Романович.
– Мне чудится, Волхов назван Волховом в честь князя Всеслава Полоцкого.
– Оборотня?
– Да почему же оборотня? Грозного князя, воевавшего аж саму Индию. Оборачивался князь птицей и зверем ради военных хитростей: ясным соколом, серым волком, гнедым туром – золотые рога. Мне прислали из Москвы списки с дивных сказаний, возможно, Баяновых. Ключарев – молодец, директор московской почты, собирается издать сей сборник. Я запомнил несколько строк о младенчестве Волха Всеславьевича:
«А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясай в поесья шелковыя, —
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатныя,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку – палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд».
Сие сказано новорожденным, когда ему исполнилось… полтора часа!
Дарья Алексеевна рассмеялась. Александр Семенович, поднявши брови вопросительно, увидел на лице хозяйки радостное изумление – хохотнул, довольный, и повернулся всем корпусом к Гавриле Романовичу:
– Но ведь сколь сие выразительно! Сколь мощно! Куда нам до Баяновых времен! Особливо всем этим карамзиным, новоиспеченным жуковским. Их поэзия – перелицованное платье с немецкого, с английского, более всего – с французского плеча. Искатели вздохов и слез дурочек-барышень. По мне всё их европейское умничанье сродни куплетам Сандунова:
Чернобровы, белокуры,
Не откажут ни одна:
Денег не клюют лишь куры,
А любовь до них жадна.
– Уж очень вы строги, Александр Семенович! – Дарья Алексеевна засмеялась еще веселее. – Я не поклонница Карамзина, и все же, полагаю, он очень талантлив. Ума пусть насмешливого, но, слава Господу, не злого. Помните его «Илью Муромца»?
– Тут красавица приметила,
Что одежда полотняная
Не темница для красот её,
Что любезный рыцарь-юноша
Догадаться мог легохонько,
Где под нею что таилося…
Державин подхватил:
– Так седой туман, волнуяся
Над долиною зеленою,
Не совсем скрывает холмики,
Посреди её цветущие;
Глаз внимательного странника
Сквозь волнение туманное
Видит их вершинки круглые…
– Ну, так это же и есть Сандунов! Сандунов Николай Николаевич, перевитый шелковой лентою из магазина мадам Обер-Шальме.
– Литература литературой, но, любезный Александр Семенович, мы, однако, ждем от вас новостей! – перевела разговор на светское Дарья Алексеевна.
– Какие ж в Петербурге новости?! Ездят в оперу, кто в городе остался, а в опере – всё тот же Сандунов, хоть сочинители другие:
Замужни и вдовицы —
Все на один покрой:
И муж глаза закрой!
Сие сочинение господина профессора Мерзлякова. Ему в пику Бородулин романс произвел, а может, и не в пику, но позавидовав, – пошлость сию поют даже в трактирах:
– Все женщины – метресы,
Престрашные тигресы.
На них мы тигры сами
С предлинными усами.
Нет новостей. Дарья Алексеевна! Одни на водах за границей, другие на липецких водах. Доктор Альбини приставлен к сим отечественным струям главным врачом, а ведь он лейб-медик государя. Вот все и ринулись в Липецк: Нарышкины, Щербатовы, Голицыны. Директором вод назначен Иван Новосильцев, брат статс-секретаря Николая Новосильцева.
– Александр Семенович! Неужто ничего веселого не происходит на белом свете?! – взмолилась Дарья Алексеевна.
– Веселого? Как же, как же! Тут одно дельце недавно заминали. Сынок симбирского помещика, офицер, разумеется, наделал долгов и продал имение отца, вместе с… отцом! Записал его как бургомистра!
– Господи! – восхитилась Дарья Алексеевна. – Сие смешно до слёз.
Державин поднял перст к потолку:
– Но может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать!
Сколь велик поэт у Бога
После обеда русские люди предают себя Морфею. Поспав часок, переварив телятинку на сливках, индейку, кормленую грецкими орехами, щучью уху, запеченные в тесте стерляди, приятели отправились на пленер. Гавриле Романовичу было что показать, чем погордиться. В имении работали паровая мельница, лесопилка, движимая силою воды, суконная и ткацкая фабрики с красильней.
Посмотрели больницу для крестьян. Прошлись по винограднику, по оранжереям. Всё отменно в высшей степени.
За кофе Гаврила Романович и Дарья Алексеевна просили гостя прочитать его перевод «Слова о полку Игореве».
– Да разве я всё помню! – взмолился Александр Семенович. – Чай, четыре года тому назад издано.
Но у Державиных перевод Шишкова был. Адмирал разволновался, читал стоя:
– «Приятно нам, братцы, начать древним слогом прискорбную поветь о походе Игоря, сына Святославова! Начать же сию песнь по бытиям того времени, а не по вымыслам Бояновым. Ибо когда мудрый Боян хотел прославлять кого, то носился мыслию по деревьям, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Приятно нам по древним преданиям, что поведав о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным: чей сокол скорее долетал, тому прежде и песнь начиналася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю пред полками косожскими или красному Роману Святославичу. А Боян, братцы! не десять соколов на стадо лебедей пускал: но как скоро прикасался искусными своими перстами к живым струнам, то сии уже сами славу князей гласили».
– Не довольно ли? – спросил адмирал.
Гаврила Романович протестующе пошевелил бровями:
– Лишний раз послушать «Слово» – побыть в семействе всего нашего русского дома, у которого нет ни завтра, ни вчера, а как у Господа Бога – мир в оба конца, единый и вечный.
– А есть ли какие недовольства прочитанным? – спросил автор.
– Твой перевод подкупает величием и простотою, пожалуй что, и простодушием. Верно я говорю, Дарья Алексеевна?
– Мне такое слово по сердцу! – улыбнулась хозяйка Званки, ее большие прекрасные глаза с дивною поволокой всегда волновали поэтов. Чудилось, сей загадочный перламутр рожден созвучиями и чувством стихов. – Ежели вы ждете замечания, ради высшего совершенства, то не жалко ли вам, Александр Семенович, некоторых перемененных в переводе слов? В древней рукописи персты вещие, а у вас всего лишь искусные. Там «рокотаху» – рокотали, а у вас – гласили.
– Бес попутал! – признался автор. – Перевод для честного сочинитиля пусть блаженное, но все-таки рабство. Вот и насочинял.
Сделавши перерыв, выпили еще по чашечке кофе, и Александр Семенович, перекрестясь на икону Спаса, продолжил чтение.
У него несколько раз перехватывало дыхание, когда пошли картины русских бед:
– «На реке Каяле свет в тьму превратился; рассыпались Половцы по Русской земле, как леопарды из логовища вышедши, погрузили в бездну силу русскую и придали хану их великое буйство. Уже хула превзошла хвалу; уже насилие восстало на вольность, уже филин спустился на землю. Раздаются песни готфских красных девиц по берегам моря синяго. Звеня русским золотом, воспевают они времена Бусовы, славят мщенье Шураканово…»
Плач Ярославны был читан ласково и горестно:
– «Ярославна по утру плачет в Путивле на городской стене, приговаривая: “О ветер! ветрило! К чему навеваешь легкими своими крылами Хановские стрелы на милых мне воинов? Или мало тебе гор под облаками? Развевай ты тамо, лелея корабли на синем море. Но за что развеял ты, как траву ковыль, мое веселие?”».
Дарья Алексеевна, с мокрым от слез лицом, выпорхнула из кресел, поцеловала руку поэту.
Гаврила Романович промокал слезы рукавом халата:
– Пронял!
Шишков, весь дрожа от пережитого, хватил рюмку ликеру и, придвинувшись к Державину, заговорил о давно продуманном, о заветном:
– Нам, Гаврила, нельзя уступить русского! Сего русского, – стукнул ладонью по «Слову» – французистому бесовству… Карамзин со всей оргией шаликовых да пушкиных переменяют строй речи. A строй речи я есть – душа. Господи! Языка родного не знают. Мужиковата, видишь ли, русская сладко-звонкая речь, им бы токмо картавить. Картавым кривляться проще. Обезьянье время, Гаврила Романович!
– На армию нужна армия! – согласился Державин.
– Золотое слово! Будто великого князя Святослава слышу! Единение и напор! И надо по-суворовски – в штыки!
– Ах, у вас пошли мужские разговоры! – сказала Дарья Алексеевна. – Позвольте мне удалиться. Нужно дать некоторые распоряжения.
Хозяйка ушла, а они думали, кого можно рекрутировать на бой с русскими французами. Иван Андреевич Крылов, князь Сергей Александрович Шихматов-Ширинский, Хвостовы, граф Дмитрий Иванович и Алексей Семенович, Федор Петрович Львов, флигель-адъютант Петр Андреевич Кикин, Карабанов Петр Матвеевич, сенатор Иван Семенович Захаров, не пишущий, но любящий служителей муз, щедрый меценат. Князь Дмитрий Петрович Горчаков, полковник Александр Александрович Писарев, Александр Федорович Лабзин, Василий Федорович Тимковский, Петр Александрович Корсаков, сочинитель букваря – Николай Иванович Язвицкий, Галинковский Яков Андреевич, Шулепников, как его, Господи…
– Это же сила! – решил Шишков и, прижавши руки к груди, смиренно попросил: – Гаврила Романович, почитайте новое… Что нынче волнует российского Овидия?
– Волнует. Волнует, Александр Семенович… Возьму листы, совсем недавно сочинено.
За окном было синё, зажгли свечи. Державин прочитал:
Необычайным я пареньем
От тлена мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.
В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.
Да, так! Хоть родом я не славен,
Но, будучи любимцем муз,
Другим вельможам я не равен
И самой смертью предпочтусь.
Это была песнь поэзии и самому себе. И что-то в ней было лебединое.
С Курильских островов до Буга,
От Белых и Каспийских вод,
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь…
Вдруг грохнули пушки, языки огня на свечах припали, но в саду, должно быть, папоротник зацвел.
Оба поднялись. Гаврила Романович дочитал стихотворение, и, омочивши друг друга слезами восторга, они вышли на крыльцо – любоваться сказкой фейерверка.
Розовое утро
Гаврила Романович поднялся на заре, а гость уже в саду.
– Нигде и никогда не видел столько розового! – Александр Семенович повел руками. Розовое небо, розовый Волхов, розовые плёсы противоположного берега, сад, розовый от роз и шиповника. – Ежели в Званке ловят розовых щук и голавлей – не удивлюсь.
– А не погулять ли нам по Волхову?! – предложил Державин.
– Зачем моряка спрашивать о море?
– Тогда я за Тайкой.
Тайка улыбалась хозяину и гостю, уж так была рада путешествию, что у пиитов настроения прибыло вдвое.
Флот Званки насчитывал, кроме дюжины лодок, два корабля. Один, с домиком посредине, носил имя «Гаврила», другой был «Тайкой». Самый настоящий бот, устойчивый на волне, быстроходный.
Выбрали «Тайку».
Гребцов было четверо, но спешить не хотелось.
– К заводи! – распорядился Гаврила Романович. – Покажу тебе царство черных стрекоз и кувшинок.
– Кувшинок, – повторил Александр Семенович. – Я голову ломаю над корнями слов. Откуда что пошло. Какое оно, первое слово, сказанное Адамом Еве?
– Бог!
– Ишь как просто. А я вот вслушиваюсь в слово «кувшинка», и во мне так и звенит буква «ка». Кувшинка – от кувшина. Но кувшин – он ведь для воды. Ре-ка. О-ка. Прото-ка. А рыбы? Шу-ка, о-кунь. Или, скажем, пере-кат, пото-к, ручее-к. Всюду «ка».
– Заниматься такими вещами – голова пойдет кругом! – посочувствовал другу Державин.
– Я последнее время предлоги исследовал. Сила предлогов зело велика. Всякий предлог, приставленный к глаголу, показывающему единократное и неокончательное действие, переменяет оное в окончательное и совершившееся. Возьмем первое, что приходит на язык: жить, пить, просить, золотить… Приставляем предлог и получаем картину завершенного круга, бытия: прожить, выпить, пропить, вызолотить, выпросить.
– М-да! – согласился Гаврила Романович. – Слово – материя высшего порядка. А вот и старица.
Ботик заскользил по лону спящей воды, не тронутой ни единым дуновением.
– Где же кувшинки? – озирался Александр Семенович.
– Подождем.
Гребцы подняли весла, и такая тишина объяла суденышко, будто природа дыхание затаила.
– Вот видишь, – сказал Гаврила Романович, разведя руки. – Моя заводь, моя землица, моя Званка. – А всё ведь – Музы! Я – из нищих казанских дворян. Девятнадцати лет от роду вступил рядовым в Преображенский лейб-гвардии полк. Прапорщика получил через десять лет! Казалось, чего ждать от жизни? Но Музы, Музы! В тридцать семь возвели меня в статские советники. В сорок – «Ода к Фелице». И вот уж губернатор. В пятьдесят – тайный советник, близкий человек великой императрице. При Павле Петровиче, ради моего несребролюбия, – казначей. А там и бескорыстная честность была оценена. Государь Александр поручил мне, нелепому служителю истины, министерство юстиции… Увы! Правда и государям обуза. Да ведь и слава богу! Ныне я – хозяин Званки, и то мне в радость. Шестьдесят лет с годом. А мог ли мечтать вечный солдат о сим великолепии? Такое даже в сладких снах не снилось.
– Я тоже смолоду не скакал с чина на чин. В Морской кадетский корпус хлопотами благодетелей попал. В семнадцатое лето – гардемарин. Служить отправили в Архангельск. Юному человеку побывать в краю, родившем Ломоносова, счастливый жребий. Вот только капитан корабля оказался пьяницей. Сие пьянство аукнулось на мне весьма жестоко. Съехал я на берег с мичманом. Вернулся, а капитан – чуть не с кулаками: «Самовольничать? Ну, тогда не прогневайся. На каждое плечо – по свинцовой гире в пуд с четвертью, и будешь всю ночь на палубе звезды считать». Заматерился громово и ушел проспаться. У нас, гардемаринов, был свой начальник, я к нему. Он и сам знает, что у меня было разрешение, но отменить приказ капитана – нажить беду уже на собственную голову. Сочувствует, и только: «Ничего поделать нельзя, будить капитана – без толку, невменяем». Повели меня к месту казни, тут я и взмолился: «Отсрочьте экзекуцию до утра!» Смилостивились. Отложили мою гибель до восхода солнца. Я хоть и моряк, а здоровья слабого. Утром капитан протрезвел, разобрался в деле и – казнь отменил.
Залаяла на пролетевших уток Тайка. Пустили собаку на берег. Гребцы закинули удочки.
– Много рассказов о трудностях морской службы, верно ли это? – спросил Державин.
– Море – стихия неспокойная, у каждого корабля свой норов, что ни командир – характер, а то и сама дурь. Я в мое первое большое плаванье много бед перенес. Зимовали мы в Двине, а как река открылась, пошли по Белому морю к брегам Лапландии. Плаванье было моим счастьем.
На море я смотрел глазами Ломоносова, а корабельная служба шла с Петром Великим в сердце… Все лето бороздили северные моря, а в октябре бросили якорь в порту Копенгагена. Оттуда пошли к острову Борнгольму. Капитан доверил вести корабль штурману: а тот, устрашась бури, повел судно вдоль шведского берега. И вот она – мель! Сели крепко. Волны огромные, того гляди перевернут корабль. Надели мы белые рубахи, срубили мачты, чтоб облегчить корабль. Принялись палить из пушек, призывая помощь. Но шведам русские хуже злобных медведей-шатунов… Гардемарины кинулись к капитану просить лодок. А капитан спьяну или по природной тверди своей – решил утонуть вместе с кораблем и со всем экипажем. Мы – восстали. Выбрали другого капитана. Слава богу, умного человека. Привел нас к прежнему начальству. Произошло примирение, и капитан позволил послать одну шлюпку на берег. Мой приятель, лифляндец, был назначен за старшего, меня позвал с собой. Я согласился, но вдруг почувствовал такую смертную тоску, что бросился к другу и умолил не называть моего имени среди отбывающих… Сей нечаянный ужас спас мне жизнь. Шлюпку возле берега перевернуло шквалом, мой друг погиб. А плыть среди волн, кипящих не хуже казацкого кулеша, мне пришлось в тот же день, а вернее – в ночь. Наш соотечественник, узнавши о том, что русский военный корабль терпит бедствие, прислал лодку – спросить, что нам нужно. Прибывший говорил по-немецки, а на корабле немецкий язык, после гибели моего друга, знал один я. Меня и посадили в лодку. Восемь верст хаоса, ледяных брызг, и в три утра я был на берегу… Много пришлось хлопотать перед бургомистром и всяческими властями. Сначала перевезли с корабля больных, но оставили на берегу под открытым небом, а погода – упаси Господи! – дождь, пронизывающий ветер… В конце концов – всё обошлось.
Нас устроили в городке Истеде. Жители были очарованы русскими, а я так потерял голову, влюбившись в Христину Белингъери. Но – приказ, перевод и разлука сделали нас несчастнейшими людьми. Признаюсь, до сих пор сердце щемит, когда вспоминаю те давние дни.
Тут Шишков поднялся со скамьи, с восторгом поводя руками:
– Кувшинки! Как золотом посыпано. Откуда же они взялись?
– Всплыли! – улыбался Державин. – Солнце взошло.
Нежданная известность
Весною человек счастлив от весны, а тут всё было чудо. Жуковский ехал не столько в Москву, сколько в Свиблово, на дачу Николая Михайловича Карамзина.
Сам даже на краткий визит храбрости не набрался бы, но сей вояж – по приглашению! Приглашение «быть непременно» привезла еще в феврале Екатерина Афанасьевна. Карамзин к тому же прислал книгу князя Шаликова «Путешествие в Малороссию» с нижайшею просьбою написать отзыв для мартовского номера «Вестника Европы».
Просьба Карамзина – боже мой! Сочинение князя прочитано залпом. На другой день перечитано. На третий – толстое письмо почтари помчали из Белёва в Москву.
И вот Жуковский стоял перед Николаем Михайловичем. Стоял растерявшись, и не от своей глупейшей стеснительности, – вдруг открыл: Карамзин на голову ниже!
В прежние встречи Василий Андреевич этого не заметил, не запомнил… Может, вымахал за год Мишенского сидения?
И еще одно изумило: великий писатель был рад ему. С дороги – за стол, накормил, повел в парк. Показывал усадьбу Нарышкиных, церковь, построенную в Петровскую эпоху.
– А на колокольне-то у нас – пленный швед! Голос – медь с серебром! – погордился Николай Михайлович. – История. Я теперь весь в прошлом. Мой Вергилий по дебрям Российским – преподобный Нестор.
– А литература?! – испуганно вырвалось у Жуковского.
– Литература – суета… При Павле Петровиче – суета опасная, нынче голову за изящную словесноть не рубят, а жилы из сочинителей тянут не хуже, чем в застенке. Ваш кумир Антон Антонович Прокопович-Антонский – он ведь ко всем своим службам еще и цензор – изъял было из «Вестника Европы» мою «Марфу Посадницу». Я потребовал объяснений. Если повесть запретите – уеду из России. Всполошились, скандал-то ведь до государя дойдет, указали карандашиком на слово «вольность». Я тем же карандашиком «вольность» зачеркнул, а поверх начертал «свобода». Делу, к обоюдной радости, – конец, но каково автору! Я – Карамзин, а если повесть принадлежала бы господину Н, только начинающему писательский путь?
Николай Михайлович говорил, как с равным, но ведь господин Н, это он – Жуковский.
– Разве история не опаснее литературы? – сказал, что думалось. – Степан Разин, Пугачев… Великий Петр, казнивший Алексея, наследника? Грозный, своею рукой убивший сына, тоже наследника.
– Петр III, Иоанн VI, – Карамзин быстро глянул на Василия Андреевича, – Павел… Я пока что во глубине веков. Темно, да безопасно. О Баяне нынче думал. Дивный образ пиита древнейших времен. Певец полусказового царя Трояна. Увы, есть только имя! Произносишь сие дивное – Баян, и кажется – воздух всколыхивается от сказаний, но – увы! – ни единого слова не разобрать.
Вечером, покуривая, говорили о журнальных делах.
– Вы написали о князе Шаликове превосходно. Князь объявил себя моим последователем. Это ему ужасно вредит, а он упорствует. Но ведь романсы в народном духе у него не худы.
Нынче был я на почтовом на дворе —
Льстил себе найти от миленькой письмо.
– Я, не укоряя, сказал о книге князя правду.
Карамзин снял с полки мартовский номер «Вестника Европы». Открыл заложенную лентой страницу, прочитал:
– «… Не езда в Малороссию для одних летних вечеров; они и здесь в Москве прекрасны. Выйдешь на пространное Девичье поле; там, где возвышаются гордые стены Девичьего монастыря, сядешь на высоком берегу светлого пруда, в котором, как в чистом зеркале, изображаются и зубчатые монастырские стены с их башнями, и златые главы церквей, озаренные заходящим солнцем, и ясное небо, на котором носятся блестящие облака…» Светло, поэтично, все по-русски… Настоящая проза. Утерли Шаликову нос!
– Но ведь это отблеск ваших «Писем русского путешественника». Подражание.
– О нет! Сие – поток новой литературы, торжество русского языка скинувшего вериги златошубого – старославянского… Прошу вас, не торопитесь. Поработаем. Я – свое, вы – свое. Вечером можно почитать сочиненное за день. Когда читаешь вслух то, что накропал в затворничестве, все промахи – вот они! – и вдруг наклонился, вложил в руки Жуковского свой журнал. – На мне теперь такая гора… Я хочу передать «Вестник Европы» человеку, умеющему любить всё талантливое, что есть в России. Такого человека я знаю… Уж очень молод, да ведь и, слава богу, силы не растрачены, стремления не расшиблены о суету.
И тотчас перевел разговор на иное. Спросил, какое впечатление произвела книга адмирала-академика Шишкова «Разсуждения о старом и новом слоге российского языка». Оказалось, Василий Андреевич в белёвской глуши даже не слышал о таком сочинении.
– Я тоже хочу в Белёв! – воскликнул Николай Михайлович. – Нет в Москве человека, который не пытал бы меня о сим суровом трактате. И сам я, как видите, не устоял, спросил.
Карамзин положил солидный томик перед гостем, указал отчеркнутый абзац.
– «Кто бы подумал, – прочитал Жуковский, – что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего (т. е. церковнославянский язык), начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка».
– Догадываетесь, в кого сей камень из пращи?
– Нет. Увлечение французским в России повальное, и не токмо в России. Взять ту же Польшу.
– Вот здесь еще! – И Карамзин сам прочитал вслух: – «Между тем, как мы занимаемся сим юродивым переводом и выдумкою слов и речей, ни мало нам несвойственных, многия коренныя и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение; другия, не взирая на богатство смысла своего, сделались для непривыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись… Итак, с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой – истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия…» Всё это в первую очередь адресовано мне, а также и вам, Василий Андреевич. Уж очень возлюбили вы легкость и прозрачность в языке… Речь, а тем более поэтическая, должна напоминать ворочанье каменных глыб в допотопных карьерах… Вот видите, чужое слово сорвалось с языка – карьер! В каменоломнях, господин Шишков. В каменоломнях!
«Рассуждения» огорчили.
– Привыкайте, друг мой! – утешил Николай Михайлович. – За одни и те же стихи поэта могут увенчать лаврами и забросать каменьями… Я понимаю адмирала, но мне сдается, не наберет он большой толпы побить в литературе литературу.
Пишущая и читающая Москва встрепенулась, гудела, как улей. Приезжали Пушкин, Шаликов, сыпались приглашения от почитателей.
Над Шишковым смеялись, всяк сочиняющий накропал эпиграмму на адмирала, возомнившего себя пророком-языковедом.
Две недели отдал Свиблову Василий Андреевич. Немного переводил «Дон Кишота», наезжал в Москву к издателям. Выслушивал тирады похвал.
– Гримасы славы! – смеялся Карамзин. – В литературе прекрасное нужно растоптать, чтоб все наконец-то признали: это хорошо!
Всё это странно.
– А что вы хотели?! Нелепое «Рассуждение», и наша слава ему под стать.
– Я никогда не жаждал славы! Даже самой благородной.
– Но хотели, чтоб вас читали?
– Хотел.
Карамзин улыбнулся.
– Привыкайте к известности. Известность многое дает, но забирает большее: тебя у тебя.