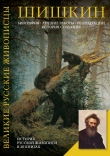Текст книги "Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского
Часть первая
Быть бессмертным
Белёвские маркитанты
Уездные русские города, как цветы на лугах. Красота их природная, Божья, не напоказ. Цветы цветут, чтобы жить. У людей то же. Красота – хлеб души.
Белёв на горах, как на облаках, но в куполах его, хоть все подняты высоко, нет гордыни человеческой. Белёвские купола, будто огоньки свечей.
На всяком малом русском городе история копной сена на возу. Ни телеги не видно, ни лошади, ни возницы. Был Белёв уделом черниговских князей, был Литвой и даже вотчиною беглого хана ордынского Улу-Ахмета, основателя Казанского царства. Дарили Белёв другому основателю – Запорожской сечи – князю Вишневецкому. А как перестали ходить волны человеческих бурь по русской земле – Божией милостью забыли о Белёве добытчики царств и вечной славы. Тут и установилась жизнь. Уездную мудрую жизнь доморощенные пророки – потатчики русских несчастий – называли и поныне ругают мещанской. Господи, да не исчезнет в России Россия!
Как земля, имеющая в сердце своем великий огонь, хранит о нем непроницаемое молчание, так и народ русский.
Мы – окаменелая гроза. Без кресала искры не высечешь.
И вот она, краткая история одной искры, от которой возжена романтическая русская литература и, пожалуй что, и сам русский литературный язык. Но сначала о кресале, о вековом и главном промысле жителей Белёва.
Один наш современник, почитавший себя громовержцем Парнаса, древний промысел маркитантства представил как племенное занятие иудеев. Народы, дескать, бьются насмерть, а маркитанты, и с той стороны, и с этой, – люди одного помета и одних интересов: нажиться на чужой крови.
Когда страну разоряют на глазах, в любом толке чудится истина. Но быстрых разумом Невтонов русская земля рождала со времен царя Трояна, а должно быть, и ранее того.
Раньше ли, может, и совсем уже поздно, в турецкие войны, белёвские мужики нашли для себя промысел небезопасный, а пожалуй что, и весьма опасный, да ведь прибыльный: войну кормить, поить, табачком баловать. Барабанщики в барабаны – белёвские мужики колеса дегтем мазать. Загрузили фуры и поехали. Дорогу маркитантам вороны указывают.
Наш рассказ о временах, когда на Днестре, на Дунае фельдмаршал Румянцев с генералами Потемкиным да Репниным добывали России Черное море и Тавриду. Далеко до Днестра, до Дуная еще дальше, но белёвские носы учуяли запах пороха.
Вот и пал в ножки господину своему, надворному советнику Афанасию Ивановичу Бунину, крепостной его человек крестьянин Силантий Громов:
– Отпусти, батюшка, раба своего с фурой.
Афанасий Иванович – человек в Белёве именитый, градоначальник, предводитель дворянства. Однако ж величаться перед мужиками почитал унизительным. Да и сердцем был в батюшку, в Ивана Андреевича. Такой же податливый до добрых дел. Людей своих Афанасий Иванович знал и любил.
Силантий мужик расторопный, но невезучий, баба ему одних девок рожает, разбогатеть мужицким горбом надежды нет. Однако ж, слава богу, желает богатства дому своему, стало быть, и барину.
– Оброк, батюшка, уплачу, как ваша милость укажет, – поспешил прибавить Силантий.
Афанасий Иванович бровкою не шевельнул: куда, мол, денешься, но очи-то свои ясные, вельможные, поприщурил вдруг:
– Вот что, Силантий. Далекую дорогу избрал ты счастья своего поискать. Ну так и о барине не забудь. Привези-ка ты мне, Силантий, турчаночку младую. В гаремах ихних пошукай, чтоб всем приятелям моим была на зависть: вот и весь твой оброк.
Маркитантский промысел да барское вожделение отведать страстей и сластей таинственного Востока – таково тесто для пирога русского романтизма.
Рабыни
В пылающих Бендерах сгорела прежняя жизнь турчанки Салихи – все ее шестнадцать весен. Была ли она женою – одной из четырех – бендерского паши, или всего лишь наложницей – о том забыто. Афанасия Ивановича распаляло другое: его рабыня – истинная насельница гарема!
Красавицу-турчанку Силантий Громов выискивал среди одиннадцати тысяч пленных, взятых в Бендерах. Женщины тоже причислялись к пленным. Салиха и сестра ее Фатима достались бывшему сослуживцу Афанасия Ивановича майору Муфелю. Посылая турчанок в Белёв с маркитантом Силантием, Муфель выправил для них бумагу на проезд. В бумаге говорилось: пленные Сальха и Фатьма отданы надворному советнику Бунину, градоначальнику Белёва, на воспитание и, по изучению русского языка, приведение в православную греческую веру.
Эту бумагу Афанасий Иванович положил пред очи супруги Марии Григорьевны.
– Что за блажь нашла на майн херца Муфеля! Совсем обасурманились, на турок глядя! Рабынь в подарок прислал! Ладно бы смокв или вина бочонок – рабынь! – Афанасий Иванович ужасно горячился, сдвигал к переносице брови, пот со лба, о платке позабыв, отирал ладонью. – Завтра же отправлю подарочек обратно!
– Больно дорого станет! – Глаза Марии Григорьевны глядели прямохонько в душу Афанасия Ивановича: лукавит батюшка, ишь распыхался. Вздохнула, перекрестилась. – Знать, Господь так судил: потрудимся во имя Его. Пусть на две православные души станет больше. Ну, как они, бедняжки?
Домоправительница Василиса бегала во флигелек поглядеть тайком на турчанок.
– На полу сидят. Ножки калачиком.
– Вестимо, на полу. Татарского рода. Ты вот что, – распорядилась Мария Григорьевна. – Прикажи ковер постлать да подай им пирогов, каши гречневой с бараниной, – смотри, свинина для них хуже отравы, – и кофию не забудь.
– Дорога у них была дальняя. Не завелись ли вошки, – предположила Василиса.
– Чем гадать – баню истопи.
– Ну, коли без меня все устраивается, – решил Афанасий Иванович, – я пошел к делам.
Шмыгнул в кабинет, облачился в турецкий шелковый халат, запалил кальян и возлег на персидском диване. Все это было батюшкино. Иван Андреевич тоже имел к Востоку душевную тягу.
Старшую из турчанок Афанасий Иванович видел мгновение, но разглядеть успел. Турчанки сидели в фуре, ожидая участи.
Силантий-плут кланялся, состроив виноватую рожу:
– Вместо одной две, батюшка! Сестры. Сестер приказано не разлучать.
На турчанках черные покрывала, Афанасий Иванович поднял паранджу на старшей. Смуглое, нежное! Ласковые губы, брови сросшиеся, но уж такие аккуратные. И глаза! Боже мой, глаза! Черным огнем полыхнули и скрылись за стрелами ресниц.
– Бей-эфенди! – поклонилась, поняла: перед нею господин.
«Бей-эфенди!» – пело в Афанасии Ивановиче тончайшее из наслаждений.
Слышал: турки падают в обморок, когда возлюбленная с балкона показывает избраннику всего лишь – пальчик.
Ах, эта бархатная смуглость, эта беззащитная нежность. И совершенство!
Афанасий Иванович, потягивая кальян, смотрел на портреты панов Буникевских. Самый старший в железной шапке, в латах, трое в жупанах с оселедцами.
– Да, господа! Вы меня понимаете.
И пытался сообразить, как бы наведаться во флигелек – мимо Марьи Григорьевны, мимо Василисы, мимо стоглазой, стоустой дворни…
А за обедом Афанасий Иванович узнал: Марья Григорьевна определила турчанок в няньки Вареньке и Катеньке. Вареньке шел третий годок, а Катенька еще ручки из пеленок не умела вытащить.
Дитя барского греха
Сальха – по-русски. Русский язык ленив правильно выговаривать иноземные слова. Салиха и Фатима превратились в Сальху и Фатьму. Салиха значит «праведная». Православному человеку не понять, как можно быть праведницей – в гареме. Но потому и сказано: не судите! В гаремах жизнь строжайшая. Иная жизнь, нежели в избе, где кучились по три и по пять семейств. Иная жизнь, иные заповеди.
На Востоке есть возлюбленные, но нет мужей. На Востоке муж – господин жизни женщины. Люби, коли любится. Терпи, если господин хуже горя. Главное, помни: талисман благополучия – в послушании.
Аллах не отдал Фатиму русскому Богу, простудилась, проболела неделю и ушла в кущи рая. Не стало и Сальхи. Пленницу крестили. Явилась миру Елизавета Дементьевна Турчанинова. Восприемниками новокрещенной пожелали быть сама Мария Григорьевна и дворянин, православный поляк, Дементий Голембовский, знаток псовой охоты.
Войне с турками пришел конец. Замирились, разменялись пленными, но все турецкие женщины остались в России. Госпожа Турчанинова получила гербовую бумагу с титлой: «К свободному в России жительству».
Салиха, может, и тосковала по сладкому дыму сухой виноградной лозы, по пресным лепешкам, по густому аромату цвету из его лоха, по розовой кипени миндаля, по зовам муэдзинов и необъятной синеве родного неба. Но грех ей было жаловаться на новую жизнь.
Усадьба Буниных стояла на холме над просторами пойменных лугов Большой Выры. С этих лугов усадьба смотрелась крепостью. Две башни со шпилями, деревянная стена забора, высокий дом о восьми окон в ряд. Массивная, на польский лад, крыша – вровень с башнями. На краю холма деревянная церковь. Весною холм пламенеет хладным огнем сирени. И все это – усадьба, зеленый дым ветел, сирень, яблоневые сады, оранжереи – все это поднято над землею любовью соловьиных восторгов.
Усадьба была построена возле родового имения Буниных, село Мишенское, в трех верстах от Белёва по Волоховской дороге. Коли град Белёв был продолжением природы, то усадьба и подавно.
Жила Елизавета Дементьевна во флигеле. Стол имела сытный, вкусный. Русскому языку, чтению, письму ее учили старшие дочери Афанасия Ивановича и Марии Григорьевны – Авдотья и Наталья. Им в год приезда Сальхи было шестнадцать и четырнадцать лет.
Языку Елизавета Дементьевна научилась быстро, говорила чисто, слов не корежила: слух имела отменный, а грамоту не осилила. Иное дело счет: соображала быстро. Русскую меру поняла: пуды, фунты, золотники, сажени, аршины, вершки, ведра, четверти, кринки…
Ключница Василиса хозяйственный дар Сальхи приметила и взяла себе в помощницы. А как стара стала, сама передала ей ключи, и Мария Григорьевна на такую замену была согласна.
Но тут-то и случился грех.
Мария Григорьевна родила Афанасию Ивановичу одиннадцать детей. Выжили пятеро: Авдотья, Наталья, Варвара, Екатерина и сын Иван. Ивану было восемь лет, когда в Мишенское привезли турчанок. Супругу свою Афанасий Иванович звал «барыня» и, должно быть, побаивался. Во флигелек наведывался под покровом ночи, озираючись и затаиваясь. Мария Григорьевна шалости «бея-эфенди» терпела. Лишать девственности юных крестьяночек – привилегия крепостников несокрушимая, а тут гурия из гарема: хоть привяжи – сбежит.
«Барыня» резонно полагала: Кот Котофеевич откушает заморской сметанки и угомонится. Не тут-то было! Пришлось терпением запасаться надолго.
А жизнь шла себе. Выдали замуж Авдотью Афанасьевну. Супруг ее дворянин Алымов служил начальником таможни в Кяхте. Велика матушка Россия, далеко до Кяхты, и, чтобы не тосковать по дому, Авдотья взяла с собою младшенькую Екатерину. Вот и убыль в доме. Красавица Наталья тоже в девках не засиделась. Нашла счастье в Туле, из Буниной стала Вельяминовой. Иван уехал в Лейпциг, в университет.
Тут-то Афанасий Иванович и расхрабрился. Превратил избу турчанки в покои Шахерезады и сам пристроился в жители старой сказки.
Елизавета Дементьевна хоть и носила крест, но в душе оставалась Сальхой. Коли господин избрал тебя женою для любви, – радуйся и будь покорна байбиче: старшая жена – хозяйка дома. Увы! Мария Григорьевна турецким порядкам была не учена. Распорядилась не пускать Сальху на порог барских покоев, а Вареньке указала с любимой ее нянюшкой не токмо не здороваться, но видя – не видеть, слыша – не слышать. Занозистая пошла жизнь в благополучном Мишенском.
Елизавета Дементьевна трижды приносила деток Афанасию Ивановичу, все девочек, и всех в младенчество Бог прибрал.
В 1781 году вернулся в родное гнездо Иван Афанасьевич. В голове – Гегель, в сердце – Вертер. Любовью пылал к девице Лутовиновой, но кто они – Лутовиновы, когда у батюшки давний сговор с графом Григорием Григорьевичем Орловым, с генерал-аншефом, с самой историей Государства Российского, не говоря о многих тысячах душ приданого.
Афанасий Иванович в решении своем был тверд, и влюбленное сердце Ивана, выученика немцев, пыхнуло свечой и погасло. Говорили: «жила лопнула».
От одного горя не очнулись – новая страшная беда. Умерла в родах Наталья, дочку ее, младенца, Аннушку, а с нею старших сестриц Машу и Дуню привезли к бабушке в утешенье.
Два года в Мишенском не замечали, зима ли на дворе, лето ли… Нов 1783 году, 29 января, в день Игнатия Богоносца, а также чтеца Мокия-мученика, Елизавета Дементьевна родила сына.
Афанасий Иванович был в Москве. Сбежал от белёвской провинции, от мишинских несчастий. В Москве он имел на Пречистенке свой дом, богатый даже по московским меркам, с большим садом, с оранжереей. Родить сына в пятьдесят семь лет – геройство не ахти какое, однако ж приятели бокалы поднимали с почтением: молодец! Но тотчас сочувствовали: сын незаконнорожденный, стало быть, без родового имени и даже без отчества.
Афанасий Иванович примчался в Мишенское. Нужно было избавить младенца от подлого звания: сын суки.
В церковно-приходской книге священник записал: «Вотчины надворного советника Афанасия Ивановича Бунина у дворовой вдовы Елизаветы Дементьевны родился незаконнорожденный сын Василий». Новорожденный, однако ж, избавлен был от позорного званья сучонка: в крестные отцы и в усыновители новорожденному был избран Андрей Григорьевич Жуковский, старый друг Афанасия Ивановича, любитель поиграть на скрипке.
Андрей Григорьевич был киевский помещик, но достаток имел самый скудный, жил с супругою, с Ольгой Яковлевной, на харчах друга, во флигеле. Быть восприемником, дать сыну благодетеля фамилию и отчество Жуковский счел за Божию награду.
Нашлась и крестная мать. Варе Буниной шел пятнадцатый год. Заливаясь слезами, упала в ножки маменьке, прося позволения быть восприемницей нового жителя ковровых покоев Шахерезады.
Птахой выпорхнул из груди Марьи Григорьевны многолетний гнев на рабыню свою, выпорхнул и рассыпался в прах. Дочерние слезы смыли пепел обид. Благословила.
Родился 20-го, а 30-го января – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого.
Дали младенцу имя Василий.
Промысел Божий. Незаконнорожденный сын третьестепенного барина и рабыни турчанки, рожденный под малым городишком посреди русской земли, униженный меж людьми с первого вздоха – у Господа стал среди первых: царем поэтов и учителем царей. Один его ученик – император России, будет коронован земным венцом, другой, чья держава – Русское Слово, – незримым нимбом вечной славы.
А покуда в Белёве появился дворянин Василий Андреевич Жуковский.
Первая заповедь новорожденного: не имей сто слуг, имей мудрую мать.
В марте, пока дороги не распустило, Афанасий Иванович укатил в Тулу, и Елизавета Дементьевна, оплакав судьбу, укрепя сердце любовью, явилась вдруг с младенцем пред очи Марии Григорьевны.
Поклонилась, положила драгоценность свою у ног повелительницы и, пятясь, отступила к порогу.
– Ишь, ребятишками раскидались! – сдвинула брови «барыня». – Варвара, подними Васеньку да мне подай.
С булькающими в груди слезами, кинулась Варенька перед младенцем, подняла, поднесла.
– Губастенький – добрая душа. Смугляночка. Очами синими ты нас не проведешь – быть тебе кареглазым. – Глянула на мать: – Знаю, Лисавета, твоей вины нет. Бери ключи, веди дом по-прежнему. А Васенька отныне – мой.
Узнавши, что дома тишь и благодать, Афанасий Иванович прикатил в усадьбу в майское цветение. Возблагодарил Бога за сына и распорядился: церковь разобрать, сложить из бревен часовню на кладбище, а вместо деревянного храма – строить каменный, на века.
И тут выяснилось: хозяин Мишенского ездил в Тулу отнюдь не бездельничать. Нашел жениха Варваре Афанасьевне. Не хотелось Вареньке покидать матушку, Васеньку, родное Мишенское. Но что она, воля дочери, против воли отца. У Петра Николаевича Юшкова каменные дома в Туле, в Москве. Красив, богат, какого рожна слезы лить!
О сыне Афанасий Иванович тоже не забыл: записал в Астраханский полк сержантом.
Белёвские кружева
Собачек тоже ведь любят до безумия, а тут ласковый толстячок с изумленными, со сверкающими от восторга глазками. Васенька на что ни поглядит, то и чудо.
Возьмет веретено и смотрит, смотрит. Палочка и палочка, а пусти – бегает, как живое, нить сотворяет.
– Васенька, – спросит Мария Григорьевна, – что ты усмотрел в этой палочке?
– Победителя зимы.
– Зимы?! – ахнет Мария Григорьевна. – Господи! Так оно и есть. Из шерсти – нить, из нити – варежки.
На Васеньке уморительно милый халат – копия черного бархатного халата Афанасия Ивановича. К Васенькиным черным глазкам. А рубашка к личику – розовая, как утро. Полотна тончайшего.
Запретов в доме для Васеньки не писано. На зависть мастерицам лежит на полу, перекатываясь туда-сюда. Мытый, скребаный спозаранок пол светелки хранит спасительную прохладу.
– Летом на полу токмо и житье! – вздыхает Ефросиньюшка, рассыпая веселый треск коклюшек. Ефросиньюшка бабушка бабушек, но личико у нее без морщин, глазки маленькие, веселые. Её кружево – святая простота, да ведь и красота святая.
Васенька, подкатясь к Ефросиньюшке, смотрит на кружево и шепчет, шепчет. Слов не разобрать, а личико пресерьезное.
Мария Григорьевна, не утерпев, встает, показывает девкам, чтоб передвинули кресло, и тоже принимается разглядывать работу Ефросиньюшки. Белёвские кружева – слава города. В заморских землях по кружевам только и знают: есть, мол, в русских далях Белёв-городок, в том городке у каждой бабы коклюшки от сокровенных мастеров, сами плетут узоры.
– Чудо ты мое, Ефросиньюшка! – качает головою Мария Григорьевна. – Глазки у тебя с копеечку, руки разве что чуток поболе Васенькиных, узор немудрен, нити те же, а кружеву твоему цены нет. Ты-то, Васенька, выглядел Ефросиньюшкину тайну?
Мальчик хмурится.
– Я, бабушка, иное выглядываю.
– Ну-ка, ну-ка!
– Сама говоришь: в нашем кружеве – сердце русское. Вот я и смотрю, где оно, в какой ниточке.
– До чего же ты нежданный, Васенька! – изумляется Мария Григорьевна. – И в седую голову не придет, чего у тебя на уме. Эй, Паранька, изюму принеси! Да кипятком чтоб ошпарили.
Васенька благодарно прикатывается к бабушкиным ногам: изюм да чернослив любимые лакомства.
– Паранька! – кличет вдогонку барыня. – Полотенце не забудь! Да намочи полотенце-то!
Параньки все нет и нет, и Васенька поглядывает на дверь, надув губки. И – расцветает! Явилась! Вскакивает, бежит навстречу.
Паранька принимается отирать барчонку руки, приговаривая:
– Потерпи еще малешко! Я отбирала изюм-то! Чтоб позолотей, покрупней.
От Параньки пахнет сеном, и Васенька рад потерпеть. Но вот глиняная кружка, полнехонькая, у него в руках. Боясь просыпать жданную сладость, он подходит к бабушке и щедро отсыпает ей горсть. Вторая горсть – Ефросиньюшке, а дальше – по порядку. Когда очередь доходит до Параньки, у барчука в глазах сомнение, но он отважно вытряхивает последки в Паранькину пригоршню и недоуменно глядит в кружку. Нижняя губа сама собой прячется под верхнюю, ресницы хлопают, и он поспешно лезет под стол.
Мария Григорьевна перстом указывает Параньке на дверь, та перелетает комнату, и уже через мгновение под стол вползает блюдо с изюмом, с черносливом, с финиками.
Молчание, сопение, но вот скатерть приподнимается, и бабушке, Параньке, мастерицам сияют благодарные, полные непролившихся слез несравненные Васенькины глаза.
Шестилетний прапорщик
В светелке барчонок увалень, а на дворе в него вселялся неугомон. Носится, как ласточка. Выкрикивает что-то непонятное, но уж такое счастливое. Дуня, Машенька, Аннушка Вельяминовы припускаются за братцем – на самом деле он им дядюшка, – и звон тут, и вихрь, прыжки с крыльца, кувырки с горы, взлеты на гору с криками, с визгами.
Одно останавливало Васеньку. Он даже замирал, когда, пусть даже издали, видел турчанку Сальху – Елизавету Дементьевну, ключницу. Она проходила мимо него в доме, она не видела его во дворе, хотя иной раз была совсем рядом. Она не ласкала его, не окликала и никогда не оглядывалась.
Может, поэтому во всей усадьбе была единственная дверь, перед которой он обмирал. Та дверь вела во флигель, где жила ключница. Ему было стыдно и страшно, но он, не умея пересилить терзающую тягу, прибегал к этой двери, стоял, ждал и, наверное, умер бы, если бы она вдруг отворилась.
Но он не умер, когда в летний зной увидел дверь отворенной. Он подкрался и заглянул в комнату. Елизавета Дементьевна сидела на ковре, по-турецки, скрестя ноги. В прекрасной ее руке, в длинных пальцах, как голубой цветок – пиала.
Елизавета Дементьевна повернула голову, увидела его, и глаза ее вскрикнули. Васенька отпрянул от двери и бросился бежать, и долго стоял среди сиреневых кустов, не желая идти к людям.
Однако ж все пошло по-прежнему, да ведь ничего я не случилось, но Мария Григорьевна углядела-таки Васенькино неспокойствие.
Развлекая, принялась читать ему и внучкам поэму немца Христофора Мартина Виланда «Оберон, царь волшебников». Языкам не была научена, читала по-русски, пересказ Василия Лёвшина. С Васеньки тут и сошла задумчивость. Объявил себя рыцарем Гюоном, всем репьям головы поотсекал. Меч ему Андрей Григорьевич из дуба выстругал, а Дементий Голимбиевский подарил старый охотничий рог. Мария Григорьевна тоже в стороне не осталась. Своими руками сшила алый плащ, а из старых сундуков достала треугольную шляпу.
Рыцарские игры Васенька не чаял без Маши Вельяминовой да без Аннушки Юшковой. Обеих внучек Мария Григорьевна держала при себе. Маша сиротка. Аннушка родилась недоношенной, жизни в ней было, как в пузырьке воздуха на луже, врачи помочь не умели, а бабушка не сдалась. В печурке выдержала, выходила, у Бога вымолила. Девочки и были Васиным воинством.
Однажды сгоряча забежали с Машей в заросли крапивы, и хоть на помощь зови.
– Я тебя спасу! – сказал Вася и проломил в крапиве тропу, сам острекался, а сестрицу уберег.
– Хочешь, тайну тебе открою? – страшным шепотом спросила Маша.
У Васи пылали руки и ноги, но страданий он не выказывал.
– Хочу.
– У меня мамы нет и у тебя нет. Когда мы вырастем, ты будешь папа, а я мама.
Маша наклонилась и поцеловала Васеньку в обе щечки.
Васенька снова загрустил.
– Уж такой уродился, – говорила о нем Мария Григорьевна. – То удержу не знает – юла, а то не растормошишь.
И впрямь. Был море-океан, стал озерцо тихое. Игры с девочками оставил, прилепился к Андрею Григорьевичу, к крестному.
Были они, что старый, что малый, – молчальники. Уединятся на пригорке, под зарослями сирени. Сидят, молчат. Перед ними луга, село Фатьяново, Васькова гора. Андрей Григорьевич повздыхает, возьмет из футляра скрипку, и пошел пожикивать смычком по струнам.
Окутает Васино сердечко золотом звуков да и пустит росток в небеса, под облако, и выше, выше, в синеву и до самого, должно быть, солнца. Вася голову подопрет кулачком, смотрит, смотрит. На клубящийся поток серебристых ив вдоль Семьюнки, на древние ветлы по берегам Выры, на изумрудную благодать влажного, теплого травяного царства.
– До слезы? – спросит Андрей Григорьевич.
– До слезы, – признается крестник.
– Ах, Вася, до слезы! Соловьи и скрипка – ничего лучше нет.
– А коростель?! – удивится Вася.
– Скрип-то?
– Се – голос лугов.
– Голос лугов, говоришь? – призадумается Андрей Григорьевич. – Доброе у тебя сердце, Вася. Такое сердце каждого, кого встретишь в жизни, обогреет и посветит каждому. Добро неиссякаемо, как солнце. Добро и есть дитя солнца.
Хорошо жилось барчонку в Мишенском, да ведь всё до поры. Вольная жизнь кончилась в самый разгар летнего счастья.
Сначала пришла бумага от тульского губернатора: сержант Астраханского полка Василий Андреевич Жуковский произведен в прапорщики.
Следом за письмом приехал Афанасий Иванович, привез из Москвы учителя-немца. Прапорщику было шесть лет, а грамоты не знал. Еким Иванович должен был научить барчонка чтению по-немецки и арифметике.
Школу устроили во флигельке, где жил Андрей Григорьевич. Его комнаты были в одной половине, а через сени – жилище педагога и класс.
Первый урок крестника Андрей Григорьевич просидел на крыльце, радуясь за Васю: до наук дело дошло! И что такое? Учитель заорал, затопал ногами, ученик заплакал.
Андрей Григорьевич поспешил уйти подальше от дома: гранит наук – он и есть гранит. Афанасий Иванович потакать Васиным горестям запретил: ученье без розги – пустая трата времени.
На другой день снова слезы, снова немецкий лай.
На третий на учебу Вася шел, будто на казнь, гладя под ноги, почитая всех родных людей предателями.
Не прошло десяти минут с начала урока – бешеная ругань, детский вопль и потом тихое, безнадежное подвыванье.
– Ольга Яковлевна! Что же делать-то нам? – Андрей Григорьевич за голову схватился. – Войти к ним, поглядеть?
– Погляди! – У Ольги Яковлевны глаза тоже были на мокром месте.
Распахнул Андрей Григорьевич запретную дверь – Боже ты мой! Вася в углу, коленями на горохе, а учитель ищет в чане с водой розгу погибче.
Андрей Григорьевич к барыне. Барыня подхватилась и во флигелек. Васю на руки, немца кулаком по роже:
– Высечь мерзавца и пусть катится на все четыре стороны.
Немца, на радость дворне, высекли розгами, приготовленными для милого Васеньки, но деньги заплатили и даже дали лошадей до Тулы.
И вот она – свобода! Корневище древней ветлы удобнее дивана. Зеленый луг до горизонта, но тянет, тянет к себе дубрава на Васьковой горе. Васька разбойник. У него есть еще одно имя – Кудеяр. Смельчаки ищут на Васьковой горе Кудеяров клад. Клад не простой, проклятый, откроется тому, кто знает вещее слово. Васенька не о кладе мечтает, ему бы вещее слово. Ради сей тайны пристрастился книги читать. Русской грамоте научил Андрей Григорьевич. Русских книг у барыни целый шкаф. Васеньку Сумароков очаровал.
Вижу будущие веки,
Дух мой в небо восхищен;
Русских стран играйте реки,
Дальний океан смущен;
В трепет приведен он нами,
В ужас вашими водами.
Сидя на корневище ветлы, Васенька глядел на бочажки Семьюнки, на Выру, а дальше Ока. Ока на себе корабли носит. Васенька пытался представить все русские реки, струящиеся, и напористо текущие, и мчащиеся без удержу. Коли столько вод соединится в одно – впрямь ведь будут ужасны, ужаснее самого океана.
И очень нравилась Васеньке еще одна строфа из «Дитирамба»:
Тщетно буря возвевает
Дерзкий рев из глубины;
Море новы открывает
Нам среди валов страны.
Наступают россы пышно,
Имя их и тамо слышно.
Васенька представлял себе пышно наступающих россов: Афанасия Ивановича, Андрея Григорьевича, – белёвского полицмейстера, белёвскую пожарную команду в медных касках.
– Имя их и тамо слышно! – восклицал Васенька с восторгом, и ему казалось, что слова эти он сам сложил одно к другому.