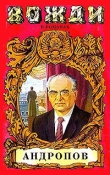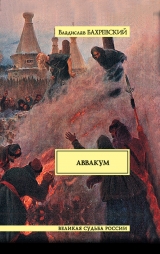
Текст книги "Аввакум"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Когда дети вышли из комнаты, царица сказала Никону:
– Грешна перед тобою, великий господин! Не люблю, когда ты гонишь. Многих добрых священников рассеял по земле и до смерти довел. Знать, так Богу угодно, но не лежит моя душа к тебе. Прости и не болей. Царю твоя печаль – в огорчение.
– Прости и ты меня, великая царица! – сказал Никон, глядя на красавицу Марию Ильиничну не без огня в глазах. – Как же правда красит человека! И я – человек – сам на себя плачу. Столько нажил грехов, что муха, попавшая в тенета, мне не позавидует. Прости, царица, немочь, посланную твоему молельнику за грехи его страшные. Дай мне обещание, что помолишься за меня.
Подарил Никон Марии Ильиничне образок Богоматери, сложенный из драгоценных мелких камешков и жемчуга, и, прося у нее прощения, троекратно облобызал.
Уже лежа в постели, Никон вспомнил тех, о ком так пеклась царица – о гонимых.
«Гонимые-то, милая моя, – продолжал он мысленный разговор с Марией Ильиничной, – почти что родные мне. Землячки. Неронов – пень некорчеванный – из Лыскова. Аввакум – Григоровский. От моего Вальдеманова – рукой подать. Землячки! Иларион, дурак, и тот весь изозлился. Я его – в архиепископы, а он готов на мое имя свечку огнем вниз поставить. Всей моей вины, что его отец, благородный старец Анания, в патриархи метил. Старец и впрямь был для всех нас, волжан, дивным светом, все мы к нему припадали душой. Но то Бог меня избрал. Что же он, все понимавший, не понял этого? Видно, близкий близкому не прощает, что не он стал первым. Такой далью от того близкого веет, что хоть стеной отгораживайся».
– И я отгородился, – сказал Никон вслух и печально задумался.
«Стоять бы друг за друга – от многих бед друг друга бы уберегли».
И понял – лжет. Обелил себя и сияет перед собой, будто ярка. Ишь как просто: сами они, не признав его первенства, виноваты и в своих бедах, и в его грехах. Они же на грех его навели! Ложь бесстыдная. Да хоть на коленках они ползай перед ним – удалил бы от себя. Ибо знали его, каков он был в миру. И жену его знали. И отца его, и мачеху. Великий господин должен сходить к пастве неведомый, как ангел. От того неведенья – веры больше, вера крепче. Можно ли поднести душу тому, с кем щи хлебал из одной чашки, с кем в сад к соседу за яблочками лазил! То-то и оно!
25
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин послал большой отряд под командой Григория Волкова и сына Воина поглядеть, что делается на море и в устье Двины.
Оказалось, что берега защищены шанцами, в которых сидят матросы, а в устье стоят пятнадцать кораблей, груженных солью.
Такое спокойствие Афанасию Лаврентьевичу не понравилось. Он приехал к государю, был принят в узком кругу и высказал свое беспокойство.
– Ваше царское величество, – говорил он пылко, но голову держа почтительно склоненной, – вели поскорее пригнать баржи, которые все идут и никак не придут к Риге. Я боюсь, что шведы воспользуются рекой и пришлют подкрепления. Моя разведка все время натыкается на какие-то разрозненные отряды, что бродят поблизости от наших лагерей. Надо ждать больших сил шведов. И возможно, с воды.
Ордин-Нащокин сказал «с воды» вместо «с моря» случайно. Но то было пророчеством.
Известие пришло ночью. Царя осмелился разбудить постельничий Федор Михайлович Ртищев:
– Беда, государь!
Алексей Михайлович рывком вывалился из постели, чтобы на полу побыстрее натянуть сапоги.
– Кони готовы?
– Успокойся, государь! Под Ригой тихо.
Алексей Михайлович, все еще сидя на полу, отбросил сапог, потер одну о другую мелко дрожащие руки.
– Под Ригой тихо… Зачем же разбудил? Ночь ведь.
– Ночью и напали! На барки напали! Я Томилу Перфильева позову.
– Сапог дай!
Оделся, ополоснул лицо в тазике. Прочитал молитву перед Спасом. Сел к столу, но опять поднялся, посмотрел на себя в зеркало и еще раз умылся.
– Зови!
Вошел Томила, поклонился.
– Барки потопили, государь!
– Много ли?
– Много! Теперь не понять. Но половину потопили.
Алексей Михайлович оглянулся на иконы, и во взгляде его были страх и удивление.
– Вчера Ордин-Нащокин говорил. Вчера! Все только слушают, да ничего не делают. Федя! Федор Михайлович! – Ртищев тотчас явился. – Скажи там, пусть палят по Риге. Пусть жгут ее! Пусть вымаривают!
Пальба грохотала до самого утра. Утром стало известно: барок было тысяча четыреста, осталось шестьсот.
– И есть будет нечего, и стрелять будет нечем! – вскричал в отчаянье Алексей Михайлович.
Он послал за воеводами, наказывая, чтоб все они по дороге к нему, пораскинув мозгами, назвали бы день, когда изготовятся для большого приступа.
У каждого воеводы был свой расклад, но они быстро договорились и назвали два дня – 12 и 16 сентября.
Двенадцатого – пробный приступ, шестнадцатого – сокрушающий.
Андрей Лазорев, злой на весь белый свет и особенно на немецкую аккуратную и толковую бестолочь, влетел в палатку офицеров:
– Где лестницы? По воздуху на стены солдаты полетят?
За походным низеньким столом сидело четверо: три капитана и совсем юный, незнакомый Лазореву поручик.
Разговаривающие отпрянули друг от друга и уставились на русского.
– Где лестницы, спрашиваю?! – крикнул Лазорев, уже сообразив, что встрял в беседу не для его ушей, что они его испугались.
Капитан Рихтет вышел из-за стола и, закрывая собой – так Лазореву показалось – поручика, заговорил быстро и решительно:
– За лестницами мы послали еще вчера. Где они, привезут ли нужное количество или, как всегда, вполовину, в три четверти, а то и в треть, – не наша печаль.
– А чья печаль? Стрельцов, которых вы погоните на смерть?
Капитан придвинулся к Лазореву почти вплотную, и тот понял: надо немедленно выйти из палатки. Но как же он ненавидел эти выпуклые глаза, это гладко бритое лицо. Это постоянное высокомерие. Эту службу – ровно по заплаченным деньгам.
– Поезжайте, полковник, поторопите тех, кто поехал за лестницами, если только лестницы сделаны.
Капитан сделал движение зайти Лазореву за спину, но тот повернулся и вышел из палатки, спиной чуя смерть. Проклиная себя за трусость, изобразил, что споткнулся, и прыгнул, бросив тело резко в сторону. Грохнул выстрел, еще один, и Лазорев, прокатываясь по земле и одновременно вытягивая пистолет, услышал топот ног. Он выстрелил почти наугад, но угодить почему-то хотел в поручика. И попал! У поручика подогнулись ноги, он стал валиться…
Очнулся Лазорев в палатке лекарей. Лежал почему-то на животе. Нестерпимо жгло ниже спины.
К нему тотчас подошли.
– Он в себе, – сказал лекарь.
– Я в него попал, – превозмогая боль, процедил сквозь зубы Лазорев.
– Чересчур хорошо попал! – сказал великолепный сановник, и Лазорев узнал Богдана Матвеевича Хитрово.
Хитрово поднес ему чашу, и Лазорев, чувствуя испепеляющую жажду, жадно выпил. То было вино.
– Что случилось промеж тобой и немцами? – спросил Хитрово.
– Он чужой? – спросил в свою очередь Лазорев.
– Ты по порядку все расскажи. – Не замечая вопроса, Хитрово подал вторую чашу.
– Он чужой? – в ярости закричал Лазорев.
– Чужой, – ответил Хитрово.
Лазорев чуть не заснул: такое спокойствие вдруг нашло на него. Рассказывал, вздремывая, а рассказав, встрепенулся:
– Ноги-то у меня целы?
– Целы! – засмеялся Богдан Матвеевич. – Вот будет ли на чем сидеть? Обе ягодицы тебе разворотило.
– Я знал, что в спину выстрелят. – Лазореву стало холодно от мурашек. – Рихтета поймали?
Хитрово помолчал, но сказал правду:
– Не поймали. Ушли и двадцать рейтар за собой увели.
– А что с поручиком?
– Да что? Убил ты его.
– Надо отменить завтрашний приступ.
– Проку мало. Завтра не пойдем – они нас будут ждать послезавтра.
В ночь на 12 сентября Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин был поднят задыхающимися от торопливости ударами сполошного ясака.
Выскочил из шатра, наткнулся на охрану; никто не знал, откуда напали, много ли нападающих. Уползали во тьму, затаиваясь в канавах и в кустарнике, не самые смелые. Смелые палили из ружей куда Бог послал. Только с рассветом страх наконец отпрянул от людей. Врага не сыскали, перевязали раненых – сами и перестрелялись, вернулись бежавшие.
Пока в лагере Ордина-Нащокина искали виновников переполоха, войска князя Черкасского и Хитрово ходили на приступ и были отогнаны от стен точной и густой пальбой пушек.
Государь, слушая доклады о неудачах, сидел с таким лицом, будто ему зубы рвать.
Когда же явился Ордин-Нащокин и сообщил, что караульные сполошный ясак подали попусту – лошадей, пущенных в ночное, перепугались, – Алексей Михайлович вдарил об пол стеклянный кубок с орлом.
– Виновных бить кнутом! Чтоб неповадно было пугать людей. Этак все разбегутся. И уже ведь бегут! Каждый день бегут.
Пришлось государю приказать воеводам – ставить в тылу заслоны, ловить, бить и возвращать беглецов в окопы.
Приступ 16 сентября стал вторым комом, еще большим, чем первый. Рижский губернатор граф Габриель де ла Гарди устроил такой прием нападавшим, что они оставили во рву более тысячи человек.
Чтоб хоть как-то отвлечь войско от неудачи, Алексей Михайлович прислал в полк князя Черкасского для немедленной раздачи пяти тысяч рублей серебром.
Подкрепив солдат, царь решил и у Господа получить подмоги. Издал указ о прощении всех воров и разбойников, если только они покаются в грехах. Такой указ государь издавал еще в прошлом году, но проку вышло мало: разбойников не убыло, а прибыло.
В ночь на 17-е царь с воеводами и священством молился за упокой душ, погибших на приступе.
Утром – новая напасть! В Ригу пришли корабли, привезли продовольствие и солдат. Да ладно бы пришли, но и ушли, увезли женщин, детей, стариков, раненых. Лишние рты увезли.
Генерал Лесли на совете воевод предложил немедленно отступить на зимние квартиры в занятые города. Поход нужно начать в мае, а сейчас самое мудрое – это сохранить войско от бессмысленных потерь. Дожди заливают окопы, большинство солдат и стрельцов нездоровы. Люди начинают умирать не от пуль, а от болезней. Многие бегут.
Иноземного генерала выслушали и решили по-своему.
Государь сам назначил день нового приступа. Дал неделю на подготовку.
Но 24 сентября вместо приступа, назначенного на утро, разгорелся бой в Ертаульном полку Петра Васильевича Шереметева, прикрывающем тылы. Шведское войско фельдмаршала Кенигсмарка и генерала Дугласа рассекло русские порядки и, под радостную пальбу со стен, вошло в город.
Надежда сломить малый, слабый гарнизон могучей крепости развеялась. Сил у противника прибыло. Небо то сочилось, то проваливалось – ни единого погожего дня! Хоть бы раз показало солнце свой лик охочим до войны людям.
Нет! Ни солнца им, ни месяца!
Государю ударил челом дворянин Иван Козлитин. В бою 24 сентября погиб у него сын Иван.
«Людей и крестьян у меня нет, – писал в челобитной Козлитин, – дозволь, великий государь, отвезти сына на Русь».
Государь дозволил.
Вместе с Козлитиным отправился на Русь и полковник Андрей Лазорев. Подвод с тяжелоранеными набралось более сорока, возницами были тоже раненые, но такие, что могли с лошадью управиться, дать поесть-попить.
Борис Иванович Морозов, знавший о смешном и очень уж неудобном ранении Лазорева, пришел проститься с ним. Дал денег на дорогу, подарил ружье и два пистолета, снабдил грамотой с царской печатью:
– Ныне на Руси от разбойников ни пройти, ни проехать. Собери из моей дворни отряд человек с триста и очисти леса возле моих сел от гулящих дурных людей. Служба твоя пойдет в зачет государевой – в том порукой царская грамота.
Казалось бы, кто посмеет обидеть человека с такими полномочиями? Ан нет! Нашелся смельчак.
Верстах в сорока от Риги обоз с ранеными остановил князь Барятинский, ловивший на дорогах беглецов.
Барятинскому нужны были телеги, и он, не слушая стонов и криков, не читая грамот, велел положить раненых по двое, а свободных, наиболее здоровых возниц воротил под Ригу.
Лазорева кинули на телегу Козлитина.
– Ты не горюй! – утешал его дворянин-возница. – Гроб я добыл надежный. Сын льдом обложен. Не завоняет. А я за тобой присмотрю. Мне с живым легче будет ехать.
Глядя в щель на дорогу, на вихляющее колесо в разъезженной колее, Лазорев вспоминал то одно из своей жизни, то другое. И все это ему казалось небылью. А былью была бессмысленная колея и колесо, давившее ту колею.
Но коли не помер – живи. И он жил.
Глава 4
1
«Многолетствуйте, государыни мои светы, и с нами, а мы к вам за милости Божией Актебря в 1 день пойдем. Брат ваш царь Алексей челом бьет».
Письмо было отправлено, однако Алексей Михайлович медлил уходить из-под желанной Риги.
Воеводы готовили последний, самый решительный приступ. Для решительного и люди нужны решительные. Князь Черкасский жил с Хитрово как кошка с собакой. Алексей Михайлович развязал этот узел просто и ко всеобщему удовольствию. Хитрово поехал в Москву вести переговоры с задержанным шведским посольством, а вместо него товарищем воеводе Черкасскому велел государь быть Осипу Ивановичу Щербатову.
Приступ назначили на 2 октября после обедни, но шведы, получив и этот тайный указ, напали всеми своими силами в 8 часов утра.
Убито и ранено было так много, что сначала потери считать не стали. Шведы захватили обоз, пленили семнадцать знамен.
Царь не покинул войско в тяжкие дни. Приказал подать ему списки убитых и раненых. Убитых было восемь тысяч, раненых и пропавших без вести – кто пленен, кто сбежал – четырнадцать тысяч. Среди убытков хваткие подьячие посчитали даже бомбы, пущенные из пушек на Ригу. Их оказалось 1875.
Дождь почти не переставал, часть окопов затопило. В бега подались дворяне. Каждая ночь приносила убыль.
Алексей Михайлович медлил назначить день всеобщего отхода: надеялся на последний приступ, на чудо. Отступить – изменники сообщат шведам день и час, а в спину бить куда как удобно.
И позвал государь к себе Ордина-Нащокина, сам был с Федором Михайловичем Ртищевым. Однако сидел на своем государевом месте.
– Прикажи, Афанасий Лаврентьевич, четырем головам – двум русским и двум польским, чтоб шли вдоль Двины и нападали на шанцы, – сказал Алексей Михайлович, выслушав приветствие и переждав дюжину поклонов, которые отбил перед царем воевода. – Если возможно, пусть дойдут до устья и, взяв побольше языков, возвращаются. Как думаешь, для такого дела четыреста сабель будет достаточно?
– Достаточно, ваше величество. У меня один вопрос: тихо идти или шумно?
Государь внимательно посмотрел в глаза Ордину-Нащокину.
– Шумно, – и еще раз посмотрел долгим взглядом. – Скажи положа руку на сердце, почему надавали нам тумаков?
Афанасий Лаврентьевич вздрогнул, поднял строгие свои глаза на государя и, потупясь, ответил:
– Воевать не учены, ваше царское величество. Европа тридцать лет воюет, а мы всерьез не дрались со времен Куликова поля.
Царю ответ очень понравился, поглядел на Ртищева, приглашая оценить сказанное.
– А государь Иван Васильевич? А взятие Казани? – спросил Ртищев.
Ордин-Нащокин покраснел: «Господи, как же это? Попал впросак. Перед царем умничал и – дурак дураком. Как могли вылететь из головы деяния Грозного?»
– Взятие Казани – то война промеж своими, – нашелся Афанасий Лаврентьевич. – Ты, Федор Михайлович, скажешь, какие же татары свои? А я скажу тебе: погляди на бояр наших. Годуновы, Урусовы, Шереметевы, Черкасские… – все из Золотой Орды вышли.
– А он прав! – сказал Алексей Михайлович с жаром. – Государь Иван Васильевич, правда, в здешних местах бился. Так ведь тому – семьдесят пять лет. Кто из моих воевод великие-то крепости воевал? Смоленск брали, так это наш родной город. А вот вокруг Львова походили-походили и утерлись. Вот и Ригу никак не возьмем. Сами не умеем города воевать, а немцы измену творят, хоть всех со службы гони.
– Всех, государь, гнать нельзя, – твердо заступился за иноземцев Ордин-Нащокин. – Генерал Лесли тебе всем сердцем служит. Черным стал от измен.
– Старик он! Старик! – вздохнул государь. – Ему бы десяток лет скинуть.
– Чтобы не было измены, нужно русских людей учить немецким наукам. Немцы потому предают, что душа у них голая. Они не тебе, государь, служат, но деньгам. Погибли припасы, качнулась чаша весов – тотчас и побежали прочь. Ах, государь, нашим бы людям науку! У русских – дух, вера! Мы верою и духом много выше и сильнее европейцев, потому будущее за нами. Но они еще долго в земных делах будут превосходить нас.
– Почему? – Государя удивлял разговор, ему было интересно.
– Да потому, что мы – о небесном, они – о земном. Мы о Боге, они – о мамоне… И однако, ваше величество, я думаю, обучиться наукам – и всяким – можно за одно поколение. Я по своему сыну могу судить. Он ни в чем не уступает иноземцам. Правда, обучаю его с малых лет.
Тут послышались громкие настойчивые голоса, и в шатер вошел Матвей Шереметев:
– Прости, великий государь! Генерал Лесли челом бьет.
– Пропусти генерала.
От Лесли остались кожа да кости. Вошел, поклонился:
– Ваше величество! Измены немецких офицеров поразили меня в самое сердце. На нас смотрят как на главную причину всех неудач и поражений. Боюсь, что мое слово ныне подобно пустому звуку. Но, ваше величество, ради благополучия твоего царствия, ради твоих солдат – отведи войска. Не дай им умереть, ни на фут не подвинув твое царское величество к твоим государственным целям. – В глазах генерала стояли слезы. Может быть, это были слезы старости, но царь сошел со своего места и обнял генерала.
– Твоя служба, отец мой, выше всяких похвал. Ты ни в чем не уронил дворянской своей чести. И мы награждаем тебя.
Государь повернулся к Ртищеву, и тот понял, что нужно. Генералу Лесли был пожалован золотой для ношения на шляпе.
– Но что я скажу моим солдатам? – спросил генерал.
– Твои слова дошли не только до моего слуха, – ответил Алексей Михайлович. – Соберем воевод, как они скажут, так и будет.
Ночью 5 октября войска были выведены из окопов. Ушли полки Ордина-Нащокина, Стрешнева, Прозоровского.
Под Ригой остались князь Яков Куденетович Черкасский и Петр Васильевич Шереметев.
6 октября они прислали сеунча: из Риги выходили граф Магнус и граф де ла Гарди. Бой был крепкий, многих шведов побили и взяли в плен.
То было царю утешение, но малое.
2
9 октября Алексей Михайлович пришел в Царевиче-Дмитриев-град.
Здесь на воеводстве был оставлен Ордин-Нащокин. Ему государь поручал смотреть за всем завоеванным краем. С государями только раз и надо поговорить с умом. От умных-то и берегут царей серые приспешники.
Таков уж, видно, закон жизни: творят мед пчелы, слетаются на мед и пожирают его осы. Пчела жалит ценой жизни, осы только и умеют, что жалить.
Алексей Михайлович шел в обратную дорогу так медленно, словно крест нес. Городов было взято много, а все же не хотелось явиться Москве царем, которого не устрашились.
26 октября царь был в Дисне. Здесь его догнал сеунч от воеводы Алексея Никитича Трубецкого: сдался, присягнул Московскому государю город Дерпт, по-нашему Юрьев. Крепость превосходная, из неберущихся. Теперь за царем была восточная Лифляндия с линией городов, опоясанных могучими стенами, – Мариенбург, Нейгаузен, Юрьев, Царевиче-Дмитриев, Борисоглебск.
Полоцк встретил Алексея Михайловича 31 октября. Древний город нравился царю, но он затворился в комнатах. Не то чтобы смотреть на красоты – от еды воротило. Так ждал вестей из Вильны, хоть самому беги.
Чтоб не сидеть, уставясь в одну точку, не талдычить одну и ту же думу: изберут в польские короли – не изберут, занялся путаным делом воеводских перемещений.
В Менске умер воевода Арсеньев. Поглядев списки городов и дворянских служб, как бы кого не умалить, как бы кому лишнего не воздать, Алексей Михайлович повелел ехать в Менск Василию Яковлеву, сидевшему воеводой в Шилове, а на место Яковлева послал стольника и воеводу Ивана Тологанова. Поменял также воеводу в Великих Луках. На место Дмитрия Сентова должен был ехать князь Василий княж Наумова сына Приимкова-Ростовского. Нужен был воевода в Юрьев, но тут следовало семь раз отмерить. Город на острие войны. Можно бы Матвея Шереметева послать… И отчего бы не Шереметева? Но, сказывают, воевода Пскова князь Хилков с псковичами не больно ладит. Хилков – добряк, вот нахрапистые псковичи и рады сесть ему на шею. В новый город как раз и сгодился бы человек мягкий, без дуростей, чтоб пришлая власть не досаждала людям понапрасну. Матвей Шереметев – кремень, он от своего слова, хоть убей, не отступит. Но умен, решителен. Ему бы в Большом полку воеводить вместо Черкасского. Глядишь, ныне в Риге бы все были…
И тут оставалось только вздохнуть. Новые порядки царь велел заводить, да не волен старые отменять.
Алексей Михайлович покончил с делами и, чтобы занять себя, хотел шутов кликнуть, но тут бегом прибежал Федор Михайлович Ртищев:
– Великий государь! Сеунч от князя Никиты Ивановича Одоевского.
Алексей Михайлович так и размяк.
– Зови, – сказал и сам себя не услышал. – Зови!
Сеунч Денис Астафьев сказал коротко:
– Князь Никита Иванович Одоевский кланяется тебе, великому государю. Посылает он тебе, твоему царскому величеству, многие грамоты и на словах велел сказать: «Обрали тебя, государя, твое царское величество, королем Польским и великим князем Литовским».
Наступила долгая пауза. Крупные капли пота выступили на лбу Алексея Михайловича, поползли, застревая в бровях.
– Ну-ка, ты еще скажи, что Никита Иванович передать велел.
Астафьев повторил известие.
Опять стало тихо.
В покоях были все свои: Борис Иванович и Глеб Иванович Морозовы, Илья Данилович Милославский, Федор Михайлович Ртищев.
– Будто бармами отягчили. – Алексей Михайлович пошевелил плечами, улыбнулся. – Денис-сеунч говорит, а у меня на плечах тяжелеет. Наградите сеунча! Напоите, накормите, спать положите! Устал человек с дороги.
– Великий государь, у меня еще грамоты к тебе, – напомнил сеунч.
Грамоты принял Борис Иванович Морозов. Сеунча увели награждать и ублажать, а царь, соскочив со своего царского места, кинулся целоваться со всеми, кто был в комнате. Шут объявился, Чердынцев, и его трижды чмокнул щедрый государь.
– Господи, неужто свершилось?!
Алексей Михайлович опустился на колени перед иконами и разразился потоками счастливых слез. То была молитва бессловесная, когда не мысль, но чувства улетают к Богу невинные, как птицы.
– В Тверь пошлите сеунчей! К царевичу, к Никону, к царице с царевнами! Князю Григорию Семеновичу Куракину в Москву, пусть в Успенском соборе и во всех московских храмах служат благодарственные молебны. По всем городам пусть служат. К Ордину-Нащокину сеунча. Во вновь взятых городах из пушек палить, молебны служить, отпускать вину виноватым, служащих по совести награждать и привечать.
Поглядел на бояр и комнатных ближних людей своих глазами, из которых все еще капало.
– Помолиться хочу.
Бояре пошли из царских покоев, но Алексей Михайлович догнал Бориса Ивановича и взял его за руку.
– Останься, отец! – Усадил старика рядом с собою. – Неужто Россия и Польша – единое? Те, кто держал в плену моего деда, кто жаждал смерти моему отцу, кто сидел в Кремле, морил голодом патриарха Гермогена, – отныне мои подданные? Как все другие?
Борис Иванович положил голову царя себе на грудь:
– Алеша! Я же всегда говорил тебе: будь душою чист, сердцем великодушен, и царства сами припадут к ногам твоим.
Алексей Михайлович отер платком глаза. Засмеялся:
– Ишь как намочил. Хоть выжимай. Слаще сна нынешний день.
– Воистину слаще, – согласился Морозов. – В мире преображение, тьма трепещет перед светом. Алексей Михайлович озаботился вдруг:
– В колокола-то что же не бьют?
Тотчас и ударили.
– Все по слову твоему свершается, царь мой! – Борис Иванович стал на колени и поцеловал край царских одежд.
Алексей Михайлович снова всполошился, поднял старика, принялся целовать ему руки:
– Ты не отец мне! Ты учитель мой!
Они оказались перед зеркалом и оба посмотрели в правдивое стекло.
– Ни в чем я ныне не меньше Юстиниана или Константина, – сказал Алексей Михайлович. – Моя Византия еще поболе, чем их.
– Истый, истый багрянородец и базилевс! – воскликнул распираемый гордыней Борис Иванович: его ум пророс в государе, расцвел, просиял на все земные страны и народы.
Они снова посмотрели в зеркало и понравились себе: молодая гроза и громада серебряно-белой мудрости.
3
Договорную запись о приостановлении войны и об избрании Алексея Михайловича на будущем Варшавском сейме королем Польши московские послы ближний боярин Никита Иванович Одоевский, окольничие Иван Иванович Лобанов-Ростовский, Василий Александрович Чоглоков и польские комиссары полоцкий воевода Ян Казимир Красинский, маршалок Великого княжества Литовского Криштоф Завиша и другой Завиша, виленский номинат-бискуп, подписали 24 октября. Посредничали в переговорах австрийские послы Аллегрети и Лорбах. Тут и вывалилось наружу все безобразное коварство иноземных радетелей России. Одоевский требовал от польской стороны уступить в пользу Московского царства княжество Литовское и уплатить военные издержки. Красинский настаивал на возвращении Речи Посполитой всех завоеваний и предъявлял счет убытков, понесенных Польшей за время войны. Аллегрети держал сторону поляков, а когда речь зашла об избрании Алексея Михайловича на польский престол, то объявил с гневом и страстью, что он слышать о том не хочет. У цесаря есть дети и братья одной с поляками веры. Они более приемлемы в польские короли, нежели Московский царь.
На этот пассаж Аллегрети со стороны Красинского последовала отповедь.
– Нам цесарева племени Австрийского дома короли уже наскучили, – объявил Красинский. – Как у нас государствовало потомство Ягайла-короля, то мы благоденствовали, а когда начали у нас быть короли немецкой породы, то мы от их потомства мало что не нищие.
В личной беседе польский комиссар пожаловался Одоевскому:
– Цесарские послы рады не соединению, а розни.
Эта беседа, на которой поляки в открытую ругали коварного иезуита Аллегрети, была принята Одоевским за искреннее дружелюбие. Да ведь и то: полякам и русским предстояла союзная война против шведов.
А пока Россия ликовала.
2 ноября в Спасо-Преображенском монастыре на торжественной службе игумен Богоявленского братского монастыря Игнатий Иевлич разразился блистательною речью во славу нового короля Польши. Но более всего из этой речи царю понравился перечень его новых титулов: «Избранный король Польский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Инфляндский…»
Вся полоцкая шляхта была приглашена государем к его царскому столу. Тот стол смотрел воевода Матвей Васильевич Шереметев, осанкою превосходивший всех других сановников московских.
Уже на пути в Смоленск стали поступать вести о празднествах.
Первым, кто поспешил сообщить царю о молебствии за царский дом, был воевода Ордин-Нащокин. Он писал: «На славу твоей государева превысокия руки ратного строю и на страх противным», после молебна в Царевиче-Дмитриеве-граде стреляли изо всех ружей и изо всех пушек.
Патриарх Никон молился за царя, радовался его радостью в Вязьме. Тотчас и сам повеличался. Отправляя грамоту Каллисту, игумену морковскому, которого он назначил наместником полоцким и витебским, Московский патриарх титуловал себя короче, чем царь, но весомее: «Никон, Божиею милостью святейший архиепископ царствующего града Москвы и всея Великия, Малыя и Белыя России и всея Северные страны и Помории и многих государств патриарх».
Путешествовать по осенним грязям в карете было немыслимо. И для Никона в Твери соорудили особые сани, снаружи окованные железом и разукрашенные, изнутри обитые войлоком, утепленные овчинными и лисьими одеялами. Поезд патриарха, царевича и царицы состоял из сотни подвод, не считая карет и саней для царской семьи и боярынь.
Бог берег патриарха. Едва его поезд ушел из Твери, как на город пал смерч и выломал рубленого города на двадцать три сажени по подошву. Большинство крыш с домов, особенно соломенных, унесло и развеяло. В самую-то осеннюю непогодь.
Государь между тем поскакал, сколь было можно, навстречу семье и Москве.
20 ноября он добрался до Смоленска и сразу написал сестрам: «А скорее тово поспешить нельзя. Сами видите, какая по дороге расторопица стоит и груда и обломки».
4
Царица Мария Ильинична коротала долгий осенний вечер с боярыней Федосьей Прокопьевной. Они только что намылись в бане и, сидя у натопленной печи, расчесывали волосы. Печь была крыта новехонькими белыми, с изумрудными травами, изразцами. Те изразцы изготовляли в Иверском монастыре. Среди переселявшихся на Валдай белорусов был мещанин Игнат Максимов из города Кокеса. Едва он заикнулся о своем мастерстве, как тотчас был обласкан и приставлен к изразцовому делу. Ему сложили избу, поставили печи, какие он указал: трудись, богатей, лишь бы прок был от заведения.
– Не стану грешить, – сказала Мария Ильинична, – Никон – великий охотник строить. В прошлом году святейший населил Иверский монастырь белорусами, а ныне уж и до Вязьмы изразцы дошли. Как глаз-то ласкает печка. Свету от нее в комнате вдвое.
– Святейший куда ни придет, там и строит, – подхватила царицыно слово Федосья Прокопьевна. – На наших глазах поставили церковь в Зверинах. За две недели!
– За две с половиной, – поправила царица. – Ничего тут не скажешь – строитель. Четыре года в патриархах, а у него уж и Крестный монастырь стоит, и Иверский, и еще много чего удумано. Иерусалим собирается перенесть на Московскую землю.
Замолчала, торопливо разбирая волосы.
– Федосья! Гляди!
– Чего?
– Волос седой.
– Давай, государыня, выдеру!
– Выдери! Еще-то нет ли? Хороша я буду показаться Алексею Михайловичу в сединах! – Быстро покрестилась на иконы. – Господи, пошли скорую зиму, чтоб дорога-то легла какая следует.
– Заждалась! – вырвалось у Федосьи Прокопьевны.
– Заждалась! Сплю и горю! – Всплеснула руками, утонула в лавине тяжелых волос. – Вспомнила!
– Что с тобою, государыня?
– Сон нынешний вспомнила. Вчера странница про птицу Феникс сказку сказывала. Вот и приснилось мне, будто сама я и есть птица Феникс. Всю-то ночь, кажется, летала. То вверх, то вниз. Вверх лечу – смеюсь, вниз – обмираю. Между ног жмет! А хорошо, как на качелях. Федосья, вот бы тебе поглядеть! Уж такие несказанные перья у меня были, что там кумачи, атласы. Лечу, а вокруг меня светоярое облако. Еще вспомнила! Федосья, а я во сне-то моем – снеслась. Целое гнездо яиц наложила. Все белые, а три яйца, с краю, золотые… Утром заспала сон, а сейчас на изразцы гляжу, все и всплыло. Дай руку.
Приложила Федосьину руку к своей груди, и та услышала, как сильно бьется у царицы сердце.
– К чему бы это?
– К прибыли! Золото снится к прибыли.
– А знаешь, что я думаю! – И, взяв боярыню за голову, шепнула ей на ухо: – Трех царей я рожу.
И приложила палец к губам.