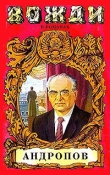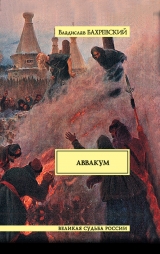
Текст книги "Аввакум"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали.
Правда Богу мила, а людям нет, не мила. Ни в чем у людей нет правды: ни в горе, ни в радости. В победе нет, в поражении подавно. Неправдой жив человек. Все мы по правде истосковались, крохи ее бережем в себе, как последнюю надежду свою. Хвалим за правду смелых да безумных, но чтоб хоть день единый правдой жить – духу нет, проживем день-другой, там всем от того житья нашего и смятение и неустроенность. Курлыкнем и опять в тину, со всеми в лад и квакать и помалкивать.
Неба жалко! Такое небо над нами! Такая воля!»
22
Земля и народы на земле разные, а небо одно.
Так много неба стояло в тот вечер над головой Андрея Лазорева, что, явись ему ангел, не удивился бы и не оробел.
Земля, замерев на вздохе, ни единой травинкой не шелохнула. Протока светила в лицо, и Андрей кожей чувствовал прикосновение этого серебра.
«А почему я Лазорев? – подумал он и тоже замер на вздохе. – Лазорев. Кто это?»
В том мире, который он, ловящий на уду пескарей, покинул год тому назад, Лазорев был слугой царя, полковником, господином крестьян, владетелем двух деревенек. Мог бы стать стрелецким головой, получить за службу еще одну деревеньку. Мог бы на воеводство поехать, городок дали бы самый дальний, самый малый. Но городов у государя прибывает… И все это пресеклось. Не стало Лазорева.
Он погладил левой рукою себя по бритой щеке и усмехнулся. Расе, жене, нравился бритый муж.
Поплавок нырнул, рука рванула удилище, и перламутровый пескарь затрепетал в воздухе, ударяя хвостиком по новорожденному, тонюсенькому, похожему на пескаря месяцу.
Завтра у Расы день рождения, он решил угостить ее ухой из пескарей, вкуснее которой не бывает.
Весь год он прожил как в сладком сне. Само детство вернулось к нему. Ему не надо было стремиться куда-то, к чему-то… Утром он шел в лес и, если не было холодно, стоял, прислонясь к дереву, и лес, потеряв его из виду, жил не таясь. В двух шагах от себя он видел любовные игры зайцев. Видел, как лиса ловила и поймала мышь. Видел гадюку, убившую ужа, а все-то говорили, что ужи – гроза гадюк. Он никого не тронул из зверья и не желал знать иных людей, кроме Расы, маленькой Расы и Миколаюса.
Крестьянская работа Андрею была не по его рукам. Раса, умница, поняла это и никогда ни о чем не просила, Мужчина, посланный ей самим небом, был дворянином, и он озолотил ее. На все важные крестьянские дела Раса нанимала работников. А сена накосил сам Андрей. Любил походить с косой, испить разлитого в воздухе травяного духа, от которого не миражи в голове, а одна только радость.
После сенокоса Раса глядела на мужа влюбленными глазами – таких косарей она еще не видывала. И Андрей был рад, что его любят.
Только раз он ездил в селение, где случилась у них резня с людьми Поклонского. Раса, чтобы не обременять себя чрезмерной работой, продала трех коров из пяти и трех телок.
На базаре Лазорев встретил своего солдата и узнал, как местные вдовствующие женщины спасали и выхаживали раненых. За малым исключением, выжившие остались со своими спасительницами.
– Все равно что на том свете! – сказал солдат. – Жизнь тутошняя сытней и свободней. Одно плохо – уж больно разумна.
– Андрис! Андрис! – На тропинке стоял, не видя рыбака, Миколаюс.
– Я здесь! – Лазорев поднялся из травы.
Мальчик принес кринку парного молока и хлеб.
– Спасибо! – сказал Андрей по-русски.
Литовский язык он освоил так быстро, что Раса и ее дети иногда затевали с ним игру в слова, то показывая на какие-то предметы, то выговаривая трудные сочетания слов. И выходило, что он все почти знает.
– Сегодня рыжая корова прибавила! – сказал Миколаюс, берясь за удочку.
– Это потому, что мы ей накосили медвяного, самого вкусного сена. – Андрей кивнул на стожок сена на лугу.
Низко, чуть не задев поплавок, промчалась над водой ласточка. Мальчик дернул удочку и с плеском вытащил большого красноперого голавля.
– Ого! – похвалил Андрей и вдруг медленно стал садиться, с куском хлеба в одной руке, с кринкой молока в другой. – Ложись, Миколаюс! Ложись!
Мальчик лег, но тотчас поднял голову и снова упал на живот: из леса выезжали всадники.
– Удочку забери! Ведро! Ко мне за куст! Ползком! – шепотом приказал Андрей, допил молоко, хлеб положил за пазуху и пополз в боярышник, густо облепивший пригорок. Миколаюс улепетывал на коленках за ним следом, посыпая траву пескарями.
За кустами Лазорев огляделся.
– Беги домой! – шепнул он Миколаюсу. – Им тебя не видно. Тот берег ниже. Скажи матери, пусть самое ценное спрячет в лесу.
Мальчик убежал, прихватив и удочку, и ведро с пескарями, и кринку, утопив ее в ведре.
«Обстоятельные люди», – подумал Андрей, поглядев вослед сыну Расы, – и все внимание на реку.
Насчитал пятьдесят лошадей, но всадников было чуть меньше. Видно, у отряда потери.
– Мать твою так! Куда ты коня суешь? Тебе места на реке мало?
Не ком, а жуткий еж встал у Лазорева поперек горла – свои! И такие же глупые!
Поискал глазами командира.
«Молодой Хитрово! Яков».
Лошади пили воду, фыркали, рейтары громко переговаривались.
– Далеко забрались! – сказал один.
– Язык языкастый нужен!
– Как бы нам самим языками не стать! Свейские люди не дурей нас с тобой.
– А ты по сторонам меньше поглядывай.
– Лучше лишний раз головой повертеть, чем головы лишиться.
«Свободные лошади у них для языков приготовлены, – догадался Андрей. – Стало быть, война со шведами, если свейских языков ищут?»
Раздались команды. Рейтары сели на коней и уехали, не торопя их. Шведы, должно быть, тоже близко.
Раса сидела за столом, глядя в одну точку.
– Они уехали, – сказал Лазорев.
– Слава Богу! – Она сделала вид, что тревога ее прошла.
Ночью Раса изласкала его, да так, что подвывать принялась.
– Что с тобою? – спросил он ее.
Было уже светло, она, красивая, как никогда, лежала, глядя в потолок.
Ответила, когда обед ставила на широкий стол:
– Русские приходили.
– Боюсь, что и шведы скоро появятся.
– Русские приходили, – повторила Раса, и ее голос был тусклым от покорности судьбе.
Лазорева приход своих ничуть не встревожил. Удивило другое: только призадумался о былой своей жизни, тотчас и явились резвые рейтары, будто стояли в лесу и ждали, когда он их позовет.
Нет, душа не кинулась стремглав в погоню за Яшкой Хитрово. Лазорев был доволен миром и покоем в самом себе, война бы вот только не задела его убежища.
Он почистил коня, подкормил овсом и пшеницей.
«Нужно быть начеку, – объяснил он себе свои приготовления. – Нужно не ждать гостей, как снега на голову, а знать, где они и куда держат путь».
Раса появилась в конюшне, держа маленькую Расу за руку. Увидала мужа со скребницей и отвела глаза.
– Ты не о том думаешь, – укорил он ее. – Если они вознамерятся посетить наш дом, я уведу их в сторону.
Она поцеловала его. Маленькая Раса тоже потянулась к нему. Он взял ее на руки и получил еще один поцелуй.
Целый день Лазорев просидел дома, занимаясь починкой обуви: прошил дратвой башмак Миколаюса, прибил каблуки к сапожкам маленькой Расы. Она у них была щеголихой, всем на радость. Спать они легли рано. Андрей плавал в дреме, насторожа уши. И ему послышался-таки конский топ. Встал.
Раса дотронулась до него теплой, ласковой рукой.
– Где-то близко проехали. Пойду посмотрю.
Оделся, взял тряпок обмотать коню копыта.
С холма Лазорев видел окрестности не хуже, чем с облака. Не зря ему пригрезился конский топ.
В лес, куда уходила дорога, втягивался большой конный отряд шведов. Другой отряд, пеший, укрылся в кустарнике, не доходя до леса с полверсты.
– Да ведь это засада! – пробормотал Лазорев. – Все, кто попятится из лесу, получат удар в спину. Уж не захватил ли Хитрово неких важных персон?
И тут вышедший из игры полковник увидел, как с запада идет по дороге на рысях конский отряд рейтар.
– Выручать ведь вас надо, братцы! – Лазорев вздохнул, перекрестился и тронул повод.
Лес укрывал его почти до самой протоки. На протоке он знал брод. За холмом есть еще одна протока между озерами.
Рейтары проскочили засаду и, Лазореву в облегчение, себе на счастье, повернули туда, где он ловил пескарей: коней напоить. Андрей выехал им навстречу, высоко подняв руку.
– Хитрово! Я – полковник Лазорев. В лесу шведская конница, в перелеске за спиной у тебя – пехота. За мной, через брод!
И тут из лесу тяжелой массой выдвинулась конница.
Лазорев пустил коня в протоку.
– Ни влево, ни вправо! Брод узкий, ямы глубокие. По моему следу за мной!
Он увел рейтар на остров, в лес, проскакал краем поля, где Раса посеяла горох, и через камыши выбрался к противоположной протоке.
Только на другом уже берегу понял: возврата для него на тихий остров – нет.
Дознание по делу Лазорева вести взялся Богдан Хитрово. Выслушал рассказ о стычке с Поклонским, о жестокой долгой болезни и обнял полковника. Спасение сына от плена, а то и гибели было для Богдана Матвеевича дороже правды. За правду сошло то, о чем рассказал Лазорев.
Хитрово наградил полковника деньгами на обзаведение, одел, обул и так ловко доложил о нем государю, что Лазорев получил назначение быть при генерале Лесли, которому и предстояло повергнуть рижскую твердыню к ногам его величества.
23
– В России даже для генерала нет хорошей зрительной трубы! – Шотландец Лесли круглыми бесцветными глазами уставился на господ полковников, тех же шотландцев и немцев, трубу тыча, однако, русскому.
Лазорев взял трубу и навел на форт, на противоположный правый берег Двины. Увидел пушку и пушкаря, подправлявшего усы перед зеркалом начищенного до блеска металла.
Генерал сдвинул белые, с остатками рыжины брови, но Лазорев так был занят рассматриванием шведских усов, что не заметил грозы. И гроза для него миновала. Генерал накинулся на полковников-иноземцев. Впрочем, чтобы не уронить их достоинства, он кричал по-немецки и по-английски:
– Синклер! Штрафорт! Говен! Что вы уставились на трубу? Роннарт! Штаден! Альмка! И вы, вы! Как вас?
– Юнгман, господин генерал!
– Куда вы все смотрите? Вы видите эти форты, форштаты, гласисы, верки? Понимаете ли вы, что за крепость перед вами?
– О такую крепость любой медведь расшибет голову, господин генерал! – весело отозвался Штаден.
– У медведей головы очень крепкие, свинцовые пули расплющиваются о лобовую кость, – отпарировал Лесли, краем глаза следя за Лазоревым, который нежнейшей белизны платком протирал окуляры трубы. – Нас для того и позвали на службу, господа, чтоб не только медведи, но и солдаты не теряли попусту своих голов.
– Господин генерал! К стеклу мошка пристала. Теперь иное дело! – Лазорев сказал это по-немецки и возвратил трубу.
Лесли тотчас приложился к окуляру и правой, тоненькой, совсем уже детской, иссохшей от старости ручкой повел по позициям врага. Голос его стал отрывист и точен. Генералу было восемьдесят два года, но он так много знал и умел, в нем столько еще было нерастраченного рвения служить честно, дабы не уронить своего ремесла, своего генеральского чина, дворянского звания. Да ведь и деньги надо было отрабатывать.
– Синклер! Штрафорт! Видите куртину возле форштата? Прямо от берега реки поведете сразу два хода сообщения. Возле крепости у подошвы гласиса их надо развести таким образом, чтобы перед цитаделью поместились три ряда сомкнутых окопов для пехоты и пушек. Штаден и Говен! Какую ошибку совершила оборона противника? Я к вам обращаюсь, господа!
– Генерал! Вы имеете в виду недостроенные валы вокруг форштатов? – спросил Штаден.
– Нет, полковник! Я имею в виду сады! Рижане то ли пожалели свои сады, то ли не догадались, что они подспорье осаждающим. Разместите в этих садах окопы. Под укрытием зелени удобно незаметно накапливать значительные силы для атак.
Генерал повернулся к реке:
– Сомкнутый форт за Двиной оставляет за противником господство на реке. Вы, господин Альмка, будете строить лагерь вниз по реке за фортом, а вы, господин Юнгман, поставите лагерь перед фортом. Роннарт! Ваше дело поставить пушки. Вот мой план, господа. Есть ли возражения? Не возражаете. Тогда перейдем к деталям. Предлагаю отрыть окопы в виде исходящих и входящих частей, чтобы они взаимно фланировали друг друга. Защитить окопы следует не сплошным, но цепным валом. Это сбережет время и труд. Такое расположение окопов, по моим расчетам, удобно для нападения и надежно для обороны. – И вдруг повернулся к Лазореву: – А что вы скажете о крепости, господин полковник?
Лазорев вздрогнул, он не ждал внимания генерала. Вопрос ему показался высокомерным и обидным.
– Если вы, господа, не поможете государю, его царскому величеству, взять Ригу за три недели, – начал он по-немецки и закончил по-русски, – то тогда ее вовсе не взять.
У Лесли брови поднялись и в глазах сверкнул острый огонек интереса.
– Это как так есть?
– Место гнилое, господин генерал. Скоро пойдут дожди, и конца им не будет до декабря.
– Предупреждение простое и потому серьезное. – Генерал дотронулся рукой до краев своей железной шапки. – Что ж, господа, будем торопиться, К первому сентября окопы и валы должны быть готовы, а для пушек устроены раскаты. Времени у нас – полковник прав – мало, поэтому я требую без мешканья добыть языков и получить точные сведения о состоянии гарнизона Риги.
– Это мы узнаем сию минуту, господин генерал! – Штрафорт показал на главные ворота, из которых выходило на вылазку войско.
Против цитадели всего в двух верстах, занимая Московское предместье, стоял полк воеводы Якова Куденетовича Черкасского и его товарища Богдана Матвеевича Хитрово. Русские войска еще только подходили, но несколько пушек пальнуло по шведам, и те, даже не сделав попытки приблизиться к московской рати, послушно развернулись и ушли за стены.
– Однако граф Магнус нерешителен, – сказал Лесли, но в голосе генерала Лазореву послышалось одобрение. Генерал ценил войну основательную, где каждый ход подготовлен и предполагает двойную и тройную прочность.
На следующее утро, 20 августа, в предрассветной мгле, уповая на серый, прошибающий ознобом туман, из Риги вышло большое войско и напало на русские полки. Окопы едва были намечены, в них нельзя было спрятаться от пуль, пик и сабель.
Вели шведов граф Магнус и полный генерал фон Торн. Противостоял шведам воевода князь Черкасский. Яков Куденетович слыл человеком добрым, чрезмерно горячим, но ратное дело знал не хуже иноземцев и осторожность почитал за высшую доблесть. Горячился он по делам ничтожным, не военным, на войне это был другой человек. Потому встретили шведы не суматошную пальбу только что пробудившихся людей, но густые ружейные залпы, а русские рейтары устремились отсечь Магнуса от ворот.
Генерал фон Торн первым увидал опасность и вместе с сыновьями и тремя хоругвями полковника Саса и штат-офицеров Кронмана и Ребиндера выдвинулся навстречу конной атаке. Все три хоругви были вырублены, но граф Магнус получил возможность увести большую часть за стены. Фон Торн и штат-офицеры были убиты, полковник Сас тяжело ранен и вместе с двумя сыновьями фон Торна попал в плен.
С докладом о победе генерал Лесли послал к государю Лазорева. Победа одна, а сеунчи прискакали и от Ивана Семеновича Прозоровского и от Богдана Матвеевича Хитрово.
От Якова Куденетовича Черкасского, чьи войска выдержали натиск и нанесли разящий удар, сеунч приехал последним.
Государь стоял в двадцати верстах от Риги, но, узнав о том, что убит полный генерал, изранен полковник, а сколько побито офицеров и солдат, посчитать не успели, приказал Дворовому полку выступить и быть в Риге не дальше чем за пять верст.
На этот предпоследний перед осажденным городом стан Алексей Михайлович ехал верхом, в броне, в золотом шлеме, с саадаком у седла. Рядом с ним были Борис Иванович Морозов и Матвей Васильевич Шереметев, младший брат Петра Васильевича, воеводы Ертаульного полка. Борис Иванович узнал Лазорева, обрадовался ему.
– Вот человек, – сказал он государю, – который служил твоему царскому величеству и в Москве и в Стамбуле, на войне и во время московской чумы.
Алексей Михайлович внимательно посмотрел на полковника, улыбнулся:
– Я знаю тебя. Давно не видел, но знаю. Служи, как служил, я верных слуг помню.
Лазорев тронул коня за повод, чтобы уступить место тем, кто дышит с царем одним воздухом денно и нощно, но Морозов поманил его к себе и шепнул на ухо:
– Ты за иноземными офицерами все-таки приглядывай. На войне хуже нет, чем измена.
«Вот и нарвался на службишку», – с тоскою думал Лазорев, погоняя коня к Риге. И вспомнил взгляды, коими отмеряли ему ума, доблести и достоинства немецкие офицеры, когда генерал Лесли на трубу обиделся, забывши, что глазами ослаб. Препротивные те были взгляды. Да ведь сами заслужили сие немецкое высокомерие. Ленью, глупостью, неразберихой, а то и юродством. Прикинуться дураками – медом не корми. Царь и тот большой любитель состроить детское личико.
Расположась на новом месте, государь потребовал чертеж Риги с пометами осадных сооружений и русских боевых лагерей.
Итак, князь Черкасский и Хитрово стояли против королевского замка. С подошедшими войсками в полку теперь двадцать две тысячи человек. Пушки все подвезены, а среди них есть такие, что стреляют бомбами в восемьдесят фунтов.
У Ордина-Нащокина шестнадцать тысяч. Его лагерь вниз по Двине за фортом. Стрешнев с двадцатью тысячами осадил форт. В Ертаульном полку Петра Васильевича Шереметева – тысяч двадцать пять. Шанцы под присмотром генерала Лесли строят Иван Колычев да Иван Милославский, немецкие полки и полки иноземного строя изготовились к осаде. На подходе тысяча четыреста барок с людьми, продовольствием, запасом свинца и пороха. И ведь есть еще и Дворовый полк.
Выходило, что солдат под его царского величества рукою больше ста тысяч.
– А что у шведов? – спросил себя государь и принялся аккуратно писать и считать.
Семь тысяч мещанского ополчения плюс шесть-семь тысяч графа Магнуса, у Торна было не больше четырех тысяч. Ну, еще прибежало и крылось за стенами дворян и других сословий пусть две, ну, три, даже пять тысяч! Всего выходило тысяч двадцать. Может, чуть больше, а может, и много меньше. Все эти цифры с перехлестом. Много ли стоит дворянское ополчение? С запасами боевыми и съестными, как показывают пленные, уже и теперь большое утеснение. Убитых: генерал, два штат-офицера, шестеро младших начальников, три хоругви. Есть пленные. Это ведь в минус, в ослабление вражьей силы.
Алексей Михайлович, радостно сияя глазами, перекрестился на образ Спаса, так щедро дающего ему, защитнику святой правой веры, города, земли, народы. Приложился к Иверской иконе Божией Матери, которая с благословения Никона была с русским войском. Вполне спокойный за будущее государь занялся разглядыванием больших знамен, которые он приготовил для отправки в полки.
Красное с латинской надписью «Si Deus pro nobis, quis contranos» оставил себе.
Белое с золотым орлом и с призывом «Бойся Бога и чти царя» испокон веку было знаменем телохранителей его царского величества.
Красное с оленем и грозным «Во гневе я жесток» назначил в полк князя Черкасского.
Красное с сиреной, с начертанным серебром: «Прииди и покайся» – в Ертаульный полк, чтоб пленные видели.
Три зеленых знамени с обычным «Страшися Бога» Алексей Михайлович решил послать в немецкие полки и на главную батарею.
Красное с короной, скипетром, мечом и с золотыми буквами «Коронован с честию» Алексей Михайлович оставил в Дворовом полку и еще одно красное, с предупреждением врагу «Берегись», пожаловал в полк Семена Лукьяновича Стрешнева.
Перед цитаделью, чтоб у смотрящих со стен душа от ужаса отлетала, были выставлены обезглавленные трупы генерала фон Торна, штат-офицеров Кронмана и Ребиндера.
В отместку со стен ударили пушки; потом была стремительная вылазка, чтоб помешать рытью окопов. И наконец, вышло большое войско с самим Магнусом. Шведы подожгли недостроенные укрепления на валах, которые не решились защищать, и без особых потерь вернулись за стены.
Государь, раздосадованный тем, что шведы прогулялись по окопам и валам даже без малого для себя урона, перенес свою ставку на берег Двины и был теперь от Риги в двух верстах. Теперь он своими глазами видел, как сражаются полки его воевод.
В тот же день, 23 августа, Алексей Михайлович получил весть от Алексея Никитича Трубецкого, который под Юрьевом взял город Кастер и побил шведского генерала.
Ясачная пушка возвестила о победе восьмью выстрелами, стреляя по указу государя ядрами в сторону Риги. Какой-нибудь вред неприятелю да учинится.
Предновогодняя августовская ночь как по заказу была непроглядна, словно мир накрыли огромным черным шатром.
В русском войске было тихо и темно. По обычаю, все огни погасили, чтобы обзавестись новым, молодым, лучшим огнем.
Илья Данилыч Милославский, приболевший в начале похода, а потому и разлученный с государем, чтоб, упаси Господи, не заразить, – выздоровел, окреп, и Алексей Михайлович пожаловал его, велел ему гасить в своем царском шатре старый огонь и зажигать новый.
Новый огонь вытирали из дерева. Это дело непростое, но Илья Данилович был в ответе и за иной огонь, требовавший еще большей подготовки.
Стояла такая тишина, что Алексей Михайлович слышал ток Двины. То было движение сильное, почти ощутимое и в темноте жутковатое, словно огромный удав перекатывал свое тело, низвергаясь в земные недра, и оттуда, из вечной тьмы, тянуло погребом. Пока Рига у Магнуса, река Двина – чужая. А государь уж привык называть и реки, и горы, леса и степи, города, народы, страны теплым словом: мое.
– Несут! – тихонько сказал Глеб Иванович Морозов, оказавшийся на этот раз к государю ближе, чем его старший брат.
Алексей Михайлович принял из рук Ильи Даниловича пылающий факел, поднес к свечам перед иконой Иверской Божией Матери, которую вынесли ради торжества из походной церкви, и тотчас загорелись огни в лагерях за Двиною и в окопах под стенами города. То был свет добра и тишины, но он лишь исполнял роль затравщика для всех семи батарей.
Полыхнуло так, что тени взлетели с земли, как коршуны. Небо вспучилось от грохота, и в распаявшихся облаках встал ясный, еще не расставшийся с рожками месяц. Багровая туча искр клубами поднялась над городом, словно зажгли старый забытый стог сена. Пушки не умолкали, и тучи наливались багряным кровяным светом и потеряли способность к движению, как опившиеся кровососы.
Государь не стал смотреть на пожар.
Он ушел к себе в шатер, не забывши сказать Милославскому:
– Илья Данилыч, зарядов пусть не жалеют. На днях подойдут барки – тогда хоть до зимы можно будет палить не переставая.
На то зарево над Ригою с тоскою в сердце смотрел Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин. Где-то в этом городе, в этом пламени очаровательная, умная, нежная Стелла фон Торн, чей бедный отец выставлен дикарями, будто чучело. Что люди делают над людьми!
– Господи! Господи! Как же стыдно быть русским! – Воин прошептал это тише нельзя, но все-таки вслух, не про себя, хотя доносчиков в русском войске пруд пруди, а в войске отца, Афанасия Лаврентьевича, их все два пруда.
Оскорбившись своею же боязнью, сказал громко и зло:
– Христианнейшая страна!
– Что изволите? – выдвинулся из темноты офицер охраны.
– Праздник, говорю, великий! Пусть горят в огне враги-лютеране.
– Да уж сегодня им не позавидуешь, – сказал охранник и показал на реку. – Русская синица Варяжское море зажгла.
24
Получив известие о побитии полного генерала фон Торна, патриарх Никон, предчувствуя скорую победу, затеял поход навстречу грозному белому царю. Но патриарху было мало встречи, молебнов, речей – все это совершалось уже не раз и стало в обычай. Значение победы и, главное, самой встречи можно было простереть не только по землям и народам, но и в будущее. В свое будущее. Для этого Никон шел в поход с царевичем Алексеем. Великий государь должен оценить сей поход по высокой мере. Победы отца-воина озарят лик царственного младенца. Не беда, что Алексею Алексеевичу два с половиной года.
Но именно потому, что царевич был в самом нежном возрасте, в поход отправлялась и его мать, царица Мария Ильинична, с мамками, с няньками, с боярынями.
Не могла Мария Ильинична оставить и милых царевен своих: Марфе в августе исполнилось четыре года, а крошечке Анне – год и семь месяцев.
Первого сентября, на Семенов день, день Нового года, патриарший и царицын поезда выступили в Тверь, чтобы оттуда шествовать в Вязьму, в Иверский монастырь, а, будет Божия воля и государев указ, то и дальше.
С патриархом ехали: его патриарший боярин Борис Нелединский, два дьяка, четыре подьяка, двенадцать патриарших детей боярских, шесть патриарших приставов, двадцать стрельцов, кроме того пятьдесят человек обиходных чинов: пять поваров и четверо их приспешников, то есть поварят, два истопника, подклюшник, два скатерника, два сытника – ведали харчевыми запасами и носили с собою суды с питьем, семнадцать конюхов, подковщик, каретник, четверо портных, двое из них были поляками, казенный сторож и хор певчих.
Патриаршей казне поход Никона обошелся в 1111 рублей 19 копеек 1 деньгу. Сколько стоил царицын поход, то царь подсчитал: в ее поезде и слуг и стрельцов втрое.
До Твери было шесть станов. В Клину Никон задержался, осмотрел вотчину Иверского монастыря – село Изотово. Здесь его осенило, что приобретенное у Боборыкиных нынешним летом село Воскресенское хоть и очень хорошо, а все же стеснено соседними владениями Василия Петровича Шереметева. А потому не мешкая отправил к боярину одного из ловкачей дьяков с настойчивым предложением продать четыре деревни: Князщину и Полево на реке Песочне и Асаурово и Кочебарово на Истре. В Кочебарове всего-то было пять дворов, но за Асаурово Никон предлагал полторы тысячи серебром, Воскресенское ему стоило две тысячи.
На двух последних станах Никону занедужилось, да так сильно, что в карете ему устроили ложе. Кружилась голова, давило в груди, кололо в лопатку. Врач предлагал остановиться и лежать, но разрушить столь замечательное предприятие у патриарха духу не хватило. Что скажут в Москве? Что скажут в царском стане? Никон предпочел переболеть в Твери, не отпуская в Москву царицу и царевича.
В самую немочь, когда белый свет был сер и когда, испытывая отвращение к еде, Никон поддерживал изнемогшие силы черемуховыми да вишневыми квасами, приснился ему сон.
Будто идет он в гору. Ни камней на той горе, ни утесов – зеленая травка в ноги, лазоревые цветы, но вершины нет как нет. Взмок он от усердного восхождения. С бровей пот капает, с усов, волосы хоть выжимай, но нет вершины! Померещилась мачеха. Не чародейством ли уготовила она сию гору ненавистному пасынку? Подумал о мачехе – туча нашла. Черная, смрадная. Но и смрад-то самый худой, холодный, плесенью пахнет. Будто в погреб упал. И вспомнил: так оно и есть. То погреб, куда мачеха столкнула его. Мачеха своих детей кормила, а для него корки заскорузлой жалела. От голода открыл он крышку погреба поглядеть, нет ли чего съестного, а мачеха подкралась и столкнула, чтоб кости переломал. Но берег его Господь! Для дел своих великих берег.
«Теперь печь, должно быть, пригрезится», – подумал Никон, и языки огня заплясали перед его глазами.
Спать мачеха клала его у порога. В крещенские морозы закостенел он ночью и, чтоб совсем не пропасть, залез в печь. Мачеха сделала вид, что не приметила спящего пасынка, заложила дровами и зажгла огонь. Сгорел бы, если бы не бабушка. Раскидала рогачом горящие поленья да с рогачом и пошла на ведьму. Отец мачеху лупил, а толку на грошик. За каждый свой синяк ставила пасынку два синяка.
Отогнал Никон от себя наваждение детства, и снова открылась ему зеленая гора, а на горе, под синим небом, Иерусалимский Божий храм. Снизу только стены видны, без верха, без крестов.
– Господи! Как же мне подняться на твою гору? – взмолился Никон и открыл глаза.
На красных, на синих стеклышках окна играло солнце.
«Бабье лето», – подумал Никон и вспомнил сон.
Зеленая гора приснилась к вещему, но, вспоминая местность, где стояла та гора, он представил себе Воскресенское, и гору, и луга в пойме Истры, радостно изумрудные, с голубизной на взгорьях.
– Потому что небо близко, – сказал Никон, и его осенило: Иверский монастырь на Валдае, Крестный на Кий-острове и тот, что будет в селе Воскресенском, – это три ипостаси единого. Списки икон с Иверской Божией Матери, принесенные с Афона, есть Промысел Господа. С иконами перенесена на Русскую землю благодать святой Афонской горы. А что есть кипарисовый крест, который он, Никон, заказал для Крестного монастыря? Посредством трехсот частиц мощей, капель крови святых мучеников, земли ото всех святых мест Палестины – переносится на Русскую землю благодать Святой евангельской земли.
Сам Господь Бог указует, что должно построить в селе Воскресенском. Воскресенское! Воскресение Христа. На реке Истре должен стоять храм во имя Страстей Господних, во имя Гроба Господнего – Иерусалимский храм! И когда этот храм воссияет – Русская земля по благодати Господней, по своей близости к небу станет во всем равна Вифлеему, Назарету, Галилее, Иерусалиму. Не Истра, но Иордан – имя реке. Не Воскресенское, но само Царство Божие!
Никон попытался подняться, и к нему тотчас приблизился келейный старец.
– Принеси мне храм Гроба Господня!
– Храм?! – отпрянул старец.
– Дурак! – сказал ему Никон. – Из кипариса, тот, что патриарх Паисий привез.
Старец убежал и вернулся с Борисом Нелединским.
– Святейший! Модель храма осталась в Москве.
– Пусть привезут! Чтоб завтра был!
Обманывая боль в сердце, Никон мелкими глотками набрал воздуха, передохнул – не кольнуло, вздохнул всей грудью – не кольнуло, и, успокоенный, провалился в легкий воробьиный сон. Пробудился – Нелединский на цыпочках уходит из кельи.
– Борис Иванович! – позвал Никон.
Тот вздрогнул, повернулся. Нос орлиный, глаза черные, птичьи, волосы черные, кудрявые, борода во все лицо – истый сын народа, возлюбленного Богом.
– Пошли в Троицу за Арсеном.
– За кем, святейший? – Нелединский не расслышал и, желая угодить, напрягся, скорчился, весь превращаясь в ухо.
– За келарем, за Сухановым. У меня для него – великое дело.
Перед обедом к болящему пришла царица Мария Ильинична с царевичем и царевнами. Патриарх приказал одеть себя, умыть и причесать. Принял гостей, сидя в кресле.
– Святейший! – воскликнула царица. – Зачем же ты поднялся? Мы пришли проведать тебя, яблочек принесли.
Дети со своими мамками подошли к Никону, протягивая ему огромные антоновки. Только у махонькой Аннушки в руках было райское красное яблочко. Она, поклонившись, как учили, патриарху, прижала яблочко к груди и не отдала. Все посмеялись. Никон благословил детей, благословил их мамок.