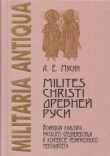Текст книги "Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека"
Автор книги: Владимир Колесов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Особенно показательны в этом плане слова великий и добрый. Они известны издавна, но постоянно меняли свой социальный признак при обозначении людей. Прилагательное добрый имело сначала значения ‘крепкий’ и ‘сильный’ (ср.: добротная вещь), затем оно переместилось в другую сферу, стало оценкой по красоте, внешнему виду (доброта в древнерусском языке ‘красота’), пока наконец не утвердилось окончательно как обозначение богатства, так что добрый человек – это человек или богатый в житейском смысле (много «добра» у него), или человек душевный – в моральном смысле (много «доброго» для других). Ни понятия красоты, ни понятия силы слово это теперь не выражает: в нашем обиходе сохраняются последние результаты семантического развития слова.
Прилагательное великий сначала также имело значения и ‘сильный’ и ‘самый первый’, затем актуальным становится признак по внешнему виду: хотя и не собственно ‘красивый’, но близко к тому – ‘главный, первый в общем ряду’. В средневековой Руси было, например, несколько великих князей, но не все они занимали стол сюзерена. В конце концов великим стали называть и богатого, и славного, по нынешним понятиям – знатного.
Мы попробуем судить об указанных словах только по конечному результату – по тому значению, которое нас сейчас интересует, а именно – каким образом выражена идея знатности. Последняя исторически определенна и вытекает из личностных характеристик эпохи родового строя.
Особенно определенно выявляются социальные термины уже в новое время, в XVII в. возникает ряд слов, которыми мы пользуемся и сегодня; они как бы завершают долгий путь развития представлений о социальном статусе личности. Однако и несколько раньше, в XV и особенно в XVI в., обнаруживаются определенные тенденции, которые позволяют судить о сложившихся позднее отношениях. Их также примем во внимание.
Итак, X–XIII вв. как время сложения терминов Древней Руси для нас особо важны; в ХІѴ–ХѴ вв. в рамках средневековых княжеств создаются новые социальные отношения, что изменяет и терминологию. Новое время, после XVI в., по существу, только пользуется результатами, полученными раньше, и мы отметим достижения этой эпохи без особых деталей.
Представление о красоте как знатности изменялось постепенно, ср. замену слов: лҍпшие > лучшие > добрые; в XIV в. красота была неглавным признаком в определении знатности (и само слово лҍпота ушло из языка, сменившись словом красота). Лҍпшие и лучшие – превосходная степень от слов, обозначающих красивое, да и слово добрый в то время указывало на красоту, хотя без всякого выделения степени ее проявления; слово добрый ‘красивый, хороший, ладный’ было слишком неопределенным, многозначным. Отсутствие противопоставления чему-то определенному, единственному и вызвало, видимо, исчезновение этого признака в определении знатности.
Представление о величии почти не изменялось, но формы его выражения обновлялись в замене слов: великий > велий > высокий, а с XVI в. и верховный; это чисто стилистические замены, не имевшие смысловых различий.
Представление о физической силе как воплощенной знатности исчезло довольно рано: старому слову вячший, замененному в средние века словом сильный, уже в XIV в. нет никаких новых соответствий, потому что и силу тогда понимали уже иначе, в переносном смысле, – как власть или богатство.
Представление о силе как власти отчасти присутствовало в старом именовании старҍиший, которое сменилось словами передний (в Новгороде) или первый (в других местах и притом позже). Впоследствии и этих слов стало недостаточно для выражения социальной оценки личности, по-прежнему слишком конкретны их значения. Поэтому начиная с XVI в. появились сочетания избранные люди, а затем и сановные люди. В отличие от представлений о величии, которое предусматривало расположение степеней снизу вверх, представление о главенстве расширялось по горизонтали – от первых и до последних. Это представление пришло из книжной традиции, потому что для русского народного сознания характерно было понятие о степенях, построенных по вертикали.
Представление о богатстве как силе возникло еще позже, и мы фактически не знаем слова, которым в Древней Руси назывался знатный по богатству муж. С XIII в. известно нам сочетание житьи люди, а позже, уже под влиянием книжной терминологии, – слово богатый. Смысл прилагательного богатый также все время изменялся, потому что, будучи книжным, оно довольно рано стало словом народной речи и, постоянно включаясь в самые разные противопоставления по различным признакам, постепенно обрело значение, свойственное ому и теперь, – ‘обладающий богатством (материальными средствами)’.
Представление о знаменитости, известности, отраженное в слове нарочитый, также изменялось, чаще всех других оно заменялось особыми словами. Слово нарочитый заменяется словом нарочитый ‘умышленный, преднамеренный в отношении какого-либо свойства (в том числе и к своей славе)’. Чрезмерность значительности стала восприниматься как отрицательное явление: о ком слишком много говорят, в том не все ладно. Обилие превращается в свою противоположность, становится отрицательным, и это свойственно русскому характеру с его приверженностью к правилу, норме, к тому, как надо. Слово нарочный возникло довольно поздно (старославянское нарочьный значило то же – ‘знаменитый, славный, известный’). Прилагательное славный сменило нарочитый, по-видимому, в XIV в., честной – немного позже (в конце XV в. – по отношению к светским феодалам), но оба эти слова также вышли из употребления, потому что они были слишком оценочны в своем исходном значении. Такие слова живут недолго, заменяются другими; во всяком случае, терминами они не становятся. И сегодня мы можем сказать «славный человек» или «честный человек», но значения, которое эти выражения имели в средние века, у них уже нет. Теперь они выражают не идею знатности, а только наше отношение к кому-либо. С XVI в. появилось сочетание люди имянитые, т. е. выделяемые по имени, не в общей толпе, а поименно, что на первых порах казалось очень важным. Впоследствии, уже при Петре I, «именитые люди» потребовали и «отчества»: очень знатного человека могли звать не только по имени, но и «по изотчеству»: не просто Михайло, а Михайло Иваныч. Отчество и отечество – одно и то же слово, только в разном произношении (из отьчьство); потеряв связь с родом, человек нового времени хотел укорениться хотя бы в «отечестве», а для этого он должен был получить «отчество». Однако в средние века и одна именитость была верным знаком высокого достоинства, потому что «мужики безименитыя», безродные и худые, с начала XV в. звались Ивашками да Иванцами, уничижительно и грубо. В древнем представлении о славе по-прежнему ощущался аромат слова, которым выделяют личность, чем-то отличную от других. Много Ивашек в народной толпе, но другого Ивана Михайлова сына – Михайловича, может быть, и нет, и он на виду, его и зовут имянитым.
Таким образом, в развитии общей идеи знатности сначала освободились от представления о красоте и хорошем; затем из числа признаков устранилось представление о физической силе; наконец, утратилось представление о личном величии. Теряя один за другим некоторые признаки своего содержания, понятие о знатном расширяло свой объем, приспосабливаясь тем самым к нуждам феодального общества. «Богатый» может быть «главным», и за то он «славится» – так кратко можно сформулировать средневековый эталон знатности. Собирательным для всех этих представлений словом (которое позже стало родовым обозначением), выражавшим сложившееся понятие, было знатный, известное нам в этом социальном смысле с середины XVII в. (в московском «Уложении 1649 года» оно уже есть). Однако представление о знатном сформировалось гораздо раньше, на протяжении XV в., а в XVI в. было уже в употреблении. Правда, существовало оно пока еще в дробных представлениях о знатном как славном своими богатством и властью. И власть, и богатство в сознании еще не разделились, представляя собою нечто цельное, потому что в средние века богатство было неотделимо от власти.
Можно сказать, что средневековое представление о знатном сложилось не ранее XVI в., потому что из многих древнейших только три признака входят в содержание этого понятия: власть, богатство и известность.
Одновременно с этим конкретные и множественные признаки знатного четко уложились в характерную для христианской культуры триединую схему. Для ее выражения используются такие слова по отношению к людям: «К болшимъ быти послушну и покорну, к средънимъ любовну, к меншимъ и убогимъ привҍтну и милостиву», или иначе, в более раннем варианте: «старҍишимъ собҍ честь воздавай и поклонение твори, среднихъ яко братию почитай, маломожных и скорбных любовию привечай, юнейших яко чада люби – всякому созданию божию не лих буди» (Домострой, с. 76). Именно «средние» являются в этой системе точкой отсчета социальных отношений, от нее возможно движение вверх и вниз. Но «средние» – это «твои», равные тебе люди. Таков этот взгляд на положение дел изнутри, из человеческой массы ХѴ–ХѴІ вв.; на самом же деле по-прежнему сохранялось заложенное в феодализме противопоставление знати и черни.
ЗНАТНЫЙ И ПОДЛЫЙ
Трудно понять механику описанных выше изменений, если не коснуться противоположной социальной плоскости – понятия о черном, худом, подлом люде. Социальное вообще познается лишь в своих противоположностях, язык также отражает такие противоположности.
Многозначность древнерусских слов создает при этом известные трудности. Слово сильный одновременно противоположно словам худой, нищий и убогий, а значит, в «сильном» присутствуют сразу три представления: о силе, богатстве, величии. «И худаго смерда и убогыҍ вдовицҍ не далъ есмь сильным обидҍти», – писал Владимир Мономах в начале XII в. (Лавр. лет., с. 83). Бедному и слабому противопоставлен здесь сильный. Прилагательное великий в древности также противоположно словам малый, худой, безродный; добрый – словам простой, черный. Все это – типичные для средневековья социальные характеристики, в границах которых вместе с тем сохраняются и следы первобытных родовых отношений. Феодальная иерархия вырастала из родовой, но ведь в перечисленных словах нет уже ничего от родового быта, потому что старшинство в роде не низводило меньших до малости.
Проследим развитие представлений и о младшем члене рода, рассматривая слова, известные еще с XII в. Мы ничего не знаем о более ранних именованиях, потому что их, возможно, и не было. Важно было отметить словом что-либо выделявшееся, отличное от других; обычное, рядовое никак не выделялось и, следовательно, не фиксировалось; это казалось излишним, потому что незнатный был просто неизвестным.
С XII в. появляются в текстах сочетания люди молодшие или люди молодые (в Новгороде и на Севере), возможно, еще в первородном своем значении ‘младшие члены рода’. Но под 1230 г. Новгородская летопись отмечает «мужей новгородских моложьших»; новгородская грамота, написанная примерно в 1266 г., толкует о «молодых» людях, т. е. также о тех новгородцах, которые в социальной структуре занимали подчиненное положение. В таких определениях нет пока ничего порочащего людей, занимавших подобное положение. «Старҍишим» противопоставлены «молодшие» (старшим – младшие), и только.
В других местах Руси пользовались сочетаниями, столь же древними: мезинные люди, меньшие люди, мении люди. Под 1176 г. летопись повествует о жителях Владимира, города нового и потому младшего по отношению к старым городам («Владимир – пригородъ наш», – говорили ростовцы). «Ростовци и суждальци, давнии старейшии творящеся, новии же людье и мҍзиннии володимерстии» (Лавр. лет., с. 128). Это высказывание неоднократно переписывалось вплоть до XVI в., а его смысл таков: тот, кто живет давно, – старший, старейший в ряду других; новые же города – младшие, т. е. мезинные (донельзя маленькие). Сочетание меньшие люди известно в текстах с 1215 г., позже возрождается старинная книжная форма сравнительной степени (высшая мера уничижения) – мний (с XIV в. в полном соответствии с меной слов велий вместо великий, по тем же державным московским амбициям). Чтобы показать незначительность собственной личности, Епифаний Премудрый, составляя «Житие Стефана Пермского» в начале XV в., сказал о себе: «Аз бо есмъ мнии бҍхъ въ братии моей, и хужшии въ людехъ, и меншей въ человецехъ» (с. 1). Характерен в этом тексте выбор слов для выражения низшей степени качества: ничтожнейший из монахов, но худший из людей, притом – самый маленький из человеков. Слова подобраны не в случайном порядке, а со смыслом и вкусом, как это и было свойственно великому писателю Епифанию; градации определений выразительно показывают, что в разных отношениях в зависимости от смысла низшая степень качества могла обозначаться словами, хотя и близкими по происхождению, но стилистически уже насыщенными образами, свойственными новому времени. В таких образцовых текстах и отшлифовывался смысл определений, позднее ставших терминологическими.
Важно и другое: в древнейшем быту нет никаких обозначений для людей низкого звания, но с течением времени они, как бы в противоположность обозначению знатного, появляются в большом количестве, отражая многие грани, последовательно и упорно определяя людей низкими за те или иные особенности их социального положения. Нет ни одного слова, которое можно было бы назвать родовым сразу в отношении ко всем таким именованиям. Даже слово подлый, относительно которого нет совершенной уверенности в русском его происхождении (возводят к польскому pódły), первоначально обозначало либо того, кто находился рядом с человеком, знатным и сильным (подле ‘около’), либо того, кто принадлежал к социальным низам (подъ ‘низ, основание’); оно было всего лишь частным именованием человека низкого звания, появившимся после XVI в. Подлый от подлҍ, как кромҍшьный от кромҍ, а окольный от около – все эти определения указывают на близость к человеку, отмеченному особым признаком различения, известным знаком достоинства – знатностью и властью. Подлый – всего лишь «подле знатного». Знатный имеет вес и силу, а подлый существует только потому, что находится подле него, служит ему и кормит его, является дворовым, подневольным, помощником и слугой знатного, следовательно, входит в общую систему социальных отношений как противоположность знатному. Значение слова подлый удачно отражает такое социальное отношение. Однако этот факт указывает на вторичность самого слова подлый, поскольку низшая плоскость социальных отношений складывалась с оглядкой на высшую, создавалась как опора и фон последней. Социальная терминология развивалась сверху вниз, потому что идея власти отвлекалась в сознании от конкретности своих проявлений и признаков гораздо раньше идеи подданного – объекта этой власти.
Из древнейших сочетаний назовем еще простые люди и черные люди; такие именования особенно распространились в эпоху раннего средневековья; с XVI же века подобных им обозначений стало особенно много: давние люди, рядовые, тяглые, данные, дворовые, домачние, мелкие, нижние и т. д. Кроме того, при каждом упоминании подобных людей употреблялось совершенно другое слово – слово уничижительного значения: не мужи, а мужики – т. е. не именитые, а безымянные; знатные мужи, но черные мужики.
Различие между высшими и низшими заключалось вот в чем: в едином общем определении объединялись признаки знатного мужа, однако бесконечно дробился мир рядовых и безымянных мужиков, множился в десятках конкретных определений, распространялся по разным местам России в конкретных своих наименованиях, не всегда удачных, но обязательно оскорбительных: черные, худые... – нижние.
Противоположности социальных отношений сразу находили выражение в словесной форме. В грамоте князя Всеволода 1136 г. говорится о выборе в совет трех человек – «три старосты от житьихъ людей и от черныхъ»; черные противопоставлены здесь житьим (как бедные, недостаточные – богатым), потому что старое значение слова черный – ‘темный, зависимый, имевший обязанности, несвободный’.
Лучший, и особенно лҍпший, в древнерусских текстах не имеют никаких антонимов, обозначаемые ими социальные отношения существовали в то время, когда «хорошему» противопоставлялось «лучшее», но никак не «плохое». Эти слова мы исключим из дальнейших противопоставлений, а сами противоположности в том виде, как представлены они в старых текстах, покажем на следующей схеме:

Последовательность переходов определяется четкой связанностью антонимов, но реально, в жизни, были какие-то более сложные отношения, потому что одни слова дольше бытовали в языке, другие – меньше. Великый, например, вступает в связь не только со своими ближайшими соседями по схеме, его связь идет дальше, к словам убогий и худый; слово сильный связано еще и со словом менший (правда, только в церковных текстах, из которых пришло и само сильный). И все же поступательный ход развития противоположностей эта схема показывает вполне удовлетворительно, а главное – весьма наглядно.
Каждая последующая пара антонимов как бы рождается из предыдущей, некоторое время сопутствуя ей в качестве стилистических вариантов. Добрый – простый обозначают почти то же самое, что нарочитый – простый, но чем-то они отличаются, поскольку известна еще и противоположность нарочитый – худый. Реальность всех этих пар может засвидетельствовать каждое устойчивое сочетание входящих в них слов, в котором сохранилось исходное значение корней. Сочетание от мала до велика связывает два слова нашей схемы, но одновременно указывает и направление противопоставления – снизу вверх, а не наоборот. Важнее все-таки верх, вершина социальной лестницы, а не ее основание. Сочетание старший и младший также сегодня известно, оно означает «убогие и сильные мира сего»... Другие «противни» (как называл подобные пары А. А. Потебня) не сохранились в устойчивых сочетаниях, они распались, не оставив следов. Теперь об одном и том же человеке можно сказать, что он «добрый» и «простой», хотя в древних речениях эти определения не могли быть соединены (простый – ‘открытый’, т. е. от всего свободный, тогда как добрый, напротив, перегружен «добром»). Представленная здесь цепочка антонимов создавалась несколько веков, однако к XVI в. она уже распалась. Цепочки больше нет, однако из вороха слов, обозначавших различающиеся по достоинству людские массы, возникли вырванные из исторической последовательности самостоятельные пары: богатые – бедные, низкие – высокие, избранные – рядовые, славные – безымянные и т. д. Традиция накопления качеств прервана, возникли новые основания для классификации, однако древнее попарное противопоставление, восходящее к языческим временам, сохранилось.
Хорошо известно, что средневековой иерархии свойственны градации, она состоит из множества ступеней, незаметно переходящих одна в другую. Не оценочным словом, не определением, а точным термином (именем существительным) обозначается эта новая иерархия. Однако и в ней присутствует некий остаток древних понятий о старшинстве. Когда говорят, например, о боярах в сравнении с детьми боярскими, имеют в виду не старших и младших лиц одного рода, а ступени средневековой иерархии разного достоинства: дети боярские ниже бояр, как младшие ниже старших. Слово дети, как и другие слова того же типа (чада и т. д.), сохранило в своем значении древние родовые представления о том, что «дети» по своему достоинству ниже «мужей», а «мужи», в свою очередь, ниже, нежели «старейшие».
Так и в обозначениях по степеням социального достоинства современные понятия о рангах восходят по крайней мере к XVI в. Более древние отношения приходится восстанавливать на основании текстов и истории слов.
Что же касается нашей «цепочки», смысл ее ясен. До тех пор, пока и XV в. еще не определились новые понятия о противоположности низших высшему по унизительной для человека характеристике личной зависимости, на Руси продолжалось развитие образа, порожденного еще родовым бытом.
Суть этого развития в следующем. Верхний ряд обозначений указывает развитие представления, начиная с возрастных различий (в роде) через разные степени представления силы, которое непосредственно направлено к выражению богатства; при этом по мере развития понятия происходит сначала усиление данного качества и только затем переход в противоположность; ключевые слова тут старҍйший (значение развивается до степени старшинства, выражаемого словом вящий), сильный (до степени силы, выражаемой словом нарочитый, – в том значении, которое особенно развилось в XV в.) до слов добрый и, наконец, – житий как выражение первой стадии представления о богатом.
Нижнему ряду обозначений свойственно не усиление свойств, а понижение качества: от слова мезинный, обозначающего маленького разной степени величины, вплоть до слова, обозначающего увечного; затем начинается ряд безоценочно плохого (убогый, худый), завершаясь, наконец, вариантами слишком обычного (простый, черный). Какими бы разными ни были эти определения, они все-таки всего лишь социальные признаки личности нового феодального общества, как прежде они были свойствами личности родового общества. Разница в том, что в родовом быту каждый человек мог получить именование по особому признаку и не было ни одного человеческого свойства, связанного определенными условиями. В средние века признаки, отделяясь от личности и становясь приметой класса, постепенно сосредоточиваются вокруг определенных лиц. «Нарочитых мужей» могли иногда назвать «нарочитыми людьми», но «нарочитыми мужиками» – никогда. Наоборот, «черный мужик» мог входить в разряд «черных людей», но сказать «черные мужи» было невозможно. Социальные различия выражались в словесных определениях не только по строгим признакам различения (при этом устранялись все лишние, второстепенные и чисто внешние различия личности: красота или физическая сила), но также и в зависимости от принадлежности к группам людей, составлявшим средневековые классы. Эти семантические преобразования происходили неуклонно и однонаправленно: «перебирали» людей и записывали их по разрядам в зависимости от степени их социальной силы.
Однако в данном случае понятие еще целиком опиралось на традиционный словесный образ, и это долго препятствовало окончательному сложению новых социальных степеней: признаки различения, накапливаясь, смешивались друг с другом, мешали точности определений. Имя прилагательное также всегда соотносится с чем-либо, является определением к тому, что оно характеризует, – к имени: нарочитый муж, житьи люди, черный мужик... Все слишком конкретно, подано в частностях, глубоко индивидуально, и робкая средневековая мысль тщетно пытается соотнести подобные частности определений с точностью социального термина; она еще не готова к этому.
Чтобы осознать категориальное различие между «верхом» и «низом», между великим и малым, между знатным и подлым, следовало создать собирательное наименование, способное отразить самую общую противоположность, глубину ее смысла. Это можно сделать только с помощью имени существительного, и это было сделано противопоставлением слов знать и чернь.
Оценим это движение мысли, учитывая ее особую важность. Перед нами – переосмысленное в новых условиях понятие о славном, но выражено оно необычным для Древней Руси образом: это известность не по личной славе, а по наследству, от предков. Высшая грань общественных отношений по-прежнему «ведет» всю социальную линию, тогда как противоположная ей сторона только как бы подлаживается под нее. Тем не менее сам термин чернь появился гораздо раньше, чем знать, и его развитие весьма поучительно.
Прежде всего, он восходит к выражению черные люди и тем самым продолжает еще более древнее сочетание простая чадь ‘простонародье’ (Тихомиров, 1975, с. 94): «...чадь – это народ, широкие круги населения, те же люди» (там же, с. 105), «...черные люди в летописи чаще именуются просто люди» (с. 171) или «сельские люди» (Греков, 1953, с. 127), а именно те, что когда-то именовались (Дьяконов, 1912, с. 71) или, как точнее выразился другой историк: «...черным человеком назывался одинаково и городской, и сельский. Очевидно, сельчанин, или черный человек сельский, соответствовал прежнему смерду, как он и назывался в удельные века в областях, сохранивших еще древний быт и отношения, – в новгородской и псковской» (Ключевский, 1959, с. 159).
Сочетание черные люди могло обозначать и горожан: «городские посадские черные люди» (Улож. 1649 г., с. 139). Черные люди, как ясно из текста, – те, что несли тяготы подати, в отличие от «белых», т. е. свободных от подати. С. М. Соловьев считал, что черный (как и дикий: дикая вира ‘безадресная’, дикое поле ‘казацкая вольница’) значило ‘общий, неопределенный, остальной, прочий, ни к какой определенной группе или разряду не относящийся’, т. е. ничей, так что, видимо, и в средние века черные люди – все прочие, остальные, не входившие в княжью дружину (Соловьев, 1845, с. 282). Черные куны, или черный бор, – общая подать, которую платят все черные (т. е. свободные) крестьяне, противопоставленные белым (С. М. Соловьев связывал их с обельными), т. е. принадлежавшим известному лицу. Таковы две точки зрения, по смыслу прямо противоположные: «белый» то свободен, то не свободен, и свободным является именно «черный». Что же может сказать по этому поводу языковед?
Знаменательно внутреннее противоречие в самом (символическом, надо полагать) понятии «черные люди». Лично свободные, они облагались податью в пользу казны, т. е. экономически, а значит, и социально были бесправными. По мере дальнейшей социальной дифференциации общества «черными» постоянно оставались те, которые не принадлежали ни к какому определенному классу. Когда о новгородских событиях 1418 г. говорят, что «сташа чернь съ одиноя стороны, а с другую – бояре, и учинися пакости людемъ» (Соф. лет., с. 261), ясно, что чернь – все «не-бояре». В тех же терминах описывают это событие и историки (Ключевский, 1918, т. 2, с. 109), что неверно: в момент самого восстания очевидец ничего не говорит о черни: «Слышитъ же народ... и собирахуся людии» (Новг. лет., с. 409); только в самом конце XV в. лишь в одном (!) из списков Московской летописи вместо народа упоминается чернь.
«Въсташа чернь на бояръ» и в 1340 г. в изложении той же московской летописи (Срезневский, III, стб. 1564). В этой укоризне официального московского летописца слышится высокомерие аристократа. В XVII в. несколько иначе: «И князи, и бояре, и мҍщане, и [только после всех остальных!] черные люди» (Соловьев, 1845, с. 283). Тем не менее именно в новгородских текстах (сначала при описании иноземных событий) слово чернь появляется впервые. «По Исаковҍ же смерти людие на сына его въсташа... и собрачеся чернь, и волочаху добрые люди, думающе с ними, кого цесаря поставить» (Пов. Царьград., с. 108; текст взят из Новг. лет., с. 47, 1204 г.); ниже те же действующие лица названы «вси людие» и противопоставлены боярам: «и многа жалова на бояры и на все люди» (с. 110; Новг. лет., с. 48). По-видимому, слово чернь здесь еще не социальный термин, поскольку оно не отмечается в качестве противопоставления общим понятиям о знатном и подлом: чернь всегда противопоставлена не знати, а добрым людям новгородского веча: «и чернь не хотҍша дати числа [подати]» (Новг. лет., с. 82, 1259 г.); выходит, чернь должна была все-таки платить подать.
С XVI в. слово чернь постепенно получает и социальный смысл: «и приходиша многие люди чернь скопом» – в «Царственной книге», созданной не в Новгороде, а в Москве в 1547 г. (Шмидт, 1973, с. 65, 69).
Существует мнение, по-видимому, справедливое (Соловьев, 1845, с. 284), что и само понятие «чернь» на Руси не было известно; оно довольно поздно принесено было с Запада как перевод слов villain (и ‘мужик’ и ‘гадкий, отвратительный человек’), plebs и им подобных. Не случайно именно в свободном Новгороде понятие «чернь» возникло и развивалось самобытно и долго, в Московском государстве слово уже перестало быть образным, превратилось в термин.
Знать (от слова знатный) в новом своем значении стало употребляться только с конца XVIII в., т. е. примерно через сто лет после появления собирательного определения знатный. Вполне возможно, что до того существовали в обиходе какие-то другие наименования, ныне нам не известные. Само слово знать в таком смысле как будто продолжает древнее представление о старейшинах (старших) рода, потому что давно установлена связь понятий «знать» и «родиться»: член рода «знает» своих сородичей по родовому знаку (Трубачев, 1957, с. 91), а со временем «старший» и стал воплощением «рода». Не следует только смешивать глагольное слово с новым образованием – именем существительным, которым выражалось новое для XVIII в. понятие.
Так лишь в самом конце XVIII в. непримиримо и четко встали две силы, окончательно разошедшиеся за века: знать и чернь.