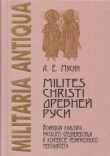Текст книги "Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека"
Автор книги: Владимир Колесов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Но был и еще один повод заменить слово холопъ словом рабъ.
ХОЛОП И РОБА
Холопок в Древней Руси не было и быть не могло, по крайней мере до XVIII в., поскольку значение слова холопъ – ‘хлопец’, человек мужского пола. Холопка называлась иначе – рабою, в древнерусском произношении робаˊ. Слово это русское и появилось относительно недавно, не раньше XI в. Будь древнее, оно и произносилось бы иначе и склонялось бы так, как сохранил это старославянский книжный язык: рабыни в именительном падеже единственного числа. Робаˊ – морфологически поздняя форма, но именно такая, какая и должна быть у восточных славян раннего средневековья. Однако ведь и холопъ – русское слово, т. е. общее всем восточным славянам, ему противопоставлено книжное хлапъ. Оба эти слова и сочетание холопъ и роба известны и встречаются в текстах издавна. В документах XIV в. «...обычно словом холоп обозначали раба-мужчину, а словом роба – женщину– рабыню. Собирательный термин был люди. Например: «“Да даю сыну своему Михаилу своих людей, холоповъ и роб”; «“ што мои холопи полные и робы, чем меня благословил отець мой...”» (Черепнин, 1969, с. 197). Холопы – «люди пошлые», т. е. несвободные, дались в холопы – подались в зависимость (там же, с. 202). Необходимость в самостоятельном термине роба возникает потому, что соответствующее понятие – социально важный ранг в древнерусском обществе; «...положение рабы вообще отлично в то время от положения холопа: она, естественно, не столь легкий на подъем и более ценимый (6 гривен вместо 5 штрафа за убийство) элемент» (Романов, 1947, с. 81); женская честь робы оберегалась законом; холоп не мог жениться на свободной женщине, но свободные мужчины могли взять в жены робу. Да и роль робы иная, чем у холопа: она и кормилица господских детей, и наложница, и ключница, и наперсница, иногда и просто хозяйка, – как сложится жизнь. Заметим, что нет в этом обществе еще «смердыни» (пока не нужно), а вот роба имеется.
Роба не просто слуга или рабыня, но и безусловно преданная кому-либо женщина, покорная чьей-либо воле. Если холоп (по исконному значению соответствующего корня) понимается как социально незрелый и потому несвободный в своих действиях малолетний хлопец, женщина в этом мире навсегда бесправна, и тем-то она прежде всего отличается от холопа, который может при случае стать свободным: холоп – несвободен, роба – бесправна. Слово холоп со временем стало термином вассалитета, слово роба не вышло за пределы выражения «рабского состояния»: только социальный, но никак не гражданственный смысл таится в нем издавна, что поддерживается традицией и литературой. Слово холоп (в согласии с понятиями средневекового мира) получает все время новые определения, которые подчеркивают и выделяют разные состояния обозначаемого им лица. Иначе у слова роба: стоиˊт оно изолированно, никогда никаких уточнений или определений при нем нет – замкнутый, неподвижный мир женской доли. В летописях слово роба встречается редко, рядом с ним обычно находим слово полонъ (Филин, 1949, с. 86-87): речь идет всегда о событиях, в результате которых получают рабынь. Другое дело – каждодневный быт, в русских грамотах роба встречается очень часто (Львов, 1975, с. 240).
В древнерусских памятниках права холопъ и роба представлены только совместно; в «Законе судном людем», (переведенном, как полагают, еще при Мефодии в IX в. и не на Руси) «холопъ и роба», в «Русской Правде»: «холопъ или роба», в московских грамотах XIV в. также: «холопу или робҍ», в «Судебнике 1497 года»: «по робе холоп, по холопе роба», но и в «Домострое» XVI в. рекомендуется хозяйке «о всемъ совҍтовати с мужемъ, а не съ холопомъ и не с робою» (видимо, в частой практике наблюдалось именно последнее); «Уложение 1649 года» опять-таки соединяет их вместе: «холопа или робу». Ясно теперь, чем руководствовался Петр I, когда приравнял в правах холопа к рабе.
Надо сказать, что оба слова сохраняли неизменно в течение столетий старую традицию употребления своей формы, вплоть до того что во множественном числе, например, слово холоп склонялось по старинке (холопи, холопей, в холопех), а не так, как стали склоняться имена мужского рода (холопы, холопов, в холопах). Некая собирательность постоянно присутствует в форме холопи. Другое слово – роба, – обозначавшее женщину, напротив, во множественном числе почти не употреблялось; роба есть «раба». Когда уже в XVII в. в «Уложении» царя Алексея Михайловича слово холопъ начинает заменяться словом крепостной, в нем сохраняется еще роба: «женаты на русских крепостныхъ и на старинныхъ робахъ» (с. 154); «старинная роба» – потомственная раба, рожденная уже в рабстве, и, значит, когда-то была «роб-енок».
Исконный смысл слова раб долго ускользал от внимания историков. Фантазии уводили далеко, иногда возникали забавные предположения. В прошлом веке М. П. Погодин, играя словами бар-ин и раб, заметил, что было ему свойственно, вполне серьезно: «Как явственно выражается противоположность предметов в словах барин и раб, в коих буквы следуют в противоположном порядке (барство, рабство). Меня смущает, впрочем, происхождение барина от боярина» (Русский, 1868, № 54, с. 3). В начале нашего века выдающийся французский славист А. Мейе, не совладав с обилием внешне похожих корней, высказал предположение, будто у других славян было три самостоятельных слова: рабъ (т. е. лат. servus) при сербском роб от корня *rob-, работа ‘дело’ от корня *orb-, а ребенок ‘дитя’, параллельное будто бы слову робкий, от корня *reb– (Мейе, 1905, с. 226 и сл.). Натяжки очевидны. Древней формой слова со значением ‘дитя’ была робенъкъ, как и полагается «роб-ичи-щу», т. е. маленькому рабу (или сыну робы), а славянское слово работа вплоть до XVII в. обозначало ‘рабство’. Рабство – книжное слово, работа (с другим суффиксом) – русское, но смысл их один, они только относились к разным языкам – церковнославянскому и русскому. И раб, и работа, и ребенок – слова одного корня, изменение смысла родственных слов определялось обстоятельствами социальной жизни восточных славян. К примеру, слово робичищь первоначально обозначало не такое уж зависимое лицо, это лицо входило в число челяди и домочадцев; ср. в одном переводе X в. (по русскому списку 1073 г.): «и сынъ твои и дъшти твоя, робичишть и рабичьна твоя» (Изб.-73, с. 251), в котором робичишть соответствует греческому spádonti, т. е. ‘слуга, придворный, домочадец’ (Срезневский, т. 3, стб. 126), хотя первоначальное значение греческого слова ‘евнух в услужении’. Славянская традиция не принимает византийского деления на разряды слуг. Вместе с тем, лица, обозначаемые словами раб, робичищь, ребенок, для восточных славян являются все теми же неполноправными, «младшими» в роду: хлопец, чадо, ребенок...
Пытаясь определить исконное значение древнего корня, мы находим в родственных языках, что латинское orbus ‘осиротевший’, греческое orphanós ‘осиротевший’, армянское orb ‘сирота’, ирландское orbe ‘наследство’, санскритское arbhas ‘маленький мальчик’ в чем-то совпадают со славянским рабъ. «Значение ‘раб’ могло развиться из значения ‘сирота’, потому что первоначально сироты выполняли наиболее тяжелую работу на дому» (Фасмер, III, с. 453). Как это было, мы знаем по сказкам разных народов – «Морозко», «Золушка». Сиротская доля была тяжкой, и «робенок» становился «рабом». Горше сиротской доли и быть не могло в родовом или общинном быту: человек один, без роду-племени, в услужении чужим. С развитием классового общества такому сироте пришлось еще хуже, теперь сирота не просто грелся у чужого костра, огнища, «дыма», он работал на чужих. Раб-сирота незаметно становился рабом-работником, «яко работника всяку работающа работу» (Жит. Сергия, с. 352).
Вот эти-то слова, несомненно вторичного происхождения (на что указывают их суффиксы), особенно интересовали историков. Слово работник – от работа, а работа –‘рабство’; когда-то работник был работягъ («тянет на себе» всю работу), так что современное просторечное работяга оказывается старинным книжным обозначением человека, который находится под «работным игом». Ср. в переводе «Александрии» (говорят женщине): «Аще бо нынҍ родиши, работяга (и) плененика родиши» (Срезневский, т. 3, стб. 5; в греческом оригинале hypódulos ‘подневольный раб’). Обилие слов, порожденных этим корнем, поражает, но каждое новое из них обязательно приходит со своим суффиксом, так что со временем последовательно возникающие слова постепенно снимают исключительность древнего значения корня (‘рабский труд’). В Материалах И. И. Срезневского показаны такие значения слова работа: ‘рабство’ – ‘служба’ – просто ‘труд’, тогда как работина – только ‘труд’, а работание – только ‘служба’; работати – ‘находиться в рабстве’ (в «Повести временных лет»), ‘служить кому-то’ (позже, в Новгородской летописи) и вообще ‘трудиться’ (в Никоновской летописи, т. е. с XVI в.). Значения производных слов привели к постепенному «смягчению» смысла корневого слова раб: ‘рабство’ – ‘служение’ – просто ‘труд’. Сравнивая три глагола – работати, страдати, трудитися, – историк спрашивает себя, все ли три категории труда формально выражали юридическое состояние рабства (Романов, 1947, с. 48-49). Раб несомненно противопоставлен свободному – это ясно, но все ли сферы деятельности, известные и доступные рабу, оказываются недоступными для свободного, скажем, для смерда? Работают в поле, страдают в страду, трудятся до седьмого пота (слово трудъ значило ‘стеснение, тягость, досада’, т. е. утомление от работы). В деле, труде, работе раб и свободный были равны, а потому и глагольные формы языка безразличны в обозначении того, кто работает. В древнейших славянских переводах различаются, однако, работати и служити, поскольку с их помощью переводили разные греческие слова (соответственно duleúō и latreúō – Ягич, 1902, с. 358); в Древней Руси значения этих глаголов постепенно сближались, поскольку лишь слуги служили, а все остальные работали.
Состояние рабства, правда, сохранялось долго, еще для А. Курбского и Ивана Грозного работа – ‘рабство’, однако все новые слова, возникавшие позже (работание, работина и др.), уже не имеют такого значения. «Л. П. Якубинский считал, что слово робить в смысле пахать древнее рабства. Поэтому роба первоначально означало женщину-пахаря и позднее стало обозначать несвободную женщину. Слово же раб (в болгарской огласовке) появилось не позже середины X в. и связано уже с работорговлей и конкретными ее путями» (Зимин, 1973, с. 20).
Все, что известно об истории слова, противоречит такому суждению. Роба поначалу – сирота в патриархальном доме. И, однако, с каким постоянством, неуклонно, независимо от времени, условий, места и обстоятельств рабское состояние человека в народном сознании связывается с сиротским положением, особенно ребенка! В описании жизни при дворе князя Андрея Боголюбского (конец XII в.) встречаем слово паробокъ. Оно родственно слову робенокъ, только с другим составом морфем, в числе которых префикс па- (как в словах па-дчерица или па-сынок), а этот древний префикс означал когда-то именно положение «под» кем-либо, «после» кого-либо, кто должен быть первым и главным (Фасмер, т. 3, с. 180-181). Украинские парубки, холостые парни, – когда-то тоже сироты горемычные. В средние века, когда «истончился смысл» слова холопъ, а рабъ звучало еще слишком торжественно, появилось на Руси «много пустошныхъ сиротъ и работныхъ» (Домострой, с. 166), т. е. бездомных холопов. Старинный образ – лик рабства – снова возник из небытия при обозначении бесправных и бездомных людей государевых словом сирота.
Сирота (от древнего корня сир-) – человек без рода и племени, т. е. ‘лишенный родных, близких’. Один из первых новгородских епископов (XI в.) Лука Жиˊдята просил владетелей «к сиротам своимъ быть милостивыми» – как бы сверху, с амвона, внемля богу, призывал господ к милосердию. В XIV в. в берестяных грамотах находим и самоуничижительные характеристики их авторов: «попецелилеся горюнами» (№ 167), «сирота» (№ 5), а в XV в. слово сирота стало уже термином, которым, как иногда полагают (Пресняков, 1909, с. 48), заменили старое слово изгой.
Изгой – отщепенец, лишенный рода насильно. В церковном уставе князя Всеволода сказано: «Изгои трои: поповъ сынъ грамотҍ не умҍеть, холопъ ис холопьства выкупится, купҍць одолжаеть; а се и четвертое изгойство и к собҍ приложимъ: аще князь осиротҍеть», т. е. лишится владений (Щапов, 1976, с. 157). Красочные картины изгойства в средневековом обществе нарисовал Б. А. Романов в своей книге «Люди и нравы Древней Руси». Изгой означает буквально: лишенный жизненной силы рода, традиции, а значит и права на жизнь. Слово из-гой того же корня, что и жизнь, жи-ти (только в другой огласовке). «По понятиям древности “жить” значит иметь средства к существованию» (Дьяконов, 1912, с. 114), что не совсем точно. Сирота не имел средств к существованию (отчины и дедины), изгой же не имел рода, родства и Родины, почему изгоем стали со временем называть человека, стоящего вне закона (Филин, 1949, с. 234). «Изгой» известен издавна, изгои были и в родовом обществе, а вот «сирота» в социальном средневековом смысле – порождение нового общественного быта.
Говоря о слове изгой, историк признает, что «впоследствии термин становится все более расплывчатым» (Мавродин, 1971, с. 73). Расплывчатость его не связана с самим явлением изгойства, она определяется редкостью и ненадежностью источников, среди которых и переводные, и компилятивные, и такие, в которых нередки кальки-переводы с греческих слов. Изменение значений этого старинного слова происходило от местности к местности и в разное время подвергалось различным преобразованиям. Но всегда ясно, что исходный синкретизм праславянского слова постоянно и неотвратимо как бы «расходится» по различным текстам, вступая в сочетания с самыми неожиданными словами. Только на основании всех таких текстов возможно сделать предположение о древнейшем значении термина. Однако в случае с изгоем как раз все ясно. В отличие от раба-сироты, который, несмотря ни на что, остается в роде-семье, изгой лишается последнего. Изгой – это и безграмотный сын попа, и свободный холоп, и запутавшийся в долгах купец, и лишенный земли феодал.
Итак, младший член рода или семейной общины всегда казался (и являлся) особенно бесправным. От названий такого члена рода и возникали, сменяя друг друга, именования бесправных в данном обществе лиц. Вообще все термины социальной зависимости уходили своими корнями в структуру семейных отношений, которая, последовательно развиваясь, и породила феодальные отношения. «Чада и домочадца» – дети и люди в «Домострое», и «челядь» – близкое к чадам понятие, но также и «хлопец» обращался в холопа, «отрокъ» – в слугу (в старославянском, чешском и словацком отрок – ‘раб’). Так же и «детские» – свободные слуги князя, «младшие» в иерархии, хотя по возрасту, может быть, и не дети.
Как бывает в таких случаях, постоянная смена терминов для обозначения низших социальных рангов не являлась случайной. Появление каждого нового слова было необходимо для обозначения действительно свободного слуги – в отличие от зависимого и – дальше – от бесправного раба. Появлялось новое слово, освежавшее представление о зависимом слуге, а прежнее тут же понижалось в степенях. Так росла и ширилась сама иерархия феодальных отношений, сложное переплетение зависимости людей друг от друга. Тот, кто и прежде был зависимым, от смены термина не становился свободным, но с удивлением вдруг замечал, что вот уже и «под ним» оказался другой, теперь не просто зависимый, подобно ему, а бесправный, сирота, крепостной. Слова чадь и челядь в X в. сменились словом холопъ, в XI – отрокъ, с XII в. известно паробокъ, с конца XII в – дҍтьскый, с XIV в. – слуга (совершенно книжное слово). И все они выходили из терминов семейных отношений. Ученые много спорили о значении слова отрокъ. Обычная этимология: лишенный права речи в собрании взрослых – отрокъ. Сегодня, сопоставляя это слово с некоторыми славянскими, находят, что слово отрокъ могло означать не только ребенка, но и «побочный стебель» (побег), так что отрокъ становится простым указанием на новое поколение людей в роду (Львов, 1975, с. 227), точно так же, как и робичищь – побочный сын племени, ребенок робы. Не случайно (как заметили историки) отроки в княжьей дружине были обычно иноземного происхождения: венгры у князя Бориса, половцы у Владимира Мономаха и т. д. (Фроянов, 1980, с. 91).
Уже в древнейших переводах книжники колебались в передаче греческого páis: отрокъ, дҍтищь, рабъ или слуга (Ягич, 1902, с. 374, 454); каждый раз употребляли то, что требовалось по смыслу текста. Влияние на выбор слов со стороны греческого слова сомнительно, поскольку páis всегда ‘ребенок, дитя’ (а позже и ‘юный раб’). В переводах не всегда различались также рабъ и холопъ. В древнерусском переводе «Книг законных» греческое dúlos передается как холопъ, а в другой их части, переведенной не на Руси, – словом рабъ. Это столь последовательное соответствие, что никаких сомнений не остается: тот, кто у восточных славян числился в холопах, у южных славян считался рабом. В «Хронике Георгия Амартола», переведенной частично в Древней Руси, а частично у южных славян, есть и холопъ, и отрокъ, и рабъ, но холопъ в ней на месте sklábos ‘раб-славянин’, рабъ, как обычно, соответствует словам dúlos, therápōn, oikétes и páis, а отрокъ просто ‘человек’ – слову ánthrōpos или слову páis в значении ‘мальчик’. Впечатление такое, будто переводчики ищут точные соответствия византийским социальным отношениям в собственном общественном быту, накладывая на человеческие отношения своего общества непривычные мерки рабовладельческого общества. Но вряд ли рабство восточных славян как социальное состояние было равнозначно византийскому, и поэтому прав историк: «Поскольку рабский труд на Руси не стал основой общественного производства, то историю рабовладения следует перенести прежде всего в плоскость смены форм эксплуатации рабов, т. е. форм организации рабского труда во владельческом хозяйстве и условий производительной деятельности рабов. В ранний час истории восточного славянства между рабами и свободными пропасть не лежала: рабы входили в состав родственных коллективов на правах младших членов и трудились наравне и вместе с остальными» (Фроянов, 1974, с. 152). «На правах младших членов» – из зависимых становились бесправными, из «робят», «хлопцев», «детских», «паробков», «чади» и «челяди» становились холопами и крепостными.
В наших рассуждениях важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Э. Бенвенист хорошо показал, что во всех индоевропейских языках в разное время название раба приходит обязательно из чужого языка. «Выясняется глубокая семантическая корреляция между названием свободного человека и противопоставленным ему названием раба. Свободный человек обозначается как ingenuus (лат.) ‘рожденный в данном обществе’ и, следовательно, обладающий всей полнотой прав. В корреляции к этому тот, кто не свободен, – необходимо кто-то такой, кто не принадлежит к этому обществу, чужой человек без прав. Раб – еще нечто большее: чужой человек, захваченный на войне или проданный как военная добыча» (Бенвенист, 1974, с. 368), и это, конечно, то, что обозначается не словом рабъ, а плҍнъ, или в русском варианте полонъ (литовское pelnas значит ‘добыча, выручка’). Во всех славянских языках названия раба заимствованы; так, древнерусское рабъ пришло из болгарского языка при переводе латинских или греческих выражений. Однако у славян не было заимствованных слов, которые обозначали бы презираемого и нещадно эксплуатируемого раба. А если так, были ли у них и рабы в том смысле, как понимает рабство история?
Выстраивается только две общих линии при обозначении такого человека: «смерд» и «холоп», и шли они параллельно в продолжение всей феодальной эпохи. Бесправен или зависим, насколько зависим, до какого предела бесправен был такой человек? Чтобы понять это, нужно снять с документов налет чужих определений, заимствованных терминов, нерусских характеристик, тогда редкие, постоянно изменявшиеся определения и термины вроде таких, как закупъ или рядовичь, станут понятнее. Частные формы зависимости не меняли существа дела, обозначение зависимости развивалось исподволь только в двух направлениях: смерд и холоп.
МУЖИ И ЛЮДИ
Одновременно с развитием различных форм зависимости продолжали развиваться взаимные отношения между разного ранга свободными людьми. «Еще в начале XV в. живо сохранялось старинное значение слова муж; если понимали прежнее значение мужа, понимали и прежнее значение людей, мужиков. Какие бы чины и деления ни вносило государство в общество, в котором такие понятия опирались на живую действительность, в сущности это общество распадалось на два класса» (Ключевский, 1918, т. 2, с. 113). Нам предстоит уяснить уже не конкретные социальные термины в их историческом противостоянии, но, если можно так выразиться, общегражданские определения человека – равного или свободного – в феодальном обществе.
Понятие о знатном человеке в его противоположении низкому, черному, подлому было неизвестно родовому строю. Значительность лица там определялась возрастом и каждый раз подтверждалась все новыми положительными действиями человека в пользу рода, его заслугами – его честью. Следовательно, устойчивое представление о значительности и значимости того или иного человека не отчуждалось от него, а всегда ему сопутствовало, определяя его достоинство в кругу родичей.
Отчуждение идеи знатности от конкретной личности происходило с расширением трудового и семейного коллектива, в котором такая личность действовала. Не всякий человек и не всегда мог видеть знаменитость, так что слава о ней подчас опережала саму личность, имена таких нарочитых мужей (или позже – людей) были у всех на устах, о них говорили, их нарекали (реку – нарокъ). Уже княгиня Ольга, приглашая в 945 г. в свой город сватов – древлянских вельмож, требует, чтобы это были «мужи нарочитые», т. е. всем ведомые, а значит, в известном смысле – лучшие представители племени. «И послаша деревляне лучьшее мужи числомъ 20» (Лавр. лет., с. 15). «Добри гостье придоша», – приветствует их княгиня уже другими словами и не без иронии; «нарочитые» – «лучьшие» – «добрые» – так понижается ранг этих мужей в зависимости от отношения к ним со стороны. Все это только признаки, выделяющие чем-то известных членов рода, социального термина еще нет.
Однако были и такие свойства, благодаря которым мужи стали известны: силой, летами, главенством, просто благородством поведения они выделялись из череды сородичей, и каждый раз это требовало выражения в речи; возникли слова для обозначения подобных свойств личности.
Те, кто назывался словом старҍишие, определялись возрастом и, значит, опытом, мудростью. Именно они управляли родом, т. е. главенствовали в нем, еще не отдавая себе отчета в том, что их возрастное старшинство есть одновременно и социальное главенство. Впоследствии из этого зерна развилось представление о старшем, главном.
Само главенство определялось величием деяний, таких, например, как совершенное в 993 г. отроком кожемякой («усмошвецем»): в решающей схватке под Переяславлем он победил злого печенежина, и князь Владимир «великымъ мужемъ створи того и отца его» (Лавр. лет., с. 42б-43) – не только его самого, но и отца его сделал старшим, главным, значительным лицом в своей дружине.
Но этот же младший (пятый по счету в семье) сын «мужа стара» одновременно мог быть назван и «вячшим», потому что вячший – сильный, могучий, а невероятная сила отрока испытана в схватке с разъяренным быком, которого он разодрал в клочья, в каждой схватке вырывая по куску мяса. По понятиям того времени сильнее человеку просто невозможно быть.
Тот же отрок мог быть и «лепшим», красивым, хорошим, потому что лҍпый – красивый, ладный, а физическая сила всегда сопровождается физической красотой. Таковы были представления того времени о красивом: сильный, здоровый, ладный.
Итак, один и тот же человек, еще безо всякого отношения к многоуровневым социальным функциям своим, мог быть назван одновременно и как старҍиший, и великий, и просто большой, и лҍпший, и вячший, и нарочитый, поскольку пока все это – признаки лица, данные в конкретном определении, а не свойства какого-либо ранга, которые в своем выражении могли пониматься и как имена существительные. Определение привязано к имени, как и признаки соотносятся с конкретным человеком. И имя, и сам он, и признаки его пока еще едины, это – сам человек, а не его положение в обществе со свойствами, которые данное же общество ему приписывает.
С развитием феодального общества каждый такой признак мог оказаться решающим – стать социальным термином, а первоначальный прямой смысл признака – со временем забыться, стереться. Каждый признак мог стать решающим, но ни одно из перечисленных слов-прилагательных не сохранилось в русском языке как социальный термин. Почему?
И потому, что с течением веков изменялось отношение людей к разным свойствам знатности, а это влекло за собой изменение слов и замещение их; и потому еще, что слишком конкретными по значению были эти исходные признаки социального ранга, слишком описательными и притом многозначными, потому что добрый, например, одновременно и ‘хороший’, и ‘славный’, и ‘сильный’, и ‘крепкий’, и ‘богатый’, и ‘здоровый’ – все вместе, но каждый раз, в отдельном сочетании, выступало конкретно какое-то одно из этих значений. У этих слов отсутствовала та отвлеченность смысла, в которой обычно нуждается новая эпоха. Каждое определение диктовалось текстом и пока не стало точным термином.
Проследим движение слов, обозначавших социальную противоположность «знатный – подлый». Для начала одна оговорка. Дело в том, что история социальной терминологии давно интересует специалистов, и во многих трудах она изучена досконально. Нет нужды приводить многочисленные примеры употребления терминов, как сделано это в других главах книги; достаточно сослаться на литературу вопроса: Филин, 1949, с. 228-231; Черных, 1956, с. 121-126; Михайловская, 1966. Историки выявили все сочетания слов, которые нам необходимы, из летописей и грамот (Кочин, с. 177-184, 196-198); в исторических словарях такие примеры также подробно описаны (Срезневский, т. 2, стб. 91-95, 189-193); нам остается лишь разобраться в море фактов и по возможности выявить ведущую линию изменений в значениях слов и в общей теме, которую мы изучаем. Это важно потому, что и текстологически, и лексикографически, и даже стилистически данная группа лексики разработана хорошо: однако ученых интересовала по преимуществу социальная терминология, тогда как рассматриваемые в этом разделе слова долгое время в древнерусском языке не были терминами. Этого нельзя забывать, иначе утрачивается перспектива развития словесных значений, и в истории русской культуры смешиваются самые разные явления.
В употреблении определений нет ничего случайного, даже летописи их строго различают: в Лаврентьевской «пришлите мужа нарочиты», «собрашася лучьшие мужи» (с. 15б), «великимь мужемъ створи того» (с. 43), «послаша лҍпшиҍ мужи» (с. 92), «сильныхъ своих бояръ» (с. 149); в Новгородской вдобавок к тому еще «волочаху добрые мужа» (с. 47), «поимя новгородци вятшихъ» (с. 74) и т. д.
Само обилие слов, выражающих одно понятие, можно истолковать как принадлежность некоторых из них определенным территориям Древней Руси. Хотя в основном своем значении эти слова и были общерусскими и даже общеславянскими, в новом своем качестве социального термина они постепенно вычленялись каждое на одной из территорий. Как раз это их качество важно, потому что указывает на позднее по времени развитие новой социальной терминологии – после дробления Руси на удельные княжества и земли.
Сочетание лҍпшие мужи дольше всего сохранялось (да и появилось оно в XII в. раньше всего) в Галицко-Волынской земле; там вельможи именовались по признаку красоты, что находит свое соответствие и в текстах русских былин, именно этому русскому краю приписывавших особенно щегольских на вид, с обилием украшений, надменных и задиристо-хвастливых богатырей.
Сочетания вячшие люди и старҍишие люди сохранялись в новгородских землях; именно там возникли раньше, чем в других русских землях, сочетания житьи люди и передние люди – все вместе это указывает на более архаичные определения на русском Севере. Старҍишие вместо великие, передние вместо первые, житьи вместо богатые, вячшие вместо сильные – все это древние по образованию и многозначные слова. Древний Новгород дольше других земель сохранял выраженные таким образом внешние формы родового быта, но вместе с тем и обнаружил особую склонность к именованию знатных по признаку состояния, богатства: на вечевой площади житьи и передние мужи имеют несомненные преимущества перед другими мужами. По содержанию понятие о знатном традиционно сохранялось, но по объему своему неуклонно менялось: в Новгороде знатен только богатый.
Выясняется также, что некоторые слова, несмотря на их кажущуюся древность, на самом деле новые, возникли под влиянием высокого книжного стиля и встречаются скорее как слова церковно-книжные, чем как слова русского языка; никогда не употребляются они в народных текстах. Велий по сравнению с великий – более древнее слово, но появляется оно сначала в переводных текстах как признак высокого стиля, а в данном значении (велии мужи) известно фактически только с XV в., особенно часто встречается в московских памятниках: в момент становления новой государственности московские княжеские канцелярии весьма полюбили книжные архаизмы. В архаике видели они особую значительность, что сказалось и в формировании государственного протокола. Будучи древним по форме, по значению слово велий было совершенно новым и использовалось иногда для замены слова великий. Так же было и со словами честной и славный: они пришли из книжной речи как именования известных миру подвижников и страдальцев, но со временем стали употребляться и для обозначения светских владык: в «Задонщине» слова честной еще нет, но славными называются не только военачальники, но и воины.
После этих замечаний обратимся к самим обозначениям. Оказывается, все шесть известных нам с древности определений знатности, связанных с представлениями о красоте, величии, силе, славе, богатстве и главенстве, долгое время сохраняли еще древний словесный образ. Новые понятия возникали в неопределенности первобытного образа, и поэтому позже требовалось как бы «освежение» этого образа. Как только представление об образе тускнело, а сам он стирался от частого употребления, появлялись новые слова, его оживлявшие. Не забудем, что средние века – это время развитого символического мышления, когда образ важнее понятия; символизм понятия и основан как раз на образном представлении о чем-либо через нечто другое. Так, понятие «знатный муж» было уже вполне современным, это лицо опосредованно именовалось через указание на его силу и мощь, представления о которых, в свою очередь, широко варьировали по разным землям и в разное время; сила – не грубая физическая сила княжьего отрока, а власть или богатство (но по традиции и это – сила).