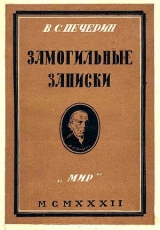
Текст книги "Замогильные записки"
Автор книги: Владимир Печерин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Принятие в орден редемптористов
Наконец викарий (vicaire général) приехал из Вены, и меня ввели уже не в приемную (parloir), а в другую комнату на верхнем этаже внутри монастыря. Тут за столом сидели: викарий отец Пассера (Passerat), настоятель отец де-Гельд и мой духовник, отец Манвис. О. Пассера имел важное и несколько суровое лицо, его белые волосы небрежно расстилались по плечам. Вид его невольно напомнил мне великого инквизитора в Дон-Карлосе. Участь его была странная. В молодости при Наполеоне I-м он из семинаристов попал в солдаты и несколько лет прослужил в большой армии (la grande armée); но когда звезда великого человека закатилась «И боем последним Монмартр прогремел», он вспомнил мечту своей юности и, следуя своему первому призванию, вступил в орден редемптористов и дослужился до того, что сделался вторым лицом после генерала, т. е. его представителем по сю сторону Альп. О. Пассера был француз jusqa à la moêlle des os[257]257
До мозга костей.
[Закрыть]. У всех французов есть какой-то особенный дар придавать себе театрально-величественный вид: все они глядят императорами и говорят высокими полновесными фразами, по-видимому заключающими в себе всю глубь человеческой мудрости; но это только на сцене: посмотрите за кулисы, снимите с них мишурную мантию, сорвите личину, и окажется ужасная голь…
Mais au moindre revers funeste, le masque tombe, Thomme reste, et le héros s’evanouit[258]258
Но при малейшем печальном обороте судьбы, маска падает, остается человек, а герой испаряется.
[Закрыть].
Это напомнило мне другого француза-легитимиста, который, устыдившись французского имени, прицепил к нему православное – ов.
Я только что вступил в университет. «Ректор Дегуров!» Дегуров! Ну уж это непременно какой-нибудь тамбовский или саратовский помещик: этим и фамилия пахнет. После молебствия перед началом курсов, я пошел представиться ректору. Каково же было мое изумление, когда я нашел, что этот тамбовский помещик ни слова не знает по-русски! Он встретил меня с важною осанкою времен Людовика XIV-го, взглянул на меня императорским взглядом и торжественно-протяжным голосом сказал: Monsieur!!! Vous êtes un ré-vo-lu-tion-nairrre!!! [259]259
Сударь!!! Вы – ре-во-лю-цион-неррр!!!
[Закрыть] А все это вышло из-за того, что перед молебствием инспектор, отставной фрунтовик, вздумал построить студентов в боевой порядок, и довольно неучтиво ваявши меня за рукав, как пешку поставил на место, на что я довольно азартно возразил, что я не привык к подобному обращению. Это, как следует, донесли начальнику, и ректор Degour-off окрестил меня революционером, каковым я и остался до конца дней. А по возвращении из Берлина, простодушный попечитель Бороздин сказал обо мне: «это одна из тех змей, которых Россия питает на груди своей!»Тут я окончательно превратился в Змея Горыныча.
Но не так думали обо мне святые отцы, собранные в конклаве в монастыре редемптористов: в глазах их я был кроткою незлобною голубицею.
Викарий о. Пассера очень ласково расспрашивал меня о том, что возбудило во мне первую мысль о монашеской жизни. Я отвечал, что с самого детства я любил читать жития святых, особенно пустынников. «Очень хорошо! Это самое лучшее приготовление к монашеской жизни!» – После еще нескольких неважных вопросов, он приподнялся и с важною осанкою сказал: Eh bien! nous vous recevons! т. e. Мы, божиею милостию император и пр. принимаем вас в Орден. Я, не сказавши ни слова, поблагодарил его легким наклонением головы. Я не знал их обрядов: мне следовало бы упасть на колени и поцеловать ручку Его Высокопреподобию; но я тогда был еще вольным казаком и не заботился ни о каких приличиях.
Под конец этой сцены отворилась дверь и вошло новое лицо, поразившее меня необыкновенным выражением – лицемерия. Это был тот самый о. Отман, что так тебя разгневал в С. Троне (St. Trond). Он был начальником новициев[260]260
Новициями во французских монастырях называют послушников, готовящихся в монахи. Отсюда – новициат, общежитие послушников.
[Закрыть](Maître des novices) и нарочно приехал из Сен-Трона, чтобы принять меня из рук викария под свою опеку. Он был еще молодой человек, но вечно ходил согбенным, как старец, и никогда не поднимал глаз, так что можно было только видеть его веки. Лицо у него было бледное, как полотно, с длиннейшим остроконечным носом – верным признаком хитрости и лукавства. Эти господа любят иногда похвастать своею классическою ученостью. Говоря со мною, как с бывшим профессором, о суете и ничтожестве мира сего, о том, как непрочны все земные связи и как лучшие друзья изменяют нам в несчастий, он подвернул стишок, кажется, из Овидия: multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris[261]261
Многих ты числишь друзей, но если настанут тяжелые времена, ты останешься один (Овидий).
[Закрыть].
Все было решено. Мне оставалось только ехать в Сен-Трон в дом новициата. Но я все еще как-то не имел ясного понятия о том, что я иду окончательно запереться в монастырь. Мне сказали, что мне надобно будет в продолжение недели сделать духовные упражнения (exercices spirituels). Я так всем и говорил, что еду в St-Trond на неделю не больше. Но Фурдрен очень хорошо понял, что я исчезну невозвратно, когда он сказал своей маленькой девочке: «Поцелуйся с ним, душечка, ты его долго не увидишь». С капитаном я простился довольно холодно и церемонно: казалось, все чувства благодарности были заглушены религиозным энтузиазмом или назарейским[262]262
Христианским.
[Закрыть] безумием. Я решительно переходил в другой лагерь. Католическая церковь есть отличная школа ненависти. «Vos, qui diligitis Dominum, adite malum», если вы любите господа, то вы должны ненавидеть врагов его. Как далеко они ушли от евангелия!
Прощаясь с о. Менвисом, я изъявил сожаление, что лишаюсь его добрых советов. «Вы ничего не теряете: у вас в Сен-Троне будет отличный наставник о. Отман – он тоже француз из Альзаса: C'est un homme profond!»[263]263
Это – глубокий человек!
[Закрыть] Простился я также с моею доброю старушкою m-me Joarrisse и все-таки оставил ей надежду, что может быть ворочусь. Все мои пожитки состояли из нескольких книг: еврейской библии, лексикона и грамматики, Soirees de S-Petersbourg De-Maistre’a [264]264
«Петербургские вечера» Де-Местра.
[Закрыть] и еще кое-чего: все эти книги я с каким-то человеком отправил в монастырь Haute Rue, а сам я налегке в синем фраке с бронзовыми пуговицами и пестрых штанах с узелком в руке (заключавшим одну рубашку с кое-чем другим) пошел навестить мой старый притон у петушка (au coq), где встретил старых приятелей, кондукторов и кучеров омнибусов, часто обедавших со мною в этом кабачке и нередко удивлявшихся моей республиканской прическе. Хозяин так меня полюбил, что незадолго до моего отъезда взял двух своих мальчишек из школы des frères chrétiens[265]265
Христианских братьев.
[Закрыть] и отдал их мне в науку. Я учил пополам с грехом: иногда случались затруднения в арифметике, особенно когда дело доходило до дробей; но с божьей помощью все благополучно сходило с рук. Меня на дорогу накормили отличным обедом; но о настоящем моем намерении я ни гу-гу, а просто сказал, что еду на несколько дней в Сен-Трон. Омнибус отвез меня к станции: эго была моя первая поездка по железной дороге, тогда еще недавно открытой. На половине дороги пришлось ожидать несколько часов мехельнского поезда: это время я очень приятно провел в галантерейном разговоре с хорошенькою demoiselle du comptoir [266]266
Кассиршей.
[Закрыть]. Это была последняя жертва, брошенная миру юности…
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она!
«St.-Trond estune petite ville bigotte,»[267]267
Сен-Трон – маленький ханжеский городок.
[Закрыть] сказал мне Лекуант прощаясь со мною. Этот городишко в каких-нибудь 8000 душ лежал в самом глухом захолустье. К нему была проведена ветвь железной дороги, но дальше уж никуда не было проезда: хоть три года скачи, как говорит Гоголь, но ни до какого государства не доедешь. Почти все население состояло из попов, монахов и их поклонников. Никакой промышленности, ни торговли – как и следует быть в таком благочестивом месте. Везде мертвая тишина, изредка только прерываемая звоном колокола, призывающего к утренней или вечерней-молитве, – точно в какой-нибудь Аравии, где муэдзин с высоты минарета в известные часы кричит: «Аллах у Аллах у Мохаммед расун Аллах!»
Вышедши из станции железной дороги, я не пошел прямо в монастырь, а зашел прежде в цырульню – и вот почему. Еще предварительно в Льеже я обрил себе бороду, оставивши только небольшие усики; но и с этим мне казалось неприличным явиться в новициат, – и так в этой цырульне какая-то женщина-цырульница обрила мне усы. Adieu mon plaisir![268]268
Прощай мое удовольствие.
[Закрыть] В этом смиренном образе, отложивши в сторону всю гордость века, отрекшись от диавола и всех дел его, я робко позвонил у двери Maison des rédemptoristes[269]269
Дом редемптористов.
[Закрыть].
Дверь мне отворил благолепый австриец отец Пилат. Он с какою-то особенною улыбкою взглянул на меня, на мой костюм и узелок. Я поспешил сказать ему, что я тот русский, которого ожидают в повициате. «А! пожалуйте! пожалуйте!» и ввел меня в хорошо убранную комнату: тут был стол с несколькими стульями, кушетка и постель с занавесками. «Тьфу, пропасть!» подумал я: «неужели же они живут так роскошно: это вовсе не сообразно с философскою и монашескою бедностью». Но я ошибался: это была комната для гостей. Через несколько минут вошел отец министр Геллерт, заведывавший хозяйственною частью монастыря: он радушно приветствовал меня и, взявши меня за руку, повел в длинный-длинный коридор, на который открывались двери с обеих сторон. В конце корридора отворилась маленькая дверь и я очутился в крохотной комнатке с одним окном и совершенно голой. Она была очень хорошо выштукатурена. Тут был простой деревянный столик с деревянным резным распятием, с чернильницею и песочницею и несколькими листами бумаги; в углу стояла деревянная кровать, а на ней вместо пуховика – мешок туго набитый соломою и того же материала подушка, но все это было покрыто белоснежною простынею с шерстяным одеялом. В этой келье все блистало необыкновенною опрятностью: даже досчатый пол лоснился как будто паркет. Ничего не могло быть лучше! Я почувствовал себя как будто в свойственной мне атмосфере. Отрешение от излишеств, от ненужных вещей, от ложных благ – вот истинная свобода. Когда я остался один, меня охватило какое-то неописанно блаженное чувство спокойствия: здесь мертвая тишина! сюда не доходят никакие мирские звуки, здесь не надобно думать о завтрем.
Кто-то постучался у двери – entrez[270]270
Войдите!
[Закрыть]. Вошел молодой человек приятной наружности с отличными манерами – в монашеской рясе. Это был frère Meyer один из новициев, нарочно посланный pour me tenir compagnie[271]271
Составить мне компанию.
[Закрыть] для того, чтобы мне не было скучно вначале. Он взял меня провести по монастырю, потом мы сошли в сад и долго вместе гуляли. Он был развязный светский молодой человек, очень сведущий в естественных науках и говорил очень приятно. Он сказал мне, что я обманул ожидание всех новициев: о. Отман обещал привести им русского с бородою, а я напротив приехал совершенно выбритым. Ха-ха-ха!
Да, никакие слухи не достигали этого мирного приюта. Сколько событий случилось в этот год новициата! И король голландский умер, и св. мощи Наполеона перенесены были с острова св. Елены в Инвалидную палату, прусские воины шли на помощь султану против Египетского паши – а я ничего об этом не знал и слыхом не слыхал.
Новициат
(1840–1841)
Те souviens-tu?.. mais ici je m‘arrête,
Ici finit tout noble souvenir;
Vieux camarade, ah! viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir,
Et quand la mort, planant sur ma chaumière,
Vieilt nTappeller au repos qui m'est dû,
Tu fermeras doucement ma paupière, en me disant:
Soldat! t‘en souviens-tu?
Старая песня[272]272
«Ты помнишь ли?… но здесь я останавливаюсь, здесь кончается всякое благородное воспоминание; старый товарищ, пойдем вместе в мое убежище ожидать лучшего будущего, и когда смерть, витающая над моей хижиной, даст мне заслуженный покой, ты тихонько закроешь мне глаза, сказав: Солдат! ты помнишь ли?» – Цитируемые Печериным строки представляют последнюю строфу популярной французской песенки, созданной в конце 20-х г. г. французским поэтом-песенником Дебро (Debraux); в ней униженному положению Франции после реставрации Бурбонов противопоставляются воспоминания о былой славе эпохи революционных и наполеоновских войн.
[Закрыть].
Отец Отман, maître de novices, еще не воротился из Льежа и я покамест оставался под опекою отца Геллерта, префекта гостей (Préfet des étrangers) и любезного frère Meyerr. Однакож мне тотчас дали работу. Каждый новиций при вступлении в монастырь должен собственноручно переписать все правила и постановления ордена (Regulae et Constitutiones Congregationis SS-mi Redemptoris) для того, чтобы иметь свой собственный экземпляр. Это мне очень понравилось: «для того, чтобы исполнять закон, надобно его хорошо знать». Итак я с большим усердием принялся за эту работу. Между тем приехал о. Отман и первою его заботою было доставить мне более приличное одеяние. В обильном гардеробе новициата, где целыми слоями лежали сброшенные светские одежды ветхого человека – разных поколений, он сам выбрал очень хорошенький, даже щегольской сюртучек и надевая его на меня, повторял: pauvre jeune homme! pauvre jeune homme![273]273
Бедный молодой человек! бедный молодой человек!
[Закрыть]
После этого он потребовал от меня выдачи всего моего имущества. «Voilà tout ce qui me reste après mes déboursements!»[274]274
Вот все, что осталось после моих трат!
[Закрыть] сказал я с видом и тоном человека, только что истратившего несколько тысяч, – и подал ему мелкими деньгами каких-нибудь пять или шесть франков. «Это вам тотчас же будет возвращено, если вам случится оставить этот дом». – Вот где коммунистам надо учиться. В новициате понятие собственности вовсе не существовало. Никто даже одежды своей не смел называть своею, потому что настоятель каждую минуту мог взять ее и отдать другому. Нарочно периодически переводили из кельи в келью для того, чтобы новиций не имел времени привыкнуть к ней и считать ее своею. О деньгах и помину не было. Никакая мысль о корысти и стяжании не была возможна. Все было общее! всякий получал все, что ему нужно, из рук настоятеля. Не это ли идеал сен-симонизма, где верховный отец, Père Supreme, держит в руках своих все богатства мира и раздает их каждому смотря по его нуждам и заслугам? В 1844, когда я был уже священником, проезжая из Парижа в Бельгию, я заехал в St.-Acheul повидаться с Гагариным. Он тогда был свежим и благочестивым новицием. Мне пришлось в его присутствии вынуть кошелек для того, чтобы расплатиться с извозчиком. Он смотрел на это с каким-то священным омерзением: «Ох! уж эти деньги! какая это гадость!» – А теперь он ежегодно получает из России 12 000 франков. О sainte pauvreté! paure homme!![275]275
О, святая бедность! бедный человек!!
[Закрыть] Прими теперь в соображение, что иезуиты вообще стараются заманить в свой орден богатых и знатных, и ты можешь себе составить понятие о том, какие несметные у них накопились богатства и как могущественно их влияние даже не в католических странах – вот и Россия платит им ежегодную подать.
О. Отман собственноручно остриг меня под гребенку по-солдатски и ввел меня в общество новициев. Их было 13 – все молодые люди от 18 до 25 лет. Трудно бы где-нибудь найти более благовоспитанный юношей, с лучшими манерами, с более утонченною вежливостью. У нас при мысли о семинарии или монастыре обыкновенно рождается понятие о грубом обращении, о варварских эпитимиях, ругательствах и побоях; а здесь, в этом новициате, не было даже и тени принуждения; это было в полном, буквальном смысле добровольное повиновение из веры и любви. Из уст начальника новициев, Maître des Novices, я никогда не слышал ни одного грубого слова, а во взаимном обращении новициев никто не осмелился бы сказать чего-либо оскорбительного для чьей-либо личности. Два раза в неделю был Капитул (Chapitre), где в присутствии всех собратий каждый обвинял себя в мелких нарушениях устава, причем начальник новициев давал кроткое и дружелюбное увещение: все это делалось открыто, публично и таким образом был пресечен путь к всякому шпионству и наушничеству. Да, отец Отман был действительно homme profond[276]276
Глубокий человек.
[Закрыть], по выражению отца Манвиса: он был мастер управлять людьми и казалось следовал правилу Жорж Занда: «Regner par fesprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs»[277]277
Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами.
[Закрыть]. Он может быть потому был так либерален, что сам ни во что не верил, и вот этому доказательство.
25-числа каждого месяца была особенная служба или молебствие в новициате в честь младенца Иисуса. Крошечная церковь новициев была разукрашена цветами: в яслях на соломе лежала французская кукла божественного младенца, перед нею новиции с большим умилением распевали священные гимны. Однажды в этот день настоятель (Maître des Novices), по-видимому углубленный в молитву на коленях перед яслями, вдруг громко расхохотался. Новиции нимало этим не смутились: они только шептали друг другу: это исступление! extase! Это видение! vision! Ему богородица привиделась! la Vierge lui a apparu! – Но и о. Отман все-таки нашел нужным объясниться: «Любезные братья!» сказал он: «среди ваших священных песнопений мне вдруг пришла на мысль суета и ничтожность всего земного: как мало мы делаем для бога и как все это примешано самолюбием и тщеславием, так невольно расхохочешься!» Il s‘ést tiré d'affaire com me un vrai philosophe[278]278
Он вышел из положения как истинны! философ.
[Закрыть].
Началась однообразная, правильная, законная жизнь новициата: каждый час, каждая минута имела свое назначение. В половине пятого каждое утро звонили в колокол. Каждый вспрыгивает с постели, как будто бы пожар в доме; брат прислужка отворяет дверь со свечою в руках и говорит: Benedicamus domino, на что отвечают: Deo gratias[279]279
Восхвалим бога – благодарение богу.
[Закрыть]. Наскоро умывшись, все идут в церковь на хоры, где происходит утреннее размышление, méditation du matin. Дежурный монах читает вслух один или два пункта. Вот образчик этих медитаций, взятых из книги иезуита Крассе (Crasset. Méditations). "1-er point. И n‘y a point de pénitence qai voit de plus grand mérite, que d‘accepter la mort en satisfaction de ses pèchés. L'homme ne 'peut rien donner à Dieu que égale le sacrifice de sa vie. – Je vous donne, mon Dieu, paramour, la vie, que la mort m‘arrachera de force. Je donne à la charité ce que je ne puis refuser a la nécessity».[280]280
(Крассе. Размышления). «1-й пункт. Нет наказания тему, кто видит величайшую заслугу в том, чтоб принять смерть в возмещенье своих грехов. Человек не может отдать богу большей жертвы, чем его жизнь. – Я тебе отдаю, господи, из любви – жизнь, которую смерть вырвала бы у меня силой. Я отдаю милосердию то, в чем я не мог бы отказать необходимости».
[Закрыть]. Все в глубоком молчании на коленях обязаны размышлять четверть часа об этом пункте; потом лишь только часы пробьют четверть, опять читают 2-й пункт, все опять размышляют и тем кончается медитация. После этого следует обедня и очень легкий завтрак, состоящий из чашки кофе с хлебом и маслом (une tartine), а затем ряд духовных упражнений и ручной работы. Ручная работа состояла в том, чтобы копать что-нибудь в саду, выметать сор и мыть пол в коридорах, мыть посуду на кухне и шелушить разные овощи, помогая повару, прислуживать за столом и пр. Тут все состояния были уравнены, и богач и бедняк одинаково работали. В 12 часу был обед, в продолжение коего чтец на кафедре читал сначала главу из св. писания, а потом историю церкви. После обеда был целый час роздыха (récréation): новиции с своим Maître de Novices гуляли по саду и забавлялись благочестивыми, а иногда и очень смешными рассказами из жития святых. После этого тот же ряд духовных упражнений и ручных работ (travail manuel) до 7-го часу: тут опять вечерняя медитация (méditation du soir), ужин и роздых (récréation) в том же порядке; в 8-м часу вечерняя молитва и все, поцеловавши руку настоятеля и получив его, благословение, отправлялись в свои кельи. В половине 10-го один удар колокола возвещал ночной покой: каждый спешил потушить свечу и броситься на постель, – с большим удовольствием после утомительного однообразия этой правильной жизни. Кроме двух часов роздыха (récréation) после обеда и ужина, в новициате господствовало ненарушимое молчание: никто не смел говорить ни слова: случайно встречаясь в коридорах, новиции только учтиво раскланивались, не раскрывая рта. Признаюсь, после нескольких лет бродяжной жизни и всякого рода политической и литературной болтовни, это молчание было для меня истинным наслаждением. Я понял то, что прежде для меня было непостижимым – т. е. как Пифагор заставлял своих учеников хранить молчание в продолжение пяти лет. Латинские народы сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что они слишком много болтают: во многоглаголании несть спасения.
Вот как прошел целый год искуса в новициате до сентября 1841. Я уже приготовлялся в глубоком уединении к произнесению трех обетов – voeux de pauvreté, chasteté, et obeissance[281]281
Обет бедности, целомудрия и повиновения.
[Закрыть] как вдруг Maître des Novices входит в мою келью с несколько расстроенным видом: «Один из ваших старых знакомых – какой-то M-r Lecointe – желает вас видеть; но он ужаснейший человек, с огромнейшею бородою: хотите вы его принять?» – «Почему же нет?» отвечал я: «я могу с ним немножко поговорить.» – Я отправился в приемную. Невозможно вообразить себе большего контраста: Лекуант сделался отчаянным республиканцем и отпустил себе бороду до пояса, а я уже был в монашеской рясе с четками за поясом, обритый наголо и остриженный под гребенку. Я встретил его с сдержанною и холодною вежливостью, как будто никогда не был с ним коротко знаком. Наш разговор превратился в какую-то контроверзу, к которой после примешался и Maître des Novices. Лекуант уехал и возвратясь в Льеж говорил всем знакомым: «Нет! уж непременно редемптористы напоили Печерина каким-то зельем: нельзя же человеку так вдруг перемениться!» А это зелье было ничто иное, как русская переимчивость, податливость, уменье приноровиться ко всем возможным обстоятельствам… Если бы какая-нибудь буря занесла мой челн на берег Цейлона и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов, – я бы также ревностно исполнял все их правила и постановления (règies de constitution), потому что выше всех философий и религий у меня стоит священное чувство долга, т. е. что человек должен свято исполнять обязанности, налагаемые на него тем обществом, в коем судьба привела ему жить: где бы то ни было, в Китае, Японии, Индостане, все равно!
В 1861 я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневою кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: «Ведь он, кажется, рожден для этой жизни! Как он легко ко всему приноровился!» Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости и пока я не услышал случайно от одной русской дамы о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: «Как же мне живому зарыться в этой могиле и в этакую важную эпоху ничего не слышать о том, что делается в России?» Итак, 19-ое февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня эманципировало! Не пора ли тут остановиться? Те souvien-tu?.. mais ici je m’arrête. Ici finit tout noble souvenir![282]282
Помнишь ли ты?.. Но здесь я останавливаюсь. Здесь кончается всякое благородное воспоминание.
[Закрыть]








