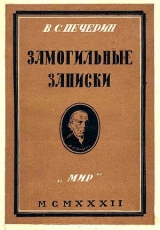
Текст книги "Замогильные записки"
Автор книги: Владимир Печерин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Льеж
(1838–1840)
Я пробыл всего два года в Льеже, но в этих двух годах стеснились целые столетия мысли. Я пришел в Льеж с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье и пр. Я рожден быть бродягою. Для того, чтобы мыслить, мне непременно надо быть в движении. Я уверен, что мысль и есть яе что иное, как электричество или жар или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение (смотри Тиндаля). Я в полном смысле был перипатетическим т. е. прогуливающимся философом.
Мои занятия у капитана не продолжались долее 2-го или много 3-го часа п. п., а после этого я был вольный казак – иди куда хочешь. Вот я так и бродил в долгий день, куда глаза глядят: вдоль прекрасной набережной, quai de la Sauveieze или за городом между работами новой железной дороги, по лугам и пашням, по горам и по долинам, по рощам и лесам. Я бродил, бродил, а между тем мысль работала, работала: я устраивал в голове своей общину (commune), фаланстер. – «Какое это блаженство!» – думал я: «тогда можно будет странствовать по целому свету: куда ни придешь, везде свои, везде готов и стол и дом, везде идут на встречу наши братья и – милые женщины»… – Да! конечно, ведь communauté de femmes[219]219
Общность жен.
[Закрыть] входило в учение Бернацкого.
Но эти розовые мечты как-то мало-по-малу стирались. Одинокому бедняку почти в рубищах как-то не клеится думать о женщинах. Женщины премилые существа, но мысль о них как-то невольно сливается с понятием о роскоши: им нужны свежие цветы, шелка да бархаты, алмазы да жемчуга, а любовь в хижине есть не что иное, как запоздалая мечта прошлого столетия. Да и вообще женщины не очень жалуют мечтателей-поэтов: они предпочитают им практических положительных людей с большим физическим капиталом, а нашему брату-философу придется услышать то же, что Венецианка сказала Жан-Жаку Руссо: Zanetto, lascia le donne е studia la matematica[220]220
Оставь в покое женщин и изучай математику. (Из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо).
[Закрыть]. Итак женщины сошли со сцены – и в воображении моем осталась одна – мужская казарма, – а эта уже как видите, очень близко подходит к монашеской обители.
Мне кажется, что все обители, начиная с Пифагора до наших времен, были основаны добродушными, но ленивыми философами, которым не хотелось барахтаться в общественной грязи для преобразования человечества; они выбрали то, что было гораздо легче: собравши кучку единомышленных людей, аристократически брезгая светом, они удалялись в какой-нибудь загородный дом или подальше в пустыню, чтобы там жить во взаимном согласии и любви, подчиняясь ими же самими добровольно избранным законам и начальникам. Это так называемый идеал христианской республики: но это вовсе не доказывает и ни мало не разрешает задачи общественного устройства.
Вот с этими-то идеями я, будучи в Цюрихе, предложил было нескольким русским ехать в Америку и там основать образцовую русскую общину и издавать при ней русский журнал. Для этого предприятия у нас кое-чего не доставало, а именно: сметливости, предприимчивости и капитала! Excusez du peu! [221]221
Остановка за малым.
[Закрыть] Вот так-то я бродил и мечтал в долгие летние дни; ну а как же быть зимою? По приобретенным мною французским и итальянским привычкам, я обыкновенно проводил вечера в театре или кофейне, т. е. пока были деньги в кармане; а теперь без копейки куда мне деться?
В Льеже много церквей и почти во всякой из них была вечерняя служба, так называемая salut, иногда с очень хорошею музыкою. Опершись у какого-нибудь столба, я стоял и смотрел на ярко озаренный алтарь, на дым фимиама, восходящий к высокому готическому своду, с артистическим наслаждением слушал музыку и пение и – думал о своем. Я так повадился ходить в церкви, что иногда, за недостатком музыки, я довольствовался однообразным распевом каноников, читавших псалтырь: это ни мало не отвлекало моего внимания от моих размышлений: оно было как-будто басовой аккомпанемент внутренней музыки души моей.
Прихожу однажды к Фурдрену, а тут у него и Лекуант.
– «Слыхали вы новость?»
– «Как? что такое?»
– «L'abbé Manvuisse rédémptoriste va donner des conférences philosophiques dans Ies cloîtres de st. Paul!»[222]222
Аббат Манвис, редемпторисг, будет читать доклады по философии, в монастыре св. Павла.
[Закрыть]
Ну что ж! хорошо! пойдем послушаем его: посмотрим, какая это философия.
А после оказалось, что это была чисто иезуитская уловка для того, чтобы заманить молодежь: эти conférences philosophiques[223]223
Философские доклады.
[Закрыть] были просто католические проповеди.
Что нового? спрашивали афиняне каждый день на площади: вот так и я беспрестанно жаждал нового учения, новой системы, новой веры. В каком-то глухом переулке в Льеже открылась новая церковь какой-то новой религии: мы с Лекуантом отправились отведать этой свежей истины. У полураскрытой двери небольшого домика встретил нас какой-то полуодетый, худощавый, бледный, необыкновенно благочестивый муж; он посмотрел на нас каким-то недоверчивым взглядом, и сначала как будто не хотел нас впустить.
– «Да вы пришли ли с добрым намерением?» сказал он. «Вы истинно ли ищете Христа?»
– «Ну да, разумеется, мы ищем его: сделайте милость, впустите!»
В небольшой комнате перед какою-нибудь дюжиною слушателей на какой-то маленькой кафедре сидел степенного вида господин в белом галстуке с книгою в руках. Он переводил Новый Завет с греческого на французский, прибавляя кое-какие свои замечания: все это было очень холодно и сухо. «Ну уж! подумал я – коли нужна религия, то подавай мне ее со всеми очарованиями искусства, с музыкою, живописью, красноречием, а от этого профессора меня мороз по коже подирает».
В Haute Rue в Льеже стояла старая кармелитская церковь, со времен Наполеона превращенная в сенной магазин. Я часто мимо нее проходил. Однажды гляжу – что за чудо! все сено вынесено – церковь выметена и очищена – куча народу работает: столяр, штукатурщики, маляры, а вот и афишка прибита на стене: 2-го августа 1840 отцы редемптористы будут праздновать в их новой церкви причисление к лику святых (canonisation) основателя их ордена, св. Альфонса де-Лигвори[224]224
Де-Лигвори Альфонс (1696–1787) – итальянский священник из аристократической фамилии, основатель ордена редемптористов (орден основан им в 1732 г.), поставившего своей задачей пропаганду католицизма среди низших слоев населения; в 1839 г. папа Григорий XVI объявил Л. святым, а в 1871 г. Пий IX провозгласил его учителем церкви, в чем, в виду совершенно незначительных отличий учения Л. от учения иезуитов, последние видели признание своих догматов морали и религии.
[Закрыть]. В продолжение 9-ти дней будет в этой церкви служба по утрам и вечерам с проповедью и с полным оркестром музыки.
2-го августа 1840 в 8-м часу утра я уселся на скамье под самою кафедрою. Церковь была усыпана и раздушена благоуханными цветами. Все лоснилось и блистало – все было ново как с иголочки. Вдруг мерными полновесными стопами восходит на кафедру знаменитый Père Bernard, дюжий краснощекий мужчина лет 35-ти – герой моей легенды[225]225
См. выше: «Легенда о монахе и бесе».
[Закрыть], но тогда он не был еще так толст. Все глаза устремились на него.
«Возлюбленные братья! Я должен вам рассказать жизнь и подвиги величайшего безумца, т. е. св. Альфонса де-Лигвори. Не удивляйтесь этому выражению: в глазах света величайшим безумием считается – отречься от знатного рода и богатства и посвятить себя на службу божию Вот это именно сделал наш св. Альфонс: сын благородной неаполитанской фамилии, занимавшей блистательное место в обществе, он отрекся от всех земных выгод и с рыцарским самоотвержением, повесивши свою дворянскую шпагу у статуи пресвятой девы, перешел в духовное звание».
Разумеется, все рыцарски-безумное должно было мне нравиться. Итак в продолжение 9-ти дней я каждый день был в церкви по утру и ввечеру и слушал все проповеди. Главная роль в этом празднестве предоставлена была отцу Манвису (Manvuisse): он был премилый, утонченно вежливый, красноречиво-увлекательный француз. Он меня окончательно победил. После этого девятидневия (Neuvaine) я сел и написал письмо к отцу Манвису: «Я прошел через все возможные философские системы: я был гегелианцем, пифагорийцем, фурьеристом, коммунистом и пр.; но после ваших проповедей я убедился в истине католической веры и прошу вас поучить меня и наставить на путь правый!» Я заключил какою-то фразою, целиком взятою из Иосифа де-Местра; последнее слово было: Altaria tua, domine virtutum!!![226]226
Алтарь твой, господь добродетели!
[Закрыть] (три восклицания тоже из де-Местра). Окончив и запечатав письмо, я отправился к монастырю редемптористов.
Я постучался железным кольцом у зеленой двери: мне отворил – кто вы думаете? – опять тот же герой моей легенды! он поклонился очень учтиво, но с каким-то застенчиво-недоверчивым видом. Моя борода ничего доброго не предвещала:
– «Позвольте мне вас просить передать это письмо отцу Манвису».
– «Его теперь нет дома: он возвратится через 10 дней; я с величайшим удовольствием доставлю ему ваше письмо».
– «Покорно вас благодарю».
Дверь затворили – я перешел за Рубикон. Мне непременно надо сделать здесь важную оговорку. До тех пор я ни с каким католическим священником никаких сношений не имел; напротив католики чуждались меня и смотрели на меня с ужасом и омерзением, как на друга фармазонов, мытарей и грешников. Мальчишки семинаристы хихикали надо мною? когда во время архиерейской службы я стоял опершись о какую-нибудь колонну и с философским равнодушием смотрел на все эти церемонии. К этой эпохе принадлежит и следующий анекдот. Иду я однажды по улице, попадается мне навстречу человек средних лет с младенцем на руках: малютка загляделся на меня как на какое диво и протянул ко мне обе ручонки. Отец с досадою ударил ребенка и сказал вслух: «Ne le regarde pas, mon enfant! c‘est un fou!!!»[227]227
Не смотри на него! это – сумасшедший.
[Закрыть] Вероятно, это был какой-нибудь добрый bourgeois conservateur[228]228
Буржуа-консерватор.
[Закрыть], вероятно, враг всякого реализма, подобно графу Толстому[229]229
Граф Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – с 1866 по 1880 г. – министр народного просвещения, затем министр внутренних дел и шеф жандармов; ярый и последовательный реакционер, Толстой видел одно из средств борьбы с революционным движением в отуплении учащейся молодежи путем усиленного преподавания в гимназиях мертвых (латинского и греческого) языков и ослаблении преподавания предметов, связанных с потребностями реальной жизни (математики, естественных наук и т. д.); в этом духе он и провел в 1871 г. реформу среднего образования, вызвавшую общее недовольство среди либерально-буржуазных элементов русского общества. Печерин, сам классик и профессор греческой словесности, в своих частных письмах резко и решительно высказывался против политики Толстого.
[Закрыть].
Блаженни алчущие и жаждущие правды…
Если в этом состоит блаженство, то оно досталось мне в удел. Всю мою жизнь я одного искал, одного жаждал – истины и правосудия. И этого именно мне нигде не удалось.
Меня призвали было в Рим (в 1859 г.) с большими надеждами и ожиданиями: хотели похвастаться мною перед папою и кардиналами, а вышло совсем напротив. Нашли, что я составлен не из такого мягкого материала, как они воображали, а потому поспешили отправить меня назад в Англию, а в наказание за строптивость даже не представили меня папе; следовательно, я ни разу в моей жизни не целовал ни папской туфли, ни чего-либо другого. «Cela nuira sérieusementà votre canonisation»[231]231
Это сильно затруднит вашу канонизацию.
[Закрыть], сказал мне генерал ордена редемптористов. Каково? мне заживо сулили канонизацию, т. е. причисление к лику святых, если б я был немножко погибче. Ха-ха-ха, ха-ха! Risum tentatis, amici[232]232
Удержите смех, друзья!
[Закрыть].
Эти таинственные сношения с невидимым миром не что иное, как пошлая игра самого мелкого честолюбия, точь-в-точь как русское чинопроизводство. «Вот видите ли, батюшка, вот что значит упрямство! Если бы вы были немножко поуступчивее, то вас бы сделали статским советником и дали бы Анну на шею, да и была бы прибавка жалованья. Ласковое телятко двух маток сосет!»
Из шпионствующей России попасть в римский монастырь – это просто из огня в полымя. Последние слова генерала ко мне были: «Vous êtes un homme franc!»[233]233
Вы – откровенный человек!
[Закрыть] Бьюсь об заклад, что ты примешь это за комплимент: как же? сказать кому-нибудь в лицо: «Вы прямодушный и откровенный человек! – мне кажется, это большая похвала. Ничего не бывало! в устах генерала это было самое жесткое порицание: «Вы человек ни к чему непригодный, вы вовсе не способны к монашеской жизни: тут требуется не откровенность и прямодушие, а скрытность и лицемерие, тут надо лукавить и хитрить для того, чтобы задобрить начальство да зашибить копейку для общего блага обители!..» Moriamur in simplicitate nostra![234]234
Умрем в нашей простоте (ничтожестве).
[Закрыть] сказал я самому себе.
Я выехал из Рима в Вербное воскресенье, т.е. в то самое время, когда другие нарочно приезжают в Рим для того, чтобы присутствовать при священных обрядах страстной недели. Я умолял генерала отпустить меня поскорее, не теряя ни минуты времени: «Я задыхаюсь в этой атмосфере; мне становится дурно; уверяю вас, что все это пройдет и мне сделается лучше, лишь только я выйду из римских стен». На меня нашла какая-то хандра: как будто домовой меня душил. Иногда я просыпался ночью в своей келье и думал про себя: «Ну что как они меня отравят или задушат? Ведь эти люди на все готовы!» Разумеется этому не было ни малейшего основания – это был лихорадочный бред; но все ж таки я уверен, что подобные мысли никогда бы мне не пришли в голову под кровлею какого-нибудь честного протестанта. Вот слова, записанные, в келье монастыря редемптористов Villa Gaserta presso S. Maria Maggiore[235]235
Вилла Казерта у церкви св. Марии в Риме.
[Закрыть], они сохранили свою свежесть, запах и колорит местности:
Rome 22 fevrier.
«Mes larmes ne cessent de couler. О Rome! que je te déteste! Je répete les paroles de st. Alphonse:» «Les temps après lequel je pouvfai m’échapper de Rome me semble durer mille ans! combien il me tarde d’être delivré de toutes ces cérémonies!» О Rome! j’aime mieux les pauvres cabanes de nos irlandais que tous tes palais somptueux. – О Rome! je te hais: tu es Ie repaire de Pambition et des viles intrigues. C’est ici qu'on oublie le soin des âmes et qu’on ne pense qu'a augmenter sa réputation et son crédit; on ne vit que pour sa même – faciamus nobis nomen! on use ses souliers dans les antichambres des cardinaux[236]236
Рим 22 февраля. «Слезы мои не перестают течь. О, Рим! – Как я тебя ненавижу! Я повторяю слова св. Альфонса: «Время, пока я смог покинуть Рим, показалось мне тысячелетием: как долго тянулось освобождение от всех этих церемоний!» О, Рим, мне милее убогие лачуги наших ирландцев, чем все твои пышные дворцы. – О, Рим! Я тебя ненавижу: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь забывают заботу о душе и думают только о должностях и повышении доходов, живут только для себя – «создадим себе имя!» – протирают подошвы в кардинальских прихожих.
[Закрыть]
Даже выехавши из Рима, даже в Чивитавеккиа я все еще трепетал – думал, что вот что-нибудь случится и меня назад воротят; ну что как я потеряю деньги? с чем тогда сесть на пароход? или, положим, украдут у меня шинель (что очень часто случается в Риме), а теперь ведь еще довольно холодно… Наконец я на пароходе – пароход зашипел, отчалил от берега и поплыл по синю морю, посылая струю черного дыма к берегам Италии… Славу богу! Я в первый раз свободно вздохнул. Laqueus contritus est et nos liberati sumus![237]237
Петля снята и мы свободны!
[Закрыть] Сеть порвалась и птичка вспорхнула на волю. Но и тут я еще не совсем отделался от Рима: со мною на пароходе ехал отставной член французской полиции, проживавший несколько времени в монастыре у редемптористов. Бог или чорт знает по каким причинам – вероятно по каким-нибудь делам духовно-политического шпионства.
С неописанным упоительным наслаждением увидел я снова белые скалы Англии и зеленые кентские луга. Вот страна разума и свободы! Страна, где есть истина в науке и в жизни и правосудие в судах; где все действуют открыто и прямодушно и где человеку можно жить по-человечески[238]238
А между тем на политическом небосклоне собирались черные тучи – кое-где сверкали зловещие молнии, слышались отдаленные раскаты грома и подымалась буря войны 1859, подготовившей окончательное падение папской власти (примечание В. С. Печерина).
[Закрыть]. Для чего я написал это вступление или отступление? Ей богу не знаю! Бог весть, так пришло в голову. Скажу с Пилатом: Еже писах – писах.
Льеж (1840)
Итак мы остановились у зеленой двери с медным или железным кольцом монастыря редемптористов в Haute Rue в Льеже. Мой гренадер, взявшись доставить мое письмо к отцу Манвису и учтиво раскланявшись, затворил дверь, и я остался один на улице. Тут меня поразила мысль, что я сделал решительный шаг, впервые вошедши в сношения с католическим священником. Определенно ясного ничего не было у меня в голове, переход в католическую церковь мелькал в каком-то отдаленном тумане… «Il me faut des émotions»[239]239
Мне нужны сильные ощущения.
[Закрыть] сказал я Фурдрену, оправдывая перед ним мой поступок. Действительно, я искал новых ощущений, новых приключений, мне надоела однообразная жизнь, да к тому же таинственный 1840-й год непременно требовал решительного перелома в моей судьбе.
Через 10 дней я пошел проведать, воротился ли отец Манвис. Меня ввели в приемную. Отец Манвис выбежал мне навстречу с распростертыми объятиями, с открытым лицом, с милою улыбкою. Лихой француз да и только! Он посадил меня, обласкал меня, осыпал меня любезностями, так что я души в, себе не слышал. Я для формы предложил ему несколько возражений, которые он тотчас же очень легко разрешил. Вообще я не верю, чтобы кто-либо мог быть убежден речами, доводами: нет! каждый из нас бывает убежден или побежден своим собственным умом и сердцем, а внешние влияния не что иное, как предлог, за который мы хватаемся, чтобы осуществить давнишнее стремление – или предчувствие нашей души. Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя, безусловно-женственно предать себя другому, пожертвовать разумом и волею высшему закону, и оставить по себе памятник «любви, себя забывшей и до конца не изменившей» (Жуковский)» Когда отец Манвис, взявши меня за руку, сказал мне: Mon enfant[240]240
Мой сын.
[Закрыть] – эти слова потрясли мое сердце до самых глубочайших основ его и слезы выступили на глаза… Когда я передал это ощущение Фурдрену, он тоже был тронут и сказал: «Ах как бы бы я хотел поговорить с отцом Манвисом! – mais que dirontles notres!?»[241]241
Но что скажут наши!
[Закрыть] – и эти слова не его только остановили.
Много ли мало ли, долго ли коротко ли, после нескольких свиданий я вошел в самые тесные сношения с отцом Манвисом и обнажил перед ним всю свою совесть. Тут оказались некоторые странные и даже забавные черты. По моей русской совести я считал величайшим своим прегрешением неисполнение моих обязанностей к правительству. «Помилуйте! сказал о. Манвис, ведь это только в отношении к правительству, это ничего не значит, тут нет никакого греха.» – Это почти то же, что тебе сказал о. Отман в Сен-Троне (St. Trond) и за что ты на него так рассердился: «Un pacte fait avec Dieu détruit toutes les autres obligations» т. е. «договор, заключенный с богом, уничтожает все прежние обязательства». Это было 30 лет назад, а теперь сделалось гораздо хуже: теперь католики все и каждый считают себя в праве не повиноваться властям и законам, если они хоть сколько-нибудь идут наперекор непогрешимому папе.
Кстати я приведу здесь 1) аксиому и 2) исторический факт.
Аксиома. Катоцилизм, с его новейшими развитиями и притязаниями, несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства (см, современную историю).
Исторический факт. Католическая церковь теперь в открытом бунте против всех предержащих властей и всего современного государственнного строя (см. объявление войны в Силлабусе[242]242
Силлабус – изданный римским папой в 1864 г. перечень осуждаемых католической церковью «заблуждений»; по правильному выражению Печерина этот перечень представлял объявление войны со стороны католической церкви всем завоеваниям человеческой культуры; он провозгласил, между прочим, господство церковных законов над законами светских государств.
[Закрыть]). Какое из этих двух посылок надо вывести, заключение – это я предоставляю на размышление государственным людям.
В разговоре с о. Манвисом мне как-то пришлось сказать, что у моего отца было маленькое поместье (50 или 60 душ) – Рязанской губернии Егорьевского уезда сельцо Напольное, Позняки тож. Духовный отец мой так и вспыхнул: «Ах! боже мой! поместье! да где же оно? да какое оно? а большие с него доходы?» – Если бы я не был по уши влюблен, я бы наверное заметил эту черту и она бы мне напомнила – поповские глаза.
Я купил себе молитвенник la journée du chrétien[243]243
День христианина.
[Закрыть], и начал молиться. Молитва есть излияние беспредельной любви в беспредельный эфир. Вот поэтому-то старые девы вообще так набожны, им не удалось найти земного предмета, и так они вечно испаряются в голубую даль любовью к незримой, неосязаемой, вечно юной красоте. Католическое благочестие часто дышит буйным пламенем земной страсти. Молодая дева млеет от любви перед изображением пламенеющего, терниями обвитого, копьем пронзенного сердца Иисуса. «О любовь распятия! любовь, кровью истекающая! любовь, из любви умирающая!» – Св. Терезия[244]244
Испанская монахиня XVI в., объявленная святой; ее писания характернейший образчик связи религиозных и эротических мотивов.
[Закрыть], в светлом видении, видит прелестного мальчика с крыльями: он золотою стрелою с огненным острием пронзает ей сердце насквозь, и она, изнывая в неописанно-сладостном мучении, восклицает: «О padecer, о morir![245]245
О padecer, о morir (исп.) – или страдать или умереть.
[Закрыть] Одно из двух: или страдать или умереть! Без страданья жить не хочу! Умираю любя!» Вот женщина в полном смысле слова! Итак, столетия прошли напрасно, сердце человеческое не изменилось; оно волнуемо теми же страстями и тех же богов зовет себе на помощь, и древний языческий купидон, в том же костюме и с теми же стрелами является в келье кармелитской монашенки 16-го столетия.
Камердинер, друг капитана, как-то случайно зашел ко мне и с изумлением увидел на столе молитвенник: я сгорел от стыда и солгал, сказавши ему, что я этот молитвенник купил не для себя, а для одной молодой девушки – по французскому правилу: c‘est bon pour les femmes![246]246
Это хорошо для женщин.
[Закрыть] Это была последняя жертва, принесенная людскому страху (respect humain). Перед Фурдреном и Лекуантом я хвалился своим молитвенником и уверял их, что в нем бездна поэзии. «Конечно так», сказал Лекуант: «но мне кажется, что человеку очень можно обойтись без этой поэзии!» – «C‘est selon»[247]247
Это зависит.
[Закрыть] отвечал я, не зная, что сказать.
Сколько у меня было бесед или совещаний с отцом Манвисом – ей богу не помню, – кажется очень не много: нам не о чем было спорить, я на все был готов. Для утверждения меня в моих верованиях он дал мне прочесть Les conferences du Cardinal de Luzerne[248]248
Проповеди кардинала Люцерна, французского епископа (1738–1821), изгнанного революцией, вернувшегося с реставрацией, сторонника автономии французской церкви (галликане).
[Закрыть], который впрочем был не ультрамонтан, а умеренный галликан времен реставрации. Это была обыкновенная французская фразеология, нарочно к тому приноровленная, чтобы ускользнуть от истины под прикрытием напыщенных фраз.
Нам оставалось решить два вопроса: 1-й о моем вступлении в католическую церковь, 2-й о перемене образа жизни. Признаюсь, сначала мне ужасно противно было сделать публичный шаг. – «Зачем же выставлять перед толпою эти тайные сокровища души?» – «Единственные сокровища души суть дары божьей благодати», отвечал отец Манвис: «а их-то и следует показать миру для вящшей любви божией и для назидания ближнего». На это нечего было отвечать. Назначен был день. Церковь была разукрашена и раздушена цветами. Много ли мало ли там было народу – вовсе не помню: я ничего не видел. Вероятно там были все поклонники редемптористов. Коленопреклоненный перед алтарем на каком-то prie-dieu с красною подушкою, в изношенном синем фраке, с бородою и длинными волосами я прочел какой-то символ веры. Отец Манвис сидя тут же у алтаря сказал мне коротенькую речь (allocution), где он сравнивал меня с св. Августином. Св. Августин тоже был профессором риторики: он много слез стоил своей матери; она уже считала его погибшим; но благое провидение привело его в город Медиолан, где проповеди св. Амвросия обратили его в истинную веру. Очевидно, что проповедник ставил себя наравне с св. Амвросием.
По окончании церемонии меня пригласили в приемную завтракать с отцем Манвисом. Мы стали разговаривать о Жорж-Занде. Он уверял меня, что по последним известиям из Парижа «qu’elle va se convertir»[249]249
Что она скоро обратится (в католичество).
[Закрыть]. (Нет, батюшка, погоди немножко: подобные люди не легко обращаются; это добро нам, простачкам). Все это происходило очень рано по-утру: я воротился домой как будто ни в чем не бывало и стал по обыкновению варить себе кофе на спиртовой лампе; но сквозь открытое окно слышу, что моя хозяйка старушка m-me Joarisse разговаривает с сыном или кем-то другим: «Вишь какая новость! а мы доселе не знали, что он не католик; слава богу!» На другой день прихожу к Фурдрену и. Лекуанту – моя тайна уже всем известна. Редемптористы поспешили напечатать подробное описание церемонии в католическом органе: Journal de Kersten с разными прибаутками и прикрасами, так что из меня сделали очень важное лицо. Это ужасно было досадно франмасонам, потому что они имели обо мне очень высокое понятие, но дружба моя с Фурдреном и Лекуантом нимало от этого не потерпела.
Оставалось теперь разрешить второй вопрос – о перемене образа жизни. У меня было страстное желание удалиться от света. Отец Манвис при этом держался совершенно беспристрастно и нимало не хвалил своего прихода.
– «Вы любите заниматься науками: вот вам ученый орден – Иезуиты. Хотите я вам дам письмо к их провинциалу?»[250]250
Провинциалы – так назывались областные руководители католических орденов.
[Закрыть]
– «Нет! нет!» отвечал я.
Даже самое имя иезуитов было мне противно, да притом пришла в голову мысль: что как в России узнают, что я сделался иезуитом, ведь это будет просто срам и позор!
– «У вас было сильное влечение к совершенному уединению и молчанию, и вот недалеко от Нанси – откуда я родом – находится прелестная, самая романтическая Шартреза (Картезианский монастырь). А вот и письмо от вашего старого знакомого аббата Бюро из Меца. Он приглашает вас к себе и обещает устроить вашу судьбу наилучшим образом (je lui ferai un sort).
– «Потрудитесь поблагодарить аббата Бюро за его доброе ко мне расположение, но mon parti est pris: я невозвратно решился удалиться в уединение – только не могу решиться, куда итти; дайте мне время подумать; я письменно изложу вам мои желания».
Через несколько дней я пришел к нему с следующей коротенькой заметкою: «я желал бы жить в совершенном уединении, но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом».
Это было почти целиком взято из Спиридиона Жорж Занда.
– «Все это вы найдете у нас, – сказал отец Манвис: мы очень редко выходим, да и то только по делам христианской любви».
– «Очень хорошо!» отвечал я; «итак, отец мой, я это дело совершенно предоставляю вашему благоусмотрению».
– «Прекрасно! вот это поступок истинно христианского повиновения, т. е. предоставлять все на суд вашего духовного отца!»
– «При этом позвольте мне вам заметить, что я вовсе не имею притязания быть священником – je n’aspire pas a cet honneur. Я хочу остаться смиренным братом».
– «Ну да уж это мы увидим после! Однажды в монастыре, вы будете делать все, что вам прикажут. Покамест мы не можем ничего сделать касательно принятия вас в монастырь до приезда нашего викария (vicaire général) из Вены – мы его с часу на час ожидаем, а между тем, если угодно, я вас представлю здешнему настоятелю».
Вошел человек средних лет высокого роста с важною и холодною наружностью и с огромным носом: это был австриец отец де-Гельд (de Held). У него вовсе не было развязности и приветливости отца Манвиса, но зато были более солидные качества: прямодушие и чувство правосудия, столь редкие у монахов. Он был несколько лет моим начальником в Лондоне и всегда обходился со мною истинно по-отечески. Когда брат Федор Печерин пришел проститься со мною, то он, положив мне руку на плечо, сказал ему: «Depuis que je le connais, il ne m’a jamais donne un moment de deplaisir»[251]251
С тех пор, что я его знаю, он ни на момент не доставил мне неудовольствия.
[Закрыть]. Наконец его вытеснили из Лондона подлыми и коварными происками другого преподобного отца, которому хотелось сесть на его место – в чем участвовал и теперешний архиепископ Михельнский – ci-devant rédemptoriste[252]252
Бывший редемпторист.
[Закрыть]. Мне со временем придется описать эту интригу, в которой и женщины играли важную роль. Что тут ваши дипломаты! Ведь дипломаты – люди светские, женатые, у них есть семейные связи, есть человеческие чувства и страсти; а у монаха сердце черствое, заплесневшее, заржавленное. У него одна мысль: святая церковь и обитель; единственные движения его сердца – если оно когда-либо движется – подобострастие к начальству, мелкое честолюбие и беспредельное, неизмеримое, как океан, любостяжание!
Отец де-Гельд расспрашивал меня о том, какие книги убедили меня в истине католической веры. Мы потолковали о философских системах Германии и особенно о новом католицизме Баадера[253]253
Баадер (1765–1841) – реакционный немецкий философ-мистик, выразитель идейной реакции против материалистической философии XVIII века, ярый защитник догматов католицизма, как опоры против революционного движения. Заглавие его сочинения «О вызванной, благодаря французской революции, необходимости нового и более тесного союза между религией и политикой», – показывает, какое политическое значение придавал Баадер своей религиозной философии.
[Закрыть]. Все это было с его стороны очень холодно и сдержанно. Он учтиво раскланялся и ушел. Один из монахов – отец Берсе с большим любопытством расспрашивал обо мне у отца Манвиса: «Он должно быть очень азартный человек» (вероятно судя по бороде). – «Помилуйте! отвечал отец Манвис: il est la douceur même»[254]254
Он – сама мягкость!
[Закрыть]








