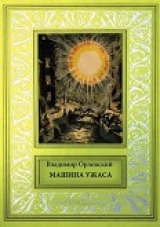
Текст книги "Машина ужаса (Фантастические произведения)"
Автор книги: Владимир Орловский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава XVIII
Мы спешим на помощь
Через три дня Сергей Павлович вернулся.
Вопрос был решен, и ему было предоставлено все, чем располагали в центре, чтобы облегчить и ускорить работу. Это и неудивительно. Он сумел нарисовать в Москве картину грядущего бедствия и все вытекающие отсюда возможности. Помимо человеколюбия, простой инстинкт самосохранения требовал использования оказавшегося в руках оружия. В конечном счете это была самооборона. В тот же день мы отправили через нашего представителя в Вашингтон шифрованную телеграмму с известием о готовящейся экспедиции и необходимых для ее работы приготовлениях, если правительство Соединенных Штатов согласно принять помощь. Исходным пунктом предлагался Гальвестон, как самый отдаленный от Памлико– Саунда порт на восточном побережье, в расчете на то, что до этой точки влияние установок Джозефа Эликотта распространяться не могло, а работать надо было вне пределов его досягаемости. Во всяком случае, вся работа должна была производиться в полнейшей тайне.
В тот же день был получен ответ, в котором сообщалось, что правительство Вашингтона с благодарностью принимает предлагаемую помощь и просит немедленно указать те предварительные работы, которые должны были быть произведены до прибытия экспедиции. В качестве базы технической подготовки предлагался университет в Сан-Франциско (вернее, в Беркелее) с его богатыми лабораториями, которые можно было использовать для необходимых работ.
Еще до отъезда Сергея Павловича из Москвы в ответ на это были подробно перечислены те подготовительные меры, которые необходимо выполнить до нашего прибытия в смысле заготовки и подвоза некоторых материалов и надлежащего оборудования для химических работ, а также выбора и подготовки личного состава небольшого отряда, его экипировки и вооружения. Что касается людей, то Сергей Павлович решил ограничиться тремя сотнями, при чем было поставлено условием, чтобы был произведен тщательный выбор относительно состояния здоровья, особенно сердца и нервной системы. Затем просили заготовить полторы тысячи костюмов, предназначенных для защиты от горчичного газа; их предполагалось пропитать составом психического изолятора и таким образом оградить участников экспедиции от действия машин противника.
Что касается, наконец, оружия, то требовалось спешно выбрать из арсеналов, старых складов, музеев – годные еще к употреблению пушки и ружья, стреляющие старым дымным порохом, – с соответствующими снарядами и патронами к ним. Вместе с тем, требовалось немедленно приступить к переделке аэропланных бомб, заменив в них заряды также черным селитряным порохом.
Два следующих дня после возвращения Морева прошли у нас в лихорадочных приготовлениях.
Сергей Павлович, по своему обыкновению, раз решив что– либо твердо, уже не выражал никаких сожалений и колебаний, и работал упорно, систематически, как заведенный механизм, сосредоточив на поставленной цели все внимание.
Юрий был вне себя. Все сборы, вся работа казались ему бесконечно медленными и излишними. Он мучился угрызениями совести за то, что бежал с Памлико-Саунда, оставив мисс Margaret, торопил Сергея Павловича и получал от него неизменно один и тот же ответ:
– Выше головы не прыгнешь.
Метался он, как затравленный зверь и становился совершенно больным, приводя в отчаяние мать, и без того ужасавшуюся мысли о предстоящей экспедиции.
Я тоже был далеко не в радужном настроении. Мне предстояла задача – произвести безболезненно операцию дома, где, конечно, я должен был натолкнуться на отчаянное сопротивление.
После горячей борьбы со слезами, упреками, обмороками и всеми средствами женского арсенала, – я одержал победу, но далась она мне нелегко, и я чувствовал, что, если пробуду дома еще два – три дня, то не выдержу характера. Атмосфера в доме была такая, словно ежеминутно должна была взорваться бомба, начиненная экразитом, лиддитом, мелинитом и еще не знаю какой дрянью.
Все ходили на цыпочках; у жены был такой вид, словно у нее смертельно болели зубы; на себя я вообще избегал смотреть в зеркало.
Но всему в мире бывает конец. В начале третьего дня после отчаянного прощания, провожаемые слезами, напутствиями и молитвами моей жены и матери Юрия, мы погрузились на Коломяжском аэродроме в просторный пассажирский аэроплан, и вскоре город с его колокольнями, домами, шпицами, каналами и дымящимися трубами заводов стал проваливаться в пропасть.
Путешествие началось. Кроме нас троих, выехали еще два молодых ассистента Сергея Павловича, правительственный курьер, командир корабля, несколько механиков и радиотелеграфист, неизменно торчавший у своего аппарата, который неустанно постукивал, разворачивая перед нами ленту, рассказывавшую о жизни мира, мечущегося где-то там внизу под нами.
В день нашего отправления истекал срок, назначенный Эликоттом в его последней депеше, и мы с понятным любопытством, смешанным со страхом, ожидали известий об исполнении угроз. Теперь это касалось близко нас самих.
И к концу второго дня нашего путешествия телеграф принес нам эти ужасные вести. Поистине, человечество находилось под страшной угрозой.
В субботу, точно в час, указанный в радио, разразилась неслыханная катастрофа в местности, именуемой Эджевудским арсеналом. Здесь с давних пор были большие склады взрывчатых веществ, безопасные своим расположением в сравнительно пустынной местности километрах в 30 от Балтимора. За время мировой войны там был построен огромный завод, изготовлявший ядовитые газы для военных целей. Здесь же снаряды начинялись своим смертоносным содержимым и разрывными зарядами. Работа велась в широком масштабе, и арсенал представлял целый город, воздвигнутый во славу бога войны. Тысячи людей работали, не покладая рук, изощряя все силы ума, над изготовлением смертоносных орудий убийства, для истребления себе подобных наиболее верным и научным способом. Это была настоящая фабрика смерти.
На нее и направил свое оружие грозный противник. В начале первого часа взлетели на воздух сосредоточенные здесь; пороховые склады, снаряженные бомбы и взрывчатые вещества.
Ужас и смерть, заготовленные людьми для себе подобных, обрушились на их головы.
В самом арсенале, во всей местности на несколько километров в окружности не осталось камня на камне; описать все, что произошло там в этот кошмарный день, – было некому, так как живых свидетелей тому не осталось. То, что уцелело от колоссальных взрывов и пожара, охватившего городок, – погибло в удушливых облаках вырвавшихся на волю смертоносных газов. Огромная волна этих дьявольских изобретений человеческого ума, рожденных его изощренной способностью к комбинациям, неведомым природе, хлынула, освободившись от своих оболочек, залила тяжелыми переливами всю окрестность и поползла по ветру, заполняя воздух невидимыми потоками, уничтожая на своем пути все живое, заползая во все ложбины, во все подвалы, щели, окна, двери, не оставляя никакой возможности спасения, сжигая своим смертоносным дыханием деревья и травы и отравляя надолго ту местность, по которой она прошла. Радио сообщали неописуемые подробности этой катастрофы, от которых сердце сжималось, охваченное чувством ужаса, омерзения, негодования и боли. И это был человек – царь природы, погибавший от своих же безумных, кровожадных измышлений!
Во мне сквозь ужас первых впечатлений прорывалось невольное чувство злорадства. Человек получал по заслугам.
Но сейчас я снова представлял себе эти деревни и города, полные трупов, застывших в позах страшной предсмертной муки; эти мертвые, сожженные ядовитым дыханием поля и леса; ни в чем неповинных животных, рабов и слуг человека, устлавших своими трупами дороги и улицы вперемежку с трупами своих господ, с которыми сравняла их смерть. И те, и другие были теперь только тушами гниющего мяса, присоединявшими свое зловоние к запаху убийственных газов, неизбежно и неизменно делавших свое страшное дело перед тем, как рассеяться в пространстве.
И будто, чтобы усугубить ужас происходившего и до конца показать человечеству его безумие, – эта смертоносная волна, повинуясь силе ветра, тянувшего медленно и ровно на восток, докатилась до Балтимора и затопила громадный город. Сюда дошла она, уже лишенная отчасти своей силы, но от того стала еще страшнее. Тут осталось в живых много свидетелей: ослепленных, обожженных, покрытых язвами и нарывами, харкающих кровью живых трупов, изуродованных прикосновением ядовитого облака. Поистине, многообразны были муки, придуманные людьми своим ближним. Здесь смешались все газы, изготовлявшиеся на фабрике смерти. Частью они уничтожили и нейтрализовали друг друга, но и то, что осталось, было воплощением изобретательности человеческого духа на этом зловещем пути.
Многотысячный город опустел в течение двух часов. В каменных коробках домов, в провалах улиц и площадей, так же, как и там, в просторе полей и лугов, – лежали в одиночку и группами трупы людей и животных, захваченных внезапной смертью.
Толпы калек и полутрупов, слепых и глухих, тянулись на восток, подстегиваемые животным ужасом. Они усеивали дороги новыми и новыми трупами, но упорно шли, сами не зная, куда, спасаясь от неведомой смерти. Поезда, уходившие в Филадельфию и Нью-Йорк, были переполнены; люди сидели на площадках, буферах, на подножках вагонов, на крышах, – везде, где за что– либо можно было уцепиться. За обладание местами шли настоящие бои. Но отошло лишь несколько поездов, а затем в общей панике и болезни, охватившей и железнодорожный персонал, – все спуталось в дикий клубок, где люди, забыв обо всем, слепо боролись за жизнь.
Поезда, руководимые полутрупами-механиками, врезывались друг в друга или в тупики и загромождали своими обломками все пути. То же творилось и в порту, где люди бросались в воду, чтобы не остаться на берегу, а переполненные пароходы, баркасы, яхты, катера и просто лодки, не останавливаясь ни перед чем, стремились на восток, толпясь на рейде, толкаясь, как стадо обезумевших животных, и топя друг друга.
В два-три часа город представлял пустыню, мертвую кучу каменных громад, молчаливую и неподвижную, населенную лишь трупами, разбросанными по пути бегства.
Два дня радио были полны известиями о подробностях этой небывалой катастрофы. На четвертый день, когда мы подлетали к Бермудам, где у нас была остановка, была получена новая телеграмма.
К острову была отправлена вторая эскадра из нескольких военных кораблей в сопровождении большой эскадрильи аэропланов. На этот раз ни на судах, ни на аппаратах не было ни грамма взрывчатых веществ.
Это было отчаянное предприятие, попытка взять врага голыми руками.
И она потерпела такое же поражение, как и предыдущие.
Так же с эскадры начали требованием капитуляции, переданным по радио. С острова на этот раз далее не ответили. Вернувшиеся оттуда рассказывали, что у них появилась уже надежда; казалось, что противник признается в своем бессилии. Но когда берег был уже ясно в виду, так что оставалось до него четыре-пять километров, – произошло что-то необъяснимое. Люди вдруг стали валиться, как подкошенные. Три гидроплана, поднявшиеся в это время и находившиеся впереди эскадры, потеряли сразу управление, как-то нелепо и беспомощно закружились на одном месте и, потеряв равновесие, рухнули в воду.
Немногие остались в живых; под их управлением два судна изо всей эскадры вернулись в ближайший порт; они привезли груз мертвецов и рассказали о судьбе экспедиции. Сами они в момент катастрофы были охвачены жесточайшим сердечным припадком.
Вскрытие умерших установило определенно смерть от паралича сердца. Для нас, конечно, дело было ясно. Волны, вызывающие как бы гипноз, психические эпидемии на расстоянии, – вблизи оказывались настолько интенсивными, что, возбуждая чрезмерно сильные токи в нервных путях, заведующих деятельностью сердца, – нарушали их правильное функционирование и приводили к параличу.
Вместе с тем продолжали поступать известия о росте брожения в рабочих центрах, прорывавшегося то там, то здесь взрывами, с которыми власть справлялась с трудом.
Нерешительность правительства и его бессилие по отношению к таинственному противнику питали это недовольство, охватывая массы чувством негодования и возмущения. В радио-газетах проскальзывали строки, указывавшие на то, что зародилось подозрение, не склоняется ли сенат к капитуляции перед противником, в надежде столковаться с ним за счет народных масс. И едва ли эта догадка не была похожа на правду.
Уже недалеко от цели, пересекая Флориду, узнали мы о новом обращении Джозефа Эликотта к конгрессу. Оно было таким же торжественным и напыщенным, как первые два, и заключало новую угрозу, если опять в недельный срок не будет выполнено его требование.
«Я поражу вас в самое сердце, в вашем царственном городе (Imperial-City)», – говорилось в этой депеше. В конце ее стояло на этот раз полное имя.
– Воображаю, что сейчас делается в Нью-Йорке, – сказал я, когда мы прочли эту телеграмму, только что переданную нам из командирской кабинки.
Я представил себе огромный город, охваченный паникой в ожидании грядущего бедствия, и содрогнулся. Этот город-спрут, город-великан, гордый Imperial-City, сосредоточивший в себе жизнь страны и управлявший ею, протягивавший жадную руку из– за решеток своих банков на дряхлую Европу, шумный, многомиллионный, алчный и властный новый Рим, – лежал теперь беспомощный, в ожидании удара.
И еще раз у меня промелькнула мысль, что люди получали то, что заслуживали. Я сказал это Мореву. Он ничего не ответил на мое замечание. Он вообще за все время нашего путешествия почти не говорил, погруженный в свои мысли и какие-то выкладки, над которыми просиживал до поздней ночи.
Он осунулся и сгорбился за эти несколько дней, как после болезни. Я думаю, его тяготила огромная ответственность, взятая им на себя в этой страшной борьбе. Он должен был сознавать себя средоточием надежд и упований, хотя бы и неосознанных, сотни миллионов людей.
Эта мысль впервые за эти несколько дней так ясно определилась у меня в голове к концу нашего путешествия, что я будто увидел перед собою нового, незнакомого мне и такого жуткого человека. «О чем он думает?» – спрашивал я себя, глядя в эти глубоко запавшие глаза и на высокий лоб, перерезанный новой резкой морщиной.
Мне хотелось услышать его голос. Молчание его становилось жутким.
– Вам не приходило в голову, Сергей Павлович, – заговорил я, – что это предприятие, в котором мы участвуем, стоит в таком резком противоречии с ходом истории последнего времени.
– В каком отношении? – медленно и с усилием оторвался от своих мыслей Морев.
– В смысле роли в них отдельной личности, – ответил я: – все события последних десятилетий имели такой огромный размах, захватили такие широкие массы и показали такое их значение, что те, кого раньше называли бы великими людьми, делателями этих событий, – как-то померкли, стушевались в необозримой сложности и космичности совершающегося. И так ясно было, как никогда раньше, что, воображая себя направляющими ход судна, они вели его не больше, чем те фантастические фигуры, которыми украшались в старину носы кораблей. Они были впереди, но не они вели судно, а поворачивались сами туда, куда увлекал их ход, от них независимый, но мы давно перестали видеть в них своих таинственных кормчих. Но вот, однако, снова у кормила стоит отдельная личность и грозит повернуть руль на свой курс, не считаясь с ходом корабля.
Сергей Павлович невесело усмехнулся.
– И на этот раз вы поддались иллюзии. История идет своим железным ходом, и не чучелам на носу корабля изменить его.
Самое большее, что может сделать отдельный человек, – это замедлить или ускорить неизбежный ход вещей. И только. Массы – истинный творец истории и ее кормчий. И чем шире, огромнее и сложнее становится жизнь масс и до бесконечности запутывается в необозримом многообразии сеть причин и следствий, – тем больше меркнут в ней отдельные личности, все эти короли, министры и полководцы. Быть-может, абсолютно нынешние великие люди не меньше тех, о которых вспоминает история, но в сравнении с огромностью сцены, на которой они выступают, – они теряются и кажутся всплесками волн в неоглядности океана.
И то, что вы сейчас видите, – такая же иллюзия, как было и раньше.
Если вы хотите знать, где творится настоящая история, то прислушайтесь к тем раскатам близкой бури, которые несутся из Фриско, из Чикаго, из Филадельфии, – отовсюду, где бьется пульс жизни масс.
Вот истинная мировая драма, которая идет неизбежно и неуклонно к заключительному акту, а то, в чем мы сейчас с вами участвуем, – лишь эпизод на этом широком фоне. Наш противник не больше, как палка, вложенная в колеса истории. Быть-может, ход ее и замедлится ненадолго, но палка будет измолота, и история мира от этого не изменится.
Да к тому же мудрая природа позаботилась, чтобы каждый яд имел свое противоядие, – снова усмехнулся мой собеседник.
– И если Джозеф Эликотт – яд, то мы с вами для него готовое рвотное.
– А я все-таки не могу отделаться от мысли, что эта борьба – состязание личностей. Ведь от вашего успеха или успеха противника зависит судьба человечества.
– Нет. В конечном счете это борьба двух мировоззрений, двух эпох, двух классов, которых представителем и оружием является каждый из нас. Но мы – воители молодого, бодрого класса, в руках которого будущее, а Джозеф Эликотт – воплощение умирающего прошлого. Никакая сила не может спасти его идею. В этом – наша неизбежная победа; если не наша с вами лично, то победа того дела, которому мы служим.
– Джозеф Эликотт, вероятно, смотрит на дело иначе, – сказал я.
Морев пожал плечами.
– Может-быть. И в этом мое преимущество перед ним.
– А может-быть наоборот?
– Что вы этим хотите сказать?
– То, что сознание значения своего «я» должно давать ему преимущество твердости и решимости.
– Напрасно вы так думаете. Мы с вами все время говорим будто на разных языках. Поверьте, что я, именно чувствуя себя орудием чего-то большего, чем я сам, – не отступлю ни на шаг. Le vin est tire… А впрочем, довольно философии. Вот, кажется, и Гальвестон.
Под нами впереди в наступающей мгле зажглись огни большого города, и обрисовались его смутные контуры.
Глава XIX
Накануне событий
Гальвестон произвел на меня впечатление огромного потревоженного муравейника. Обычно оживленный деловой, кипящий город теперь имел особенную физиономию. Охваченный общей тревогой, в которой металась страна, он был полон толпами беглецов, хлынувших сюда из-за Миссисипи, инстинктивно стремившихся положить сотни миль расстояния между собой и местом перенесенных ужасов.
Улицы были полны взволнованными людьми, лихорадочно ожидавшими известий с берегов Атлантического океана.
Собирались десятками тысяч перед крикливыми рупорами осведомительных бюро и бюллетенями газет, выставлявших каждые два часа свои телеграммы и выбрасывавших их тысячами листков, еще сырых и пахнущих краской, в кишевшие людьми улицы. Там и сям собирались летучие митинги, объединявшие эти толпы в возбужденного многоголового, потерявшего равновесие и потому опасного зверя. Передавались бесконечные слухи и известия, превосходившие всякие вероятия, росла волна страха, недоумения и гнева… Мишенью последнего служило правительство, которое обвинялось с разных сторон и которому приписывали все беды и несчастия страны. Вспоминались его подкупность и потворство воротилам финансового мира; ставились в вину нерешительность и слабость… Взводились тысячи обвинений и истинных, и мнимых; росла та страшная волна гнева масс, которая кончается революциями.
Мы поселились сами в тихом уголке рядом с университетом и лихорадочно принялись за работу. Дело нашлось всем, кроме Юрия. Он добросовестно пытался быть нам полезным, но это было свыше его сил: – он был в таком нервном напряжении, что я начинал бояться за его рассудок. Бедняга целыми днями, как автомат, ходил из угла в угол, оживленно жестикулируя, бормотал что-то глухо и невнятно, на вопросы отвечал невпопад, вообще производил впечатление человека, потерявшего равновесие.
Я попытался было отвлечь его от навязчивых мыслей, увлечь работой, встряхнуть. Это оказалось невозможным. Он весь ушел в лихорадочное ожидание; каждый день, проведенный в приготовлениях, старил его на целые годы.
Была еще одна заинтересованная сторона, которая торопила наши сборы с нетерпением и нервностью, – Белый дом, откуда мы ежедневно получали тревожные настойчивые шифрованные телеграммы.
Но они были бесполезны. Работа и без того шла лихорадочным темпом, был рассчитан каждый час, и приблизить срок окончания сборов Сергей Павлович был бессилен. Надо было все учесть и ко всему приготовиться.
К счастью, на месте мы нашли уже все, о чем просили еще из Москвы, – в этом отношении тут оказались идеально исполнительными, что, разумеется, было неудивительно. Ведь наш приезд давал единственный шанс на победу, где ставкой была судьба страны. Были заготовлены в необходимом количестве требовавшиеся для работы препараты и сырые материалы: к счастью, в университете, и главное в Берклее, нашей базе, оказался значительный запас химически чистого селена, необходимого для работ, что сильно облегчило задачу. Были доставлены газовые костюмы. На рейде стояли три быстроходнейших миноносца флота республики, а в ангарах ждало шесть воздушных машин новейшей конструкции. Отряд еще не был набран полностью, но через два дня должен был быть пополнен до указанной Моревым цифры.
В день своего прибытия мы познакомились с явившимся к нам будущим начальником экспедиции, назначенным правительством Штатов, полковником Пэджет.
Это был высокий, сухой человек, с лицом, туго обтянутым желтоватой кожей, из-под которой резко выступали мускулы и кости. У него были умные серые глаза, жесткие и слегка иронические. Тяжелая нижняя челюсть придавала лицу выражение чего-то упрямого, твердого и несколько звериного. Вообще он напомнил мне большую хищную птицу.
Сильное мускулистое тело, казалось, легко и послушно двигалось точными и отчетливыми движениями.
Голос у полковника был несколько придушенный, словно он его умышленно сдерживал.
Он переводил глаза с одного из нас на другого, отыскивая Сергея Павловича. Когда ему указали сгорбленную фигуру нашего шефа, – Пэджет подошел к нему с коротким приветствием.
– Я назначен начальником экспедиции, отправляемой на Памлико-Саунд, и имею инструкции исполнять ваши указания, согласные с предначертаниями правительства. Позвольте предоставить себя в ваше распоряжение.
Морев молча пожал протянутую ему руку и с минуту подыскивал слова для ответа.
– Надеюсь, что эти предначертания не разойдутся с теми мерами, которые придется принять, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. То, что я нашел здесь сделанным по нашей просьбе, утверждает меня в этой мысли. Но нам обо многом надо еще переговорить.
– Я к вашим услугам, – еще раз поклонился сэр Пэджет.
Надо сказать, что иметь дело с ним оказалось чрезвычайно легко: «предначертания» не разошлись с требованиями Морева, а точность, дисциплина, быстрота и организованность работы не оставляли желать лучшего.
В лабораториях работа шла круглые сутки. Полковник Пэджет обучал людей обращению с костюмами при длительном пребывании в них.
Миноносцы уходили в море и там занимались стрельбой из допотопных, вытащенных из какого-то арсенала пушек, окутывавших корабли облаками дыма. Самое скверное было то, что работы могли быть кончены не раньше шести дней, то– есть накануне срока, указанного Эликоттом в его последнем заявлении. Это нервировало ужасно, но ничего сделать было нельзя. Время, необходимое для изготовления препарата изолятора, пропитывания им костюмов, их сушки и испытания, было рассчитано с точностью до часов, и ускорить его было невозможно.
Это было нашим единственным оружием против страшного противника, и малейшая небрежность могла кончиться крушением всего дела.
В Нью-Йорке между тем, по сведениям печати, начиналась паника. Обитатели Пятой Авеню оказались первыми крысами с тонущего корабля и подали сигнал. Яхты, поезда, воздушные машины, автомобили – уносили своих владельцев, на запад, в море, в Европу, – куда угодно, прочь от угрожаемого города.
С их отъездом жизнь постепенно замирала в огромном городе, теряла свою согласованность и целесообразность.
Это был улей, потерявший матку. Оно было и понятно. Эти люди держали в своих руках пульс жизни и города, и всей страны. За ними потянулись тысячи других, связанных со всей сложной путаницей и машиной современного города.
Но те сотни тысяч и миллионы, которые привязаны были к нему своими маленькими жизнями, сплетавшими в своей чудесной сложности всю основу существования страны; те, кому некуда было деваться, и негде было пережидать, пока пронесется буря, – они не покидали этого запутанного клубка улиц и площадей, а наполняли их неустанными криками, наводившими ужас на беглецов с Пятой Авеню не менее, чем депеши с Памлико– Саунда.
Так говорили газеты, но это было видно и по нервным настойчивым телеграммам из Вашингтона.
К вечеру субботы наша работа должна была быть закончена. За три дня до того миноносцы с тремя машинами на борту были направлены морем мимо Гаваны, и мы, вылетев в воскресенье утром, должны были встретиться с ними в Джексонвиле, имея уже готовые костюмы, обработанные изолятором, в двойном комплекте для всех участников экспедиции. Это и было в сущности наше настоящее оружие против неуязвимого противника, кроме тех допотопных пушек, которые стояли на борту миноносцев, и небольшого количества бомб, начиненных черным порохом, для сбрасывания с аэропланов.
В воскресенье в четыре часа утра мы вышли в поле, где стояли три легких и три грузовых машины, готовые к отправлению в путешествие, таившее в себе жуткие и неизвестные возможности.
Солнце только что верхним краем прорезало легкую сизоватую тучку, вытянувшуюся вдоль восточной стороны горизонта. От нескольких вязов на краю дороги, от наших фигур, закутанных в фантастические костюмы, и от машин, выстроившихся в два ряда на слегка всхолмленном поле, – побежали длинные мягкие тени, сплетаясь в причудливые силуэты.
На дороге пыхтели автомобили, доставившие нас сюда, и вся эта группа людей и машин казалась такой маленькой и ничтожной среди открывающегося простора лугов и полей и еще спящего города, раскинувшегося по всей южной стороне горизонта громадами домов и заводов.
С востока потянуло вместе с лучами солнца холодным пронизывающим ветром.
Я смотрел навстречу красному диску, медленно подымавшемуся из-за далекого горизонта, и силился проникнуть мысленно дальше, туда, где солнце уже пламенеющим шаром катилось по небу над огромным городом, туда, где творилось что– то неведомое и страшное и куда мы сейчас должны были ринуться сквозь воздушный простор на легких крылатых машинах.
У меня невольно сжалось сердце.
Что ждало нас там, за этой гранью?!
Мы облачились уже в наши нелепые, фантастические костюмы, напоминавшие не то скафандры водолазов, не то доспехи каких-то стародавних латников; в этом облачении мы все были совершенно одинаковы, и никого нельзя было бы выделить из этой группы причудливых фигур с огромными стеклянными глазами, если бы не условные отличительные знаки, которые давали нам возможность узнавать друг друга. У Сергея Павловича костюм был почти черного цвета, а шлем совершенно белый с темными провалами глаз напоминал высохший череп. Облачение Юрия было синеватого оттенка с таким же шлемом.
Сергей Павлович решил заранее надеть эти костюмы, чтобы испытать их на длительном полете и свыкнуться с пребыванием в них в течение многих часов. Это было не так легко. По крайней мере на меня эта закупорка в отделяющее от мира одеяние действовала очень тягостно. Это было ощущение невероятной пустоты и одиночества, несмотря на то, что слух различал несколько заглушенные звуки, а сквозь зеленоватые стекла шлема можно было видеть, хотя и слегка затуманенными, все окружающие нас предметы.
Было половина пятого утра. Сергей Павлович подошел ко мне, откинув на плечи шлем, при чем голова на тяжелых складках костюма казалась каким-то наростом.
– Ну, как, Дмитрий Дмитриевич, – вероятно, это последние минуты, когда мы можем поговорить перед началом нашего дела? Вы не раскаиваетесь, что приняли в нем участие?
Я, последовав примеру Морева, освободил голову и с жадностью вдохнул всей грудью свежий воздух.
– Нет, – ответил я, – повторяю ваши же слова: le vin est tire. И потом изменить человечество я не в состоянии, и оно, очевидно, долго еще будет устраивать себе эти кровавые развлечения; а закрывать на все глаза и делать вид, что этого не замечаешь – было бы слишком наивно. Все, что есть, заслуживает внимания и наблюдения.
– Сквозь стекло микроскопа?
– Нет, и сквозь улыбку скептика.
– И это все, чего по-вашему заслуживает мир, в котором мы живем?
– Думаю, что да. А что же по-вашему еще надо к этому прибавить?
– Любовь или ненависть живого человеческого сердца. Какими путями дошли вы до этого удивительного миросозерцания, позволяющего вам смотреть на мир как на какой– то театр китайских теней? Неужели в вас нет ни капли пафоса борьбы, стремления приобщиться к жизни?
– Единственная романтика, какая мне доступна, это романтика человеческой мысли и ее достижений. И именно она позволяет мне глядеть на все остальное сквозь улыбку. А что до миросозерцания, то вы ведь не думаете серьезно, что каждый из нас выбирает его себе, как результат логического продумывания.
– А как же иначе?
– Мне казалось, что это общее место, о котором и говорить не стоит. Конечно, мы выбираем его бессознательно, нутром, так сказать, в силу наследственности, темперамента, условий воспитания, среды и прочего, и прочего, а логику уж после притягиваем за волосы в оправдание нашего выбора.
– Ну, это далеко не так очевидно, как вам кажется, дорогой мой.
– Непременно так. Иначе вы сами себе противоречите. Ведь по вашей же идее наша психическая жизнь в значительной мере определяется излучениями, поглощаемыми мозгом из окружающей среды, а выбор тех или иных колебаний, а значит и идей, зависит не от нашей доброй воли, – а от каких-то факторов нервной системы, определяющих те колебания, на которые мы отзываемся – то-есть именно от нашего нутра.
Морев засмеялся своим сухим деревянным смехом.
– Удивительное создание – русский человек. Он, кажется, кладя голову на плаху, способен заниматься диспутами об отвлеченных материях и разводить философскую кислятину… Даже и скептики…
– Апостолы действия тоже не отказывают себе в этом удовольствии, – отпарировал я.








