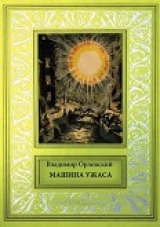
Текст книги "Машина ужаса (Фантастические произведения)"
Автор книги: Владимир Орловский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Я знаю, чьих рук это дело, – твердил Юрий, и я догадывался, о ком он думает. Его предположение было очень похоже на правду. Но и оно не подвинуло нас ни на шаг вперед. Мы съездили в Питтсбург: Джозеф Эликотт был еще здесь, очевидно ожидая конца выборов. Но узнать нам ничего не удалось. Мы вернулись в Филадельфию и возобновили поиски. После бесчисленных расспросов и метаний мы наткнулись на женщину из булочной на углу, вспомнившую, что в этот вечер она видела на тихой обычно улице быстро промчавшийся закрытый автомобиль. Это было все, что удалось узнать, но это не давало ровно ничего в руки; этот автомобиль мог не иметь ничего общего с исчезновением мисс Margaret.
В эти печальные сутолочные дни я получил телеграмму от Сергея Павловича:
«Что случилось? Психограф дал резкие колебания».
Юрий досадливо отмахнулся рукой, как от назойливой мухи, прочтя короткую строчку. А я уверовал до конца в истинность этого удивительного создания человеческой мысли, неукоснительного и неподкупного свидетеля и соглядатая, ведущего за тысячи верст свою немую и бесстрастную запись. Сказка стала былью. Розовый куст завял, возвещая о несчастий принца.
Вечером на следующий день мы сошлись снова в нашей комнатке после бесплодных поисков. Все средства были исчерпаны. Сыщики признавались в своем бессилии. Дальнейшие попытки были бесполезны.
Особенно, если действующим лицом в этой драме был Джозеф Эликотт, то следы заметались не только хитростью, но и золотом, а последнее было сильнее первого.
Мы долго сидели молча в потемках, погруженные, в свои мысли, не решаясь признаться в поражении. Вдали шумел громадный город, и грохот его казался отголоском космического моря. И мы в нем были словно выброшенные на пустынный остров пловцы, с разбитого корабля, одинокие и растерянные.
– Юрий Павлович, – сказал я наконец, – надо ехать, голубчик. Дело проиграно, надо иметь мужество в этом сознаться. Найти человека в этой человеческой пустыне немыслимо, и, если вы правы в предположении относительно виновника, то тем более мы бессильны, и все наши попытки обречены на неудачу. Что делать, родной? Конечно, это тяжело, это ужасно, но это неизбежно. Мы проиграли… Надо ехать…
Юрий молчал несколько минут. Потом из темноты раздался его сдержанно-взволнованный голос, в котором была нечеловеческая боль и бесповоротность принятого решения.
– Я остаюсь. Спасибо вам, Дмитрий Дмитриевич, за помощь, за ваше сочувствие, за все, что вы сделали для меня. Вам здесь больше делать нечего; вы сделали все возможное. Я остаюсь. Я начну борьбу один. Я вырву ее из рук этого золотого мешка. Я вернусь с нею или не вернусь вовсе.
Спорить, убеждать его было бесполезно. Я молча пожал ему руку.
Через три дня огромный пароход, который должен был увезти меня в Европу, осторожно поворачивался, выбираясь потихоньку из сутолоки гудевшего, грохотавшего и вопившего порта, напоминая дрессированного слона, идущего между наставленной на пути его стеклянной посудой.
На пристани стоял Морев, осунувшийся, молчаливый и махал мне шляпой.
Глава IX
Таинственное радио
Дома, после первой встречи и рассказов о своем интимном, жена заговорила о Юрии. На меня посыпался град упреков. Мы вели себя как идиоты. Мы вместо того, чтобы заниматься делом, заводили какие-то сумасшедшие экзотические романы.
Я не возражал; тем более, что атака эта не была для меня неожиданной. Однако заключение этого словоизвержения меня озадачило.
– И что за наивность в конце концов – поверить искренно в какую-то драму с похищением в стиле «Тысячи и одной ночи»! И где же? В самом сердце промышленной Америки! И это чуть не в середине XX века. Воображаю, как ваша прекрасная креолка хохочет над вами вместе со своим миллиардером!
Это была совершенно новая точка зрения и притом не совсем невероятная. Я долго думал потом над нею, взвешивая все за и против. В конце концов я признал ее несостоятельной. Прежде всего я не видел в ней смысла: мисс Margaret была свободным человеком, – свободным и достаточно самостоятельным, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится, а затем для такой симуляции надо было разыграть комедию, на которую я решительно не считал ее способной.
Через несколько дней я узнал, почему атака жены была такой стремительной, а слова звучали раздражением и разочарованием. На приятеля моего уже имелись виды, и немедленно после возвращения он должен был подвергнуться правильной осаде. Узнал я и о намеченной для него женою подруге жизни. Это была одна из наших давнишних знакомых, пухленькое румяное голубоглазое и светловолосое существо с куриными мозгами, добродетельное, как сама святая Цецилия, и скучное, как все добродетели, вместе взятые. Я сравнил ее с мисс Дорсей, внутренно содрогнулся и мысленно поздравил Юрия с избавлением от опасности.
Я даже написал ему об этом, рассказывая о домашних впечатлениях, и постарался представить в смешном виде готовившееся на него покушение. Однако он, видимо, вовсе потерял чувство юмора, так как ответил на это в самом серьезном тоне благодарностью моей жене за заботу о его судьбе.
Еще больше, кажется, интересовался этой судьбой дядюшка Морев. Он расспрашивал меня обо всех подробностях происшедшего и выражал сожаление по поводу несчастья, постигшего племянника, видимо только из вежливости. Ему трудно было скрыть свое удовлетворение по поводу того, что вся эта драма давала такой богатый опытный материал для поверки изучения работы психографа.
Аппарат продолжал работать неутомимо. Медленно вращалась лента на барабане, и перо то чертило на ней прямую линию, то трепетало чудесной дрожью, отражавшей истинную дрожь души мятущегося человека за тысячи верст от нас. Я не мог смотреть на это автоматическое движение словно пишущего кровью прибора – без глубокого внутреннего волнения. Я старался представить себе, что каждый взмах этого пера, заносимый на разворачивавшейся на моих глазах ленте, есть след переживаний, страданий, в это же время, сию минуту, испытываемых Юрием где-то там за океаном, в многоэтажных коробках каменных муравейников, – и мне это казалось несообразным, диким, даже почти кощунственным. И лишь понемногу это укладывалось у меня в голове, как новое торжество человеческого гения, идущего от вершины к вершине, к новым неведомым горизонтам.
Вскоре этот удивительный прибор остался единственным звеном, связывающим нас с Юрием, и единственным признаком его существования.
Первые два месяца мы продолжали с ним переписку, при чем я писал в Филадельфию до востребования; Юрий отвечал коротко, сдержанно и почти ничего не писал о главном; только в последнем письме была глухая фраза о том, что он намерен «выследить зверя в его берлоге». В следующем письме он просил не писать ему, пока он не даст нового адреса, а затем всякие известия от него прекратились.
При других условиях я склонен был бы думать, что приятель мой погиб в неравной борьбе. Но психограф чертил неутомимо и бесстрастно. Прямая линия время от времени прерывалась колебаниями, а это свидетельствовало о том, что источник, заставляющий воспринимать эти вибрации, еще существует.
Я теперь много вечеров проводил у Сергея Павловича то в созерцании работы этого сказочного прибора, то наблюдая опыты, иллюстрирующие новые достижения Морева.
Последнее время он работал над упрощением и усовершенствованием оболочек, изолирующих нервномозговой аппарат от электромагнитных психических волн. Сначала он сконструировал нечто вроде шлема из материи, пропитанной этим изолятором, закрывающего голову, но оказалось, что для полного ограждения от действия колебаний необходима совершенно замкнутая оболочка.
Тогда Сергей Павлович устроил целое одеяние из такой ткани, пропитанной изолятором, напоминавшее по виду те костюмы, которые в великую войну одевали в предохранение от поражения горчичным газом, одним из ужаснейших орудий последнего периода этой четырехлетней бойни.
Удивительное ощущение охватывало меня, когда я надевал эту будто маскарадную хламиду. Это было чувство полной отчужденности, одиночества, совершенной отрезанности ото всего окружающего. Все движения, видимые сквозь зеленоватые стекла шлема, казались, не более жизненными, чем суета фигур на экране кинематографа. Душа делалась недоступной состраданию, сочувствию, живым откликам на совершающееся вокруг. Пребывание в этом костюме действовало подавляющим образом, и я спешил от него освободиться, тем более, что к тяжелому состоянию духа присоединялся неприятный, слегка приторный запах, круживший голову и возбуждавший даже тошноту.
Были и другие опыты, не менее интересные и, главное, имеющие возможность практического применения.
Еще покойному отцу Сергея Павловича удалось получить такого же рода изолятор, задерживающий не все вибрации, излучаемые живым организмом, а только те, которые соответствовали неприятным, болезненным переживаниям, словом человеческому страданию. Теперь, в течение минувшего года, Мореву удалось выделить другое вещество, довольно совершенно я отражавшее колебания, вызываемые повышенной жизненной энергией, чувством бодрости и радости. Были выбраны две крошечных комнатки, стены, пол и потолок которых были покрыты изнутри тщательно отполированным слоем того и другого изолятора. Впечатление получалось поражающее. Входя в такую комнату, человек естественно вносил с собой зачатки всевозможных эмоций, идей, переживаний, которые на него только что влияли. Соответственно этим переживаниям, он излучал различные колебания, но в то время, как волны, отвечающие большинству из них, свободно проходили сквозь стены, рассеиваясь в пространстве, – излучения, для которых стены комнаты были непроницаемы, отражались от них, как от зеркала, после чего падали на свой первоначальный источник, деятельный мозг, и этим сообщали ему импульсы, толчки, способствовавшие излучению уже более сильных колебаний; с этими последними происходило то же, и таким образом постепенно раскачиваемый, как тяжелый маятник, последовательными легкими толчками, нервномозговой аппарат излучал и воспринимал все более интенсивные вибрации, отвечающие данному изолятору; таким образом человека охватывало усиленное, во много раз выросшее из зачатка, внесенного им же самим, настроение, обязанное взаимному многократному переплетению отраженных от стен колебаний, усиливающих друг друга по законам интерференции волн.
Первый раз я попал в одну из этих комнат, не будучи предупрежденным, и пробыл там недолго, занятый собранными здесь чертежами, снимками, схемами и описанием некоторых работ Сергея Павловича и его покойного отца. Внимание мое было совершенно поглощено, и тем не менее не дольше, как через полчаса я почувствовал такое тяжелое гнетущее ощущение смутного беспокойства, подавленности, что невольно сказал об этом Мореву.
– Вы знаете, если бы я верил в предчувствия, я бы сказал, что у меня сейчас на душе шевелится какое-то мерзкое ожидание большого несчастья… Чёрт знает что такое! Просто нервы развинтились, конечно. Мне и так давно бы надо было лечиться.
Морев засмеялся.
– Нет, лечиться не стоит. Дело проще, чем вы думаете. Просто вы варитесь в соку собственного дурного настроения, как любил говорить мой покойный отец.
– Что вы этим хотите сказать?
Сергей Павлович объяснил мне сущность опыта и добавил:
– Так за много лет художник угадывает иногда смутно то, что после ученый дает миру как осязаемый факт. На мысль таких множителей печали и радости отца моего натолкнул один из рассказов Эдгара По, в котором, если вспомните, говорится о влиянии цвета обоев в комнате на настроение и состояние духа.
– Помню, помню. Это один из самых глубоко волнующих его рассказов.
– Да, и вот вам фантазия поэта, преломившись сквозь законы и формулы физики и химии, стала явью, делом сегодняшнего дня.
И не дальше, как через полчаса после этого, попав во второй изолятор, я ощутил такое чувство бодрости, такой прилив радостного возбуждения и оптимизма, что готов был расцеловать не только Сергея Павловича, но и самого Джозефа Эликотта, если бы он тут очутился.
– Но ведь вы таким образом можете предложить новый метод лечения неврастении, ипохондрии, мизантропии и прочей гадости в том же роде? – вырвалось у меня.
– Я и предполагаю использовать этот способ для борьбы с некоторыми нервно-психическими заболеваниями и сейчасработаю над этим вопросом с невропатологом профессором Яншиным.
– Да тут, кажется, дальше и работать не над чем, – засмеялся я: – понастроить этаких изоляторов тысячами, покрыть ими стены наших домов, и года через два – три можно выкинуть над землею аншлаг: «Нет больше пессимизма!».
– К сожалению, это обошлось бы приблизительно в ту же сумму, как если бы мы все стены наших жилищ вздумали покрыть слоем чистого золота в полмиллиметра толщиной. Недаром эта комнатушка такая крохотная. И то об этом эксперименте без субсидии от государства я, разумеется, не мог бы и думать.
– Ах, чёрт возьми! Об этом я не подумал. А разве нет надежды на удешевление продукции этого волшебного эликсира радости?
– Надежда плохая. Сюда, как главная составная часть, входят такие редкие элементы, как таллий, селен и другие; количество их на земле очень ограничено, и способ добывания в чистом виде очень труден и дорог.
Этого надо было ожидать. Природа не уступает легко свои тайны и скрытые в них возможности, эти позиции приходится брать с бою, медленно и упорно. И все-таки человечество неизменно, идет вперед.
Так проходило время в обычной работе, у себя в университете, на лекциях, в лабораториях и у Сергея Павловича в созерцании непрекращающейся методической работы психографа и других опытов над изучением этих таинственных еще до недавнего времени вибраций.
Так минул год после моего возвращения в Россию.
И вот в это время телеграф принес первые невероятные сообщения из Америки, которые сначала послужили только материалом для шаржей и карикатур, а затем оказались вестниками грозных событий, захвативших в своем круговороте и нас.
Первоначальные сведения были сбивчивы и смутны. Никто, конечно, не придавал им серьезного значения; если и говорили о них, то лишь как о курьезе, как о примере тех удивительных случаев, которые могут быть только в Америке.
Правительство Соединенных Штатов всячески пыталось воспрепятствовать проникновению их в печать. Но очень скоро оказалось, что скрывать бесполезно.
Дело в том, что с некоторого времени на всех радиостанциях Нового Света, а позже и в Европе стали получаться на всевозможных языках земного шара депеши поистине дикого содержания.
«Правительству Соединенных Штатов Северной Америки и всему американскому народу. Слушайте голос судьбы. Пришло время земле переменить своего господина. Царство мöба, царство денег, царство их слуг, кончилось. Начинается владычество мое – Великого Неведомого.
Я беру в свои руки судьбу человечества.
Надо всей землей я водружу свое знамя. Я начинаю объявлением воли моей американскому народу, который избрал своим вестником. Воля моя должна стать единым законом. Горе непокорным. У меня в руках великая неведомая сила, которая обрушится на их головы. Я могуч, я непобедим!..
Как знак подчинения моей власти, я требую ныне же опустить флаг Соединенных Штатов на Капитолии и поднять мой – белый луч на черном поле, требую – перевести весь военный флот в Тихий океан.
Я даю срок для выполнения – семь дней. Если к полудню 8 апреля воля моя не будет выполнена, – горе стране и народу. Я поражу безумием Чарльстон и Хентингтон, я сотру с лица земли Аннаполис.
Я сказал».
Это была галиматья, в которой можно было видеть только бред безумного или чью-нибудь непонятную мистификацию. Но все же это было настолько необычно, что газеты посвятили много внимания таинственным радио, и в течение ближайших дней появился ряд предположений относительно происхождения этого удивительного возвещения.
Самой простой и наиболее вероятной гипотезой явилась догадка, что весь этот блеф – дело рук демократической партии с целью поставить в смешное положение стоящих у власти республиканцев. Это было дико, но не было невероятно. «Punch» немедленно поместил на эту тему карикатуру: дядя Сам одной рукой утирает слезы звездным знаменем, а другой водружает на верхушку Капитолия черный флаг с белым лучом по диагонали. В облаках восседает «Великий Неведомый», в чертах лица которого можно было узнать лидера демократической партии Джонатана Керри.
Другие высказывали мнение, что послание просто дело рук какого-то сумасшедшего, у которого имеется в распоряжении радиостанция. Была даже догадка, не исходила ли депеша с одной из метеорологических станций, снабженных радио на дальнем севере, за полярным кругом, в стране бесконечной зимы и ночи, где нередко бывали случаи не только смерти, но и безумия.
Третьи обращали внимание на совпадение получения радиограммы с датой – 1 апреля и отсюда выводили догадку о какой– то грандиозной мистификации.
Наконец, были и такие, которые видели в этом начатую какой– либо фирмой невиданную еще рекламу, которая в полдень 8 апреля должна была кончиться предложением всему человечеству патентованных подтяжек или пилюль от запора.
Словом, на несколько дней таинственное радио стало злобой дня всей печати и темой бесчисленных карикатур, шуток и более или менее остроумных догадок.
Никто не чувствовал надвигавшейся грозы, и все беззаботно смеялись над тем, что завтра должно было стать кошмаром дня, угрожающим опрокинуть весь привычный уклад жизни.
Глава X
Катастрофы в Америке
Как раз в это время на нашем горизонте появилось новое лицо. Приехала откуда-то с востока, кажется с Урала, мать Юрия.
Она давно уже писала Сергею Павловичу, спрашивая в каждом письме о судьбе сына, волновалась, тосковала, и вот, наконец, не выдержав мучительной неизвестности, за тысячи верст пустилась в далекий и чужой ей город, чтобы узнать о своем любимце.
Это была худенькая, маленькая, остроносая старушка, одетая в какую-то пеструю старомодную ветошь, с быстрыми, беспокойными глазами на желтом, как пергамент, лице. Она ни минуты не оставалась в покое. Особенно пальцы рук, худые и длинные, были в постоянном лихорадочном движении, словно плели, не уставая какой-то невидимый узор. Побыв с нею полчаса, я как-то невольно заражался этой неослабевающей тревогой и чувствовал, как у меня тоже начинают дергаться пальцы. Это был сплошной комок нервов.
Сергея Павловича она сразу засыпала множеством вопросов, от которых он поспешил избавиться, указав на меня, как на спутника и очевидца, последним видевшего ее сына. Тогда этот поток обрушился на меня. Я выдержал его довольно храбро и рассказал все, что знал о Юрии.
Елизавета Петровна несколько раз начинала плакать; потом вдруг слезы высыхали моментально, и она с жадностью набрасывалась на мои повествования, заставляла описывать подробнейшим образом мисс Margaret, ее наружность, характер. Она, видимо, уже заранее ее осудила.
Это была одна из тех матерей, которые не в состоянии примириться с мыслью, чтобы любимый сын мог привязаться к кому-нибудь, кроме нее, к женщине, ради которой поставил бы на карту свою жизнь и забыл о семье. И старушка уже ненавидела эту чужую ей девушку, отнявшую у нее сына.
Бедная мисс Margaret! Какой прием ожидал бы ее в стране добрых волшебников и благодетельных фей!
Потом Елизавета Петровна начала рассказывать о себе, о том, как она измучилась за этот год, как ждала известий от Юрия, как плакала целыми ночами, думая о нем, как доходила до галлюцинаций в этой непрестанной тревоге, какие видела сны. Мне было жаль ее, и вместе с тем я не мог отделаться от недоброжелательного чувства, а в конце концов меня утомила и наскучила эта слезливая болтовня. К моему удивлению, этими рассказами вдруг заинтересовался Сергей Павлович. Он стал выражать сочувствие, поддакивал, сокрушенно качал головой и затем стал подробно расспрашивать обо всем, что она перенесла за эти месяцы. Старушка не заставила себя просить.
– Ах, голубчик, ты ведь не знаешь, что значит быть матерью… Вот представь себе, я три ночи подряд вижу Юру барахтающимся в какой-то болотной тине… А ведь я знаю, грязь всегда не к добру: или болезнь, или какое-нибудь несчастье. Перед Рождеством, дня за два, я даже не во сне, а сидя вечером за столом, так ясно почувствовала, что с ним что-то неладное, будто он зовет меня, – что со мною случился отчаянный сердечный припадок…
– Ты, кажется, говорила, что такие припадки с тобой были несколько раз? – спросил Морев.
Да, да, раза четыре за этот год, – ты понимаешь. Я уж не знаю, как живой до сих пор осталась…
– А ты не можешь вспомнить, когда были эти припадки?
– Ох, голубчик, где мне помнить с моей головой. А только я все это записала, правда. Я ведь у себя веду… не то чтобы дневник, а так, заметки о пережитом. Знаешь, старческая привычка…
Сергей Павлович настоял, чтобы она принесла свою тетрадку. В черном клеенчатом переплете мелким бисерным почерком, тесными строчками, лепилась однообразная, тягучая повесть маленькой жизни. Между страницами заложены были какие-то пожелтевшие от времени газетные вырезки, выцветшие фотографии, вышитые закладки.
Когда мы остались одни, Морев сказал задумчиво:
– Экое узенькое, никчемное существование! Вся жизнь– сплошное трепетание нервов, самых примитивных эмоций, и никакого проблеска мысли…
– Однако же вы этим, видимо, заинтересовались. Настолько, что, признаться, даже меня поставили в тупик, – возразил я.
– Да, заинтересовался. И вы не угадываете – почему?
– Нет.
– Идемте, – Морев поднялся с места.
Мы прошли в лабораторию, где три психографа без устали и перерыва вели свою запись. Сергей Павлович вынул из шкафа навернутую на катушку уже исписанную ленту, представлявшую запись прибора Юрия за последние месяцы, и развернул ее. У нижнего края бумажной полоски отмечены были дни и месяцы, которым соответствовала кривая.
– Я отметил те четыре дня, когда моя милая belle-soeur испытала особенно сильные нервные возбуждения, связанные, по ее ощущению, с сыном. Попробуем сравнить это с отметками прибора.
И он стал медленно и внимательно просматривать ленту.
– Так я и знал, – выпрямился он вдруг с довольным видом: – вот вам новое подтверждение.
Против дней, записанных Моревым, прямая или только чуть колеблющаяся линия психографа давала резкие, ясно заметные размахи, свидетельствовавшие об интенсивных переживаниях Юрия. Один из таких участков линии совпадал точно со временем исчезновения мисс Margaret и отчаяния моего приятеля.
– Как видите, мой искусственный резонатор нисколько не уступает по чуткости природному и вполне ему соответствует Колебания, излучаемые моим бедным племянником, падали одновременно и на мой аппарат и на мозг этой старушки и заставляли обоих отвечать на это по-своему.
* * *
На следующий день, развернув утром газету, я увидел на заглавном листе напечатанный огромными буквами подзаголовок:
«Катастрофы и Америке! Исполнение угроз таинственного радио! Взрыв в Аннаполисе! Эпидемия ужаса в Чарльстоне и Хентингтоне!!!»
Я самым серьезным образом усомнился в нормальности моих умственных способностей и долго не мог прийти в себя. Однако пришлось примириться с мыслью, что я не сплю и что случилось действительно что-то оглушительное, необычайное.
Впрочем, в этот раз все сообщения в сущности ограничились этими подзаголовками. В ближайшие же дни газеты были заполнены фантастическими подробностями происшедших событий.
Во-первых, – 8 апреля, ровно в полдень, взлетел на воздух арсенал, вернее склады взрывчатых веществ, расположенные у Аннаполиса, невдалеке от морской военной школы. Катастрофа не была рядом последовательных взрывов, как это обычно имеет место в таких случаях, например, в Бухаресте в 1924 году, – вся масса значительных запасов пироксилина, мелинита, лиддита, экразита и других разрушительных веществ взорвалась сразу, одним невероятной силы ударом. Результаты были неописуемые. Городок разрушен почти до основания. То, что уцелело от взрыва, было охвачено пламенем, борьба с которым на первых порах была невозможна, так как силою удара была повреждена водопроводная сеть и разрушена водонапорная башня. Жертвы насчитывались тысячами одними убитыми, но, конечно, цифры были гадательны, так как население в панике покинуло город, рассыпавшись по окрестностям и наводнив их беглецами вплоть до Балтимора. Морская военная школа в Аннаполисе была разрушена. Однако из воспитанников при взрыве погибло немного. Оставшиеся были вначале единственной организованной силой, бросившейся на помощь обезумевшим жителям и на борьбу с огнем.
Газеты передавали о героизме этой самоотверженной молодежи, проявившей энергию, настойчивость и смелость, которыми так гордятся американцы.
Наряду с описанием этих потрясающих событий незамеченными прошли мелкие подробности, которые многие объясняли разыгравшимся воображением очевидцев. Многие рассказывали, особенно в военной школе, что одновременно со взрывом погребов взорвались и некоторые отдельные, находившиеся в разных местах, заряды. Разорвало, якобы, несколько заряженных ружей, зарядные ящики с патронами в орудийном парке школы, несколько морских автоматических мин и так далее. Проверить это было трудно, так как все было похоронено под развалинами.
Одновременно с катастрофой в Аннаполисе разыгрались психические эпидемии, напомнившие знакомые уже по недавнему прошлому массовые заболевания в Роаноке, Атланте и Кентукки.
Чарльстон и Хентингтон в штате Виргиния приблизительно в то же время, около полудня 8 апреля, были охвачены стадным чувством безотчетного, неудержимого беспокойства, перешедшего вскоре в панический страх. Улицы наполнились встревоженными толпами, двигавшимися без смысла и цели по всевозможным направлениям сплошной массой, все сильнее возбуждавшей себя взаимным влиянием. Жизнь в городе остановилась. Часть населения бросилась вон из него, влекомая каким-то неодолимым стремлением бежать, не зная, куда и зачем. Это было дикое зрелище, по словам газет: эта толпа жителей современного города, оторванных внезапно от повседневных дел, – клерков, ремесленников, рабочих, упитанных буржуа и жалких оборванцев, женщин в светлых весенних костюмах и работниц с фабрик в своих отрепьях, – толпа, запрудившая улицы и дороги, ведущие на восток.
Но одновременно разыгрались и другие события.
В возбужденном состоянии достаточно малейшего повода, чтобы направить стихийную силу в определенное русло. И повод не замедлил явиться.
В одной из толп, собравшей летучий митинг, выступил с речью молодой рабочий с бумагопрядильной фабрики. Это была не речь, по словам очевидцев, а безумный вопль ужаса и негодования, обуявший тысячную толпу порывом сокрушающей ярости. Подобно степному пожару, стихийно с громом и ревом, затопили эти людские волны кварталы, где среди садов и парков ютились виллы и особняки, и не оставили там камня на камне. Одновременно толпа захватила вокзалы, телеграф, почтамт и другие важные пункты.
Но эта стихийная победа не была устойчивой. Люди были все под тем же гнетом непрекращающегося страха; одни толпы сменялись другими. Они приходили, уходили, на час воодушевлялись направляющей волей, потом присоединялись к стремительному потоку, изливающемуся из города. Это был механизм, в котором выскочило какое-то главное колесо, связывающее движение частей в стройное целое. Вертелись колеса, скрипели оси, постукивали пружины, но все это кружилось безо всякой связи и цели, вразброд, как улей, из которого вынули матку. Из Ричмонда были вызваны войска – пули должны были восстановить утерянный смысл.
Такие же картины разыгрывались и в Хенингтоне с тою только разницей, что здесь из тюрем вырвались заключенные, и в городе начались грабежи, убийства, и вспыхнул пожар.
Как было объяснить все это и связать с угрозой таинственного корреспондента, точно предсказавшего время и место этих событий? Положим, взрыв в Аннаполисе можно было приписать заранее подготовленному злоумышлению, но как предвидеть то, что произошло в Виргинии?
Печать до того растерялась, что даже не пыталась найти этому толкования. Но тем яснее видна была по газетам паника, охватившая общество и прежде всего отразившаяся на бирже. Уже на следующий день после катастрофы в Аннаполисе и событий в Чарльстоне это сказалось в Нью-Йорке головокружительным падением многих бумаг и полным замешательством в финансовом мире. Общими усилиями правительства и банковских кругов положение было скоро восстановлено, но все же в городе чувствовалась страшная нервность и неустойчивость, грозившие при малейшей встряске дать новую еще более сильную вспышку.
Печать единодушно требовала от правительства немедленных и решительных мер, хотя никто и не мог указать, в чем собственно эти меры должны были заключаться. Первое, конечно, что требовалось, это установить местонахождение станции, отправившей зловещую депешу, ибо, несмотря на всю дикость предположения причинной связи между этим грозным возвещением и событиями 8 апреля, – приходилось допустить, что связь эта есть, и найти место отправления радио – значило найти начало нити этого клубка.
Правительство опубликовало успокоительное воззвание, в котором сообщалось, что в Чарльстоне и Хентингтоне наступило спокойствие, «эксцессы, допущенные злоумышленными и беспокойными элементами, ликвидированы», размеры бедствия в Аннаполисе выясняются, но что, по-видимому, они не так велики, как сообщалось в газетах.
Наконец, говорилось глухо, что меры к раскрытию причины и виновников происшедшего приняты. Население призывалось к спокойствию.
Шутки и карикатуры по поводу радио от 1 апреля прекратились.








