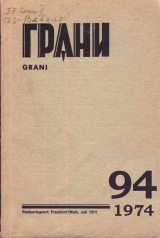
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Все целы? – кивнул на них Гаврилов.
– Целы, – процедил старичок. – А ежи, выходит, больше не требуются? Так понимать надо? – Он махнул рукой на уходящих в другую сторону женщин.
– Да брось ты, отец, – вздохнул Гаврилов. – Ежи и раньше не требовались.
– Мне бросать нечего, – разнервничался старичок. – Вы меня бросаете, а не я вас, – и, взглянув через подвязанные веревочками очки на измученного небритого капитана, зло добавил: – А финны, между прочим, лучше вас воевали.
– Зима у них была, – тихо сказал Гаврилов и повел «Иж» за рога, стесняясь при старичке влезать в седло.
– Так что же, и мне зимы ждать?! – закричал ему в спину старичок. – Вот она, зима! – и показал рукой на низкие, вовсе черные тучи.
Гаврилов, не оглядываясь, свел мотоцикл с дороги на берег и там вдоль самой воды поехал в сторону железнодорожного моста.
– Раненые есть? – кричал он.
Последние женщины покидали траншеи и уходили к шоссе. Некоторые наспех ополаскивали в реке лица.
– Быстрей! Быстрей! – отгонял он их от воды.
Они покорно поднимались и брели вслед ушедшим. Гаврилов доехал берегом до железнодорожной насыпи, потом метров двадцать вдоль нее, а затем, повернув, поехал по этой стороне бугра к церкви. О паровозе, который намертво, уже не пыхтя, прирос к рельсам, и о машинисте с кочегаром он старался не думать. До них было километра полтора, и приказывать усталым женщинам тащить из паровоза убитых было свыше его сил.
– Раненые есть? – снова кричал он.
Старшая и еще три женщины спешно зарывали недалеко от церкви убитых поварих.
– Иди, Марь Ивановна… Я докончу. Иди, – сказал капитан.
– Еще этих надо, – кивнула старшая на бойца и кожаного, лежавших на бруствере. Она не решилась похоронить их рядом с поварихами. – Кожанка у него хорошая, – мотнула головой на убитого.
– Иди, – сказал Гаврилов. – Догоняй народ. И смотри, если танки… лопаты пусть сразу кидают.
– А ты как?
– Я на колесах.
– Догонишь?..
– Нет. Я теперь для вас хуже чумы… Если, конечно, танки появятся, – поправился он. – Прощай, не побаловались…
– Ничего, авось свидимся. Держи лопату. Айда, девушки! – крикнула старшая женщинам и повела их с бугра.
«Стой! – хотел он крикнуть ей вслед, глянув на кожанку лейтенанта. – А, ладно… Вроде неловко. И так его раскулачил».
Он спустился в траншею и начал за плечи бережно стягивать туда мертвых, сначала бойца, потом лейтенанта, стараясь уложить их поаккуратней.
«Вот какие пироги…» – вспомнил он слова кожаного.
– Не пироги, а синяки! – сказал вслух. – Точней, на орехи достанется! – и, выкарабкавшись из траншеи, стал сбрасывать землю с бруствера на убитых. «Пусть хоть женщины до переезда дойдут. Тогда уж вильну в сторону на почту…»
Ему не хотелось живому и с виду целому проезжать на мотоцикле мимо бредущих по шоссе, измученных копкой и бомбежкой окопниц.
«Чего я для них сделал? Ну, спекли бы картошки вместо твоей каши!» – продолжал он спорить с собой, а голова от всего перевиденного опять начинала гудеть в висках и ныть в затылке. «Сто двадцать верст за пять мешков пшена. Вон какая каша из-за твоей каши… – пробовал отшутиться, но шутки не выходило. – Не нашли б начальства, ушли бы пешком, и все дела. Этот, в балахоне, их не удержал бы… – с раздражением вспомнил он кругленького старикашку. – Финны дрались лучше… Ну и что, что лучше? Без тебя знаю, что лучше… Смотри, отец! Добрешешься!.. А немцы придут и узнают, что ты рытьем заправлял, тоже по голове не погладят… – непонятно зачем грозился он очкастому старичку. – Да и мне, папаша, трибунал светит. Пора, видно, за квитанцией ехать…»
Он быстро забросал мертвых землей. Потом достал из планшетки чернильный карандаш и, послюнив, у самого черенка лопаты вывел:
ДВЕ МОСКВИЧКИ, Л-Т ГАВРИЛОВ
«А, черт, как же его звали?» – Фамилии бойца он вовсе не знал и потому чуть повернув лопату, написал:
БОЕЦ… (РККА)
И, помедлив немного, добавил рядом с фамилией кожаного род войск: НКВД.
– Чтоб со мной не спутали! – сказал он и воткнул лопату в землю по самую надпись.
И тут до него донеслось еле слышное не то нытье, не то плач.
– Кто там? – крикнул он.
Всхлипы усилились.
– Где ты? – тревожно закричал капитан.
– В церкви… – донесся бабий голос.
Гаврилов бросился в храм. В темном закутке, у ризницы, жалась какая-то женщина в ватнике и в лыжных шароварах.
– Что, раненая? – со страхом спросил Гаврилов, потому что машина уже ушла.
– Нет, – продолжая выть, мотнула головой Санька.
15. Раненые есть?
Студент вывел машину на дорогу и стал ждать. Женщин больше не несли.
– Все, что ли? – крикнул он в темноту, закрывая задний борт. Всех раненых было девятнадцать – пятеро бойцов и четырнадцать женщин.
– Возьми меня, парень. Я все равно как раненая, даже хужей, – ныла крутившаяся возле грузовика Ганя.
– Ну черт с тобой, лезь, бабка, – согласился студент. – Лопату брось. На колесо заднее встань и перемахивай. И по-быстрому…
Он боялся, что попросится еще кто-нибудь из проходивших мимо женщин, но они шли молча, вовсе не похожие на тех вчерашних – на пересылке.
«Хорошо бы рыженькую подсадить. Совсем доходила…» – студент огляделся, но Лии нигде не было.
– Патроны у кого остались? – крикнул он бойцам в кузов. – Я все в небо пустил.
– Бери, – ответил сверху раненый и протянул ремень с двумя кожаными подсумками.
– Ну, все. Поехали! – крикнул студент и полез в кабину. – Цацку только перевесь, – сказал Гошке, кивая на автомат. – Пусть в окно смотрит. Или дай диск вытащу.
Он оттянул защелку и, к Гошкиному неудовольствию, положил магазин на сиденье рядом. «ГАЗ» тронулся, сразу забило ветром в кабину, и стало холодно.
– Пронимает? – подмигнул студент. – Зато сектор обстрела какой! – и показал на пустую раму. – Ты теперь стреляный!
– Что? – крикнул Гошка. Из-за ветра ничего не было слышно.
– Страшно было? – крикнул шофер.
Гошка неопределенно пожал плечами. «ГАЗ» прибавил скорость, и впору было закрывать лицо рукавом.
– Мне тоже! – кричал шофер. – Руки аж дрожали. Ни разу не попал.
Гошка ничего не расслышал и не понял, но согласно кивнул.
– А рыженькая где? – снова крикнул шофер.
Гошка опять кивнул. Он не слышал.
– Рыжая где? – больно дунул ему в ухо водитель.
– Там! – крикнул Гошка, закрывая от ветра ладонью голос.
– Живая?
– Да-да, – закивал Гошка.
Он не знал, как сказать про Лию. Отчаянно било ветром, а сразу за переездом посыпался какой-то снег, твердый, вроде мелкого града. «Кажется, он называется крупа», – вспомнил Гошка.
Лию он последний раз видел, когда бежал с автоматом к машине. Она как будто позвала его, но ему было некогда и неловко разговаривать с ней при капитане, да и позабыл он тогда о всех их дневных разговорах. После бомбежки они сразу вылетели из головы. Тогда на бугре он уже думал о раненых. «Ее там все равно не оставят», – успокаивал себя, стараясь из солидарности с шофером не прикрываться от бившей в лицо крупы, и гладил правой рукой автомат, а левой лежащий на сиденье диск. Крупа барабанила по лицу, и нельзя было попросить шофера, чтобы ехал помедленней. О том, что с ним было во время бомбежки, Гошка старался не думать.
Лия видела, как Гошка побежал на бугор к капитану, и, поняв, что он не вернется, даже не огорчилась. Разговоры до бомбежки были далеким детством, а сейчас наступал последний и решительный момент, и нельзя было его пропустить. «Гошенька мальчик, совсем еще мальчишечка, – усмехнулась она, вспомнив его позеленевшее, недомытое, страдальчески-счастливое, измученное лицо и тоненькую шейку, на которой болтался автомат. – Спрошу Санюру. Не захочет – одна останусь».
– Жива, – снова кивнула она мрачному капитану, который второй раз прошел мимо ее окопчика. «Слава богу, не ранена. Но и раненая бы осталась… Если ранили друга, перевяжет… Ах, это не то… Это песня… За рекой много оружия… Там, наверно, и раненые… Но раненых должен забрать капитан. А я возьму только оружие. Винтовку. Жалко, что мы не изучали ручной пулемет…»
Она посмотрела вслед капитану, тот к мосту не пошел, а вернулся к церкви.
«Надо от него спрятаться, не заметит. А вдруг за мостом раненые?.. Может, старичка попросить. Он увезет их к себе в деревню на тачке, спрячет на чердаке или в погребе. Нет, это безобразие, что капитан не забирает тех раненых!»
Она хотела подняться, но ноги были словно не свои.
«Ничего, еще подожду… Пусть пока женщины уходят. Капитан должен все-таки забрать с того берега красноармейцев. Наверно, туда поедет шофер. Какой он молодец! Не испугался. Стрелял. Хорошо бы он остался, а раненых повез в госпиталь капитан…»
– Ты чего? – склонилась над ней Санька. – Чего лежишь? Простудишься!
– Ничего, – слабо улыбнулась Лия. – Просто жду. Мы же договорились… забыла?
– А это… про винтовки. Пустое.
– Как хочешь, – холодно сказала Лия.
– Брось и не думай. Давай поднимайся. Совсем чокнулась, подруга.
– Как хочешь, – холодно сказала Лия.
– Пошли в церковь. Сумку нашу заберем и ведро. Сахарку насыплем.
– Иди, – сказала Лия. Она еле передвигала ноги.
Женщины быстро уходили с бугра. Некоторые несли раненых. Те стонали. Возле стены храма, где обрывалась задняя траншея, лежали две убитые поварихи. Сюда же, таща неловко, словно бревна, принесли командира в кожанке и бойца, что прибегал с того берега за кашей.
– Хороша курточка, – на миг отвлеклась Санька. – Неужели закопают? Никуда тебя не пущу, – снова обернулась к Лии.
– Иди-иди, – сказала Лия. – В Москве убивай свои пять немцев.
– Вот врежу сейчас, – рассердилась Санька. – Марь Ивановна! – прибавила она голосу, но не так, чтоб та услышала. – Вот сдам тебя сейчас, будешь тогда…
– Так ты еще и предатель?! – прошипела Лия.
Они стояли друг против друга, одна ладная, рослая, другая тощая, маленькая, готовые вцепиться одна в другую.
– Дура, – первой остыла Санька. – Да глянь на себя. Чего ты им сделаешь? На хвост соли насыплешь? Не видела, чего сейчас было?
– За рекой есть оружие, – повторила Лия.
– Оружье, оружье… Дура! Да ты что, храбрей меня? С умом надо. Видишь, тут оборона никуда…
– Я пошла. Прощай, – надменно кивнула Лия и, с трудом волоча ноги, спустилась к реке.
– Стой! – Санька схватила ее за плечо.
– Раненые есть? Марш, марш… Быстрей уходите! – кричал капитан – он ехал на мотоцикле вдоль самой воды, отгоняя от нее женщин, которые ополаскивались на дорогу.
– Уйди, – сказала Лия.
Капитан проехал дальше к железнодорожному мосту. Быстро темнело, становилось одиноко.
– Не пущу тебя, – вдруг заныла Санька.
– Тогда идем…
– Не, там мертвяки, – тянула Санька… – Я их боюсь… – Теперь она выла, как ее детскосадовские малолетки.
– Иди в Москву, – беззлобно, устало ответила Лия.
– Нет, – Санька мотала головой.
– Уходи!
Снова приблизился стрекот мотоцикла. Капитан возвращался с другой стороны бугра.
– Заметит! – обрадовалась Санька.
– Пригнись, – выдохнула Лия и неловко кинулась к мосту.
– Вернешься? – спросила Санька. – Я тебя в церкви подожду.
– Можешь не ждать! – крикнула Лия, почти уверенная, что подруга останется.
Она потащилась через мост. Было темно и жутковато. Направо от моста, берегом, шли старичок в балахоне и трое мальчишек.
«Надо бы окликнуть их, – подумала Лия. – Вдруг там раненые?..» Но побоялась, что услышит капитан.
Первого убитого она увидела сразу за мостом на развороченной взрывом булыжной дороге. Он выглядывал по грудь из воронки, сжимая в руке обломанный черенок лопаты.
– Товарищ. – Она нагнулась над ним и тронула за плечо. Он покорно и как-то чересчур легко повернулся, и она вдруг увидела, что он не засыпан, а обрублен по пояс.
– Ва-ва-ва!.. – завизжала она, но тут же, собравшись с духом, до крови закусила губы.
– Ва-ва! – тряслось, надрывалось в ней, как будто снова началась бомбежка.
Не оглядываясь, она обежала воронку и кинулась в лес. Тут было еще темней.
– Ра… Раненые есть? – задыхалась Лия, а сердце выбивало барабанную дробь. – Ра… Ра…
Ее начало рвать. Она покачнулась, ударилась лбом о березу, обняла ее, прижалась, и уже рвать было нечем, а Лия все никак не могла оторваться от березового ствола.
– Раненые есть? – наконец спросила она шепотом.
Никто не отвечал. Только с того берега еле слышно доносилось Санькино:
– Лийка! Лийка! – но отвечать не было сил.
16. В тепле и на холоде
– Чего таишься? – строго спросил Гаврилов. – Немцев ждешь?
– Немцев?! Скажете тоже… Подругу, – всхлипывала Санька. – За винтовками побежала.
– Чего? – не понял он. – Какие винтовки?
– Обыкновенные. На тот берег за ними побежала.
– А ну вылазь! – разозлился Гаврилов. «И что они все заладили про тот берег?..»
– Вылазь, вылазь. Нету там никого. Я от речки всех шуганул…
– Врете! – обрадовалась Санька.
– Я тебе не Геббельс. А ну, выходи. Где она, подруга? – спросил, когда Санька, подхватив кошелку, вышла за ним из храма. Было совсем темно, холодно, и с неба быстро сеялась колючая крупа. – Никого нету, видишь.
– Лийка! – крикнула Санька. – Нет, она на тот берег побегла! Лийка! – завыла снова. – Лийка! Документы ее у меня. Сумка у нас на двоих одна. Лийка!
Гудел только ветер. В пустом черно-белом поле становилось страшновато.
– К немцам пошла, – злобно отрубил Гаврилов.
– Нет, она комсомолка, еврейка, – захныкала Санька.
– Ну тогда снова кричи!
– Лийка! Лии-ий-ка! – неслось над берегом. – Ой, как же я? – заныла Санька.
– Беги за ней. Пять минут дам.
– Не – страшно… – испуганно зашептала Санька. – Я туда боюсь. Лийка! Ли-ий-ка! – в голос выла она.
– Да нет ее там, – как мог уверенней сказал Гаврилов. – Я никого за мост не пускал. Лийка! – крикнул он сам.
– Вместе пойдемте, – схватила его за руку Санька.
– Нет, – твердо сказал он и вырвал руку. – Нет.
А сам вслушивался в темноту: вдруг там раненые? Но никто не стонал или стонал, но тихо. «Как их брошу? И девать мне их некуда. По мне уже трибунал плачет».
– Нет, – сказал он жестко. – Туда не пойду. Ее там нет. Со всеми ушла.
– А я как? – захныкала Санька.
– За мной садись. До переезда подкину. «Хоть спину мне прикроешь, – подумал он. – Эх, мародерствовать так мародерствовать. Надо было уже заодно кожан и ушанку у однофамильца одолжить. А то теперь крышка тебе, Ваня», – впервые назвал он себя по имени. – Садись! – приказал Саньке. – Вот бинокль повесь пока. И кошелку подложь, а то набьет нужное место.
– Ли-и-ий-ка! – крикнул уже с мотоцикла.
Никто не отозвался.
– Держись, – сказал капитан, и «Иж» запрыгал вниз по дороге.
Теперь уже мело как следует. Снег летел прямо на мотоцикл, на его засиненную фару и, кроме холода и резкого ветра прохватывало еще и жутью.
«Как на том свете, – подумал Гаврилов. – И вправду бы туда не загреметь. – Теперь он уже не помнил о немцах, словно его от них со спины прикрывала теплая Санька, а глядел только на дорогу. – Поворот бы не проскочить. Ничего не видно. Все белое». Но будка со шлагбаумом, задранным, как журавль, была на месте.
– Слезешь? – притормозил капитан. – Твои где-нибудь впереди. Далеко не ушли.
– Нет-нет, – уткнулась в него Санька, не разжимая на его груди крепких рук.
– А не набило?..
– Обойдется.
– Ну тогда терпи. Сейчас серьезней потрясет.
– Надо было вам кожанку с него снять, – дыхнула в ухо, словно услышала его мысли, Санька.
– Ему холодней, – нехорошо пошутил Гаврилов, а Санька еще крепче вжалась в него, повисла на нем, сводя рукавицы на его замерзшей груди.
«Вот и устроился, – подумал он. – Отлично провел операцию. Благодарность в приказе с занесением в личное дело. Натрясется девка, – вдруг переменил мысли и улыбнулся, сколько позволял ветер и колючий твердый снег. – Только бы квитанцию не потеряла очкастенькая… А может, опять дозвонюсь, объясню… Тепло от девахи, – благодарно подумал он. – Нет, не вывелась еще баба на земле советской!..»
– Замерзла? – Он повернул к ней щеку, перерезанную ремешком фуражки.
– Не… – Она повела грудями за его спиной, и он это остро почуял через свою шинель и ее ватник.
– Терпишь? Скоро доберемся. Нам на почту надо.
Ему хотелось с ней разговаривать. Снег теперь не так мешал – бил с правого бока. На холме, при въезде в деревню, мотоцикл два раза тряхнуло, как вчера «ГАЗ», но капитан не выпустил руля и, глядя на слабо черневшие в белом летящем снегу провода, отыскал почту. Было опять заперто, и в окне не светилось. Гаврилов ударил в дверь, чертыхнулся, потом, взглянув на навесной замок, вспомнил, что под перильцем должен быть ключ. Ключ действительно нашелся, и Гаврилов открыл дверь. Мело по-прежнему. Через летящую крупу Санька на краешке мотоцикла казалась сиротливой и заброшенной.
– Прошу, пани! – крикнул он ей с крыльца. – Заворачивай. Я скоро вернусь. Тут близко.
«Только в яму не загреми, – сказал себе, забираясь в седло. – Тут вроде под столбы рыли».
В третьей от края избе тоже было темно. Гаврилов толкнул дверь в сени, потом еще одну, ударился в темноте о стол и выругался как следует.
– Живой кто есть?! – закричал в темной, как шахта, хате.
– Чего тебе? – засопел в углу пьяный недовольный голос.
– Связистку, мать вашу…
– Нет ее. В районе она. Провод оборвали. В район Глашка потопала.
– А, черт, – вздохнул Гаврилов, вышел к мотоциклу и поехал назад по своему следу. У почты он слез, постоял немного на крыльце, поглядел на летящую крупу, а потом махнул рукой, снова завел мотоцикл и потащил его вверх по ступенькам.
– Стучит, как примус. Теплей с ним будет, – сказал он Саньке, но тут же приглушил мотор, вспомнив, что от выхлопных газов можно намертво отравиться.
Санька сидела на корточках перед голландкой.
– А, да ты уже затопила? – то ли удивился, то ли обрадовался Гаврилов и оглядел комнату. В печке трещало, лампа горела, уходить отсюда не хотелось. «Да и куда в такую ночь? – сказал он себе. – Немцы небось тоже живые: до утра не сунутся… Смотри, – перебил себя. – А чего смотреть? В крайнем разе девка ни при чем, а я отобьюсь. Или что, пропадать мне по такой погоде с продырявленной дыхалкой? Слыхал, что докторша про простуду объясняла?..»
– Займемся техникой, – сказал вслух, чтобы отбиться от разных мыслей, и три раза крутнул ручку.
В телефонной трубке молчало. Тогда он крутнул ручку, не кладя трубки на рычаг. В ухо пошел треск, и снова стало тихо.
– Где-то тут был сейф. Придется распатронить… Греешься? – Он обернулся к Саньке. – Ноги не сожги.
Санька, скинув ботинки и подтянув повыше лыжные брюки, сидела у печки, сунув ноги в чулках чуть не в самую топку.
– Заботливый вы! – отозвалась она, не оборачиваясь.
– Был, девка, был. Вот сейчас позабочусь об этой сберкассе, – хлопнул он по боку конторского ящика. – Эх, без привычки, но где наша не пропадала.
Он достал из мотоциклетного подсумка гаечный ключ. Замок не поддавался. Ящик ерзал по полу.
– Иди сюда! – крикнул Саньке. – Пусть и тебя привлекут за соучастие. Сядь на кассу. Так. Теперь вроде лучше. – Он взял полешко, поставил на висячий замок ключ, а сверху ударил полешком. С первого раза не получилось. – Теплая ты, девка. С тобой отвлекаешься, – сказал и ударил второй раз по ключу. Замок отскочил, а с ним и ушко ящика.
В кассе деревенской почты, кроме вчерашнего червонца, лежали еще несколько трешек и рублевок и несколько длинных узких не то книг, не то тетрадей, от которых отрывают квитанции. Кроме того, в ящике стояли две бутылки, заткнутые марлей. Одна полная, другая споловиненная вчера шофером.
– Чудом не разбил, – удивился Гаврилов и поднес книги к керосиновой лампе. Его квитанция была аккуратно подколота булавкой. – Везет тебе, политрук, – присвистнул он. – Семь бед – одна холера! Согреться хочешь? – обернулся к девушке.
– Могу, – откликнулась Санька.
– Закусить только нет. Или погляди, может, что в шкафу есть? За все сразу и заплатим.
«На хрена тебе деньги, политрук, – горько сказал он себе. – Аттестат посылать все равно некому. Почта туда так же ходит, как этот работает…» – Он кивнул на телефон.
– Алло! Алло! – снова крикнул в трубку. – Ну и молчи, не больно надо!
– Веселый вы, – засмеялась Санька. – Тут квашеная капуста одна. Нет, картошка еще есть. Спечь можно.
– Ну и порядок, – повеселел он, словно забывая, что между этой деревенской почтой и немецким передним краем никаких нету войск, а только один снег да ветер. Но печка трещала, крупа в лицо не била, квитанция за разговор была в кармане, и девушка уже собирала на стол.
«Надо будет – немцы разбудят», – сказал он себе, присев на топчан, покрытый серым шинельного сукна одеялом. И, глядя на хозяйничающую Саньку, он уже видел, как по доминошным камням, когда всякая игра у тебя на руках, чем сейчас у них обернется.
– Раненые есть?! – снова закричала Лия, и тут задуло, замело, и с черного толстого неба повалил холодный острый снег.
– Я винтовок не увижу, – испугалась она и, пересиливая себя, заковыляла к воронке. – Его закопать надо, – вспомнила с ужасом о красноармейце, но, вспомнив, уже не могла отступить и стала искать лопату. Лопат нигде не было. Она обошла воронку справа и тут же поскользнулась и упала во вторую воронку, уже не на дороге, а когда стала выбираться из этой второй воронки, больно ударилась коленом о сошку перевернутого ручного пулемета.
– Нет, тут должны быть винтовки, – чуть не плача от боли в ноге, успокаивала она себя. – Я сначала найду винтовку, а потом вернусь и закопаю красноармейца.
«Не вернешься», – твердил кто-то внутри нее.
– Честное слово, честное комсомольское! – вслух плакала Лия, пробираясь на ощупь между леском и берегом. На дереве что-то чернело. Лия вздрогнула, застыла, потом увидела, что это повисла на ветвях развернутая, как парус, красноармейская шинель.
– Это, наверно, взрывом подняло, – сказала она громко. – Им неудобно было рыть в верхнем… – И тут, вспомнив, что тот, обрубленный, боец тоже был в гимнастерке, чуть не задохнулась от вновь подступившей тошноты.
– Раненые есть?! – закричала она истошно.
Никто не отзывался. Она силой заставила себя снять с дерева шинель и набросить на плечи. Тошнота прошла, и сразу стало теплее. «Надо вторую найти, для Санюры, – подумала Лия. – И оружие… Самое главное – оружие…»
– А я про вас секрет знаю, – глотнув второй раз первача, вспомнила Санька, но тут же прикрыла рот рукой. Ей стало стыдно и как-то жалко капитана, а еще больше себя. Она в первый раз осталась почти впотьмах с мужчиной, если не считать Витечки и папаши одного ребенка из детсада. Тот, последним придя за своим дошкольником, которого еще раньше забрала жена, прижал Саньку в раздевалке и начал нешутейно лапать и вообще себе позволять. У него были бессовестные ясные глаза и, главное, властные руки. От этих рук она сразу сдурела и никак не могла отбиться. Но и он ничего не мог с ней поделать, потому что в других группах еще были дети и воспитатели и сама директорша не ушла домой.
Два дня потом она его боялась встретить, но ребенка водила жена, а когда он опять стал водить, то к Саньке больше не приставал. Сперва это ее обижало, после злило, и она даже стала к случаю и не к случаю вертеться в раздевалке и однажды нарочно мазнула его животом, а он только засмеялся, и все…
А Витечка оказался телком. И теперь, глядя на капитана и вспоминая, что про него говорила Марья Ивановна, Санька и верила ей, и не верила, а сама чуяла, что что-то будет, и ей было страшно, жутковато, но любопытно, как никогда в жизни. И все тело, а всего больше живот и ноги, растревоженные мотоциклом, ждали, ждали, а капитан макал в соль печеную картошку, пил из стакана самогон, заедал квашеной капустой и все медлил и медлил.
«Может, и вправду, инвалид?» – думала Санька и опять с ужасом вспоминала даже не бомбежку, а то, что она видела в ту минуту: как ее, Саньку, всю белую, голую, кладут в мокрую липкую землю. Ее груди, плечи, живот засыпают червивой землей; плечи, груди, которыми она так любовалась, крутясь нагишом перед зеркалом, на зависть и назло Лийке, которая сама-то, верно, себя стеснялась.
Хороша я, хороша,
Когда вся раздета, —
распевала Санька, подбирая живот и нахально крутя перед Лийкой пышными бедрами.
И вот теперь вроде сама судьба так повернула, и привез ее сюда на мотоцикле одну из трех сотен баб, и надо же.
– Какие еще там секреты? – устало сказал Гаврилов. – Скинь вон брюки. В земле они. Спать будем.
Он сейчас глядел на себя словно со стороны, и неохота и стыдно было ему заводить всякие игры и уговоры. Настроение да и время было не такое. Он знал, что и без всего этого под одеялом и шинелью все уладится.
Триста без малого женщин, растянувшись по шоссе больше чем на два километра, восьмой час брели под ледяной острой крупой, которая среди ночи вдруг обернулась дождем. Они сами толком не знали, куда идут, то ли в самую Москву, то ли просто поближе к ней, на другие окопы, и несли на плечах лопаты, а на них кошелки с пшеном или сахаром, а у некоторых были еще и ведра, тоже полные продуктов.
Было тихо. Поезда не стучали, самолеты не выли, никто не стрелял. Старшая шагала среди последних, не подбадривая никого и не ругая. Она чуяла сейчас в себе да и в других такую безотказность, что приказали бы повернуть всех, она бы их повернула, да они бы и без команды повернули. А дали бы винтовки и приказали лечь в грязь, которая сейчас расползлась по всей земле, – легли бы и даже, не умея, стреляли. Потому что усталость, покорность и злоба были уже в них такого накала, что этого добра могло хватить (и хватило ведь!) на годы и годы и еще бы детям осталось.
Но никто не приказывал им поворачивать, и винтовок им тоже не дали, и они плелись по шоссе, тащили кошелки и ведра, пока километрах в тридцати от брошенной церкви их не остановили молодые парни на мотоциклах и в таких же кожаных куртках, какая была на убитом лейтенанте. Эти приказали им сложить вещи в придорожном бараке, а с рассвета, который пришел почти сразу, одним назначили рыть противотанковые рвы вправо и влево от дороги, а другим тоже рыть землю и насыпать ее в мешки. И женщины стали ковырять грязь так, будто только сюда и шли, и не было никакой вчерашней бомбежки, ни колючего снега, ни тридцати верст ходу под крупой и дождем, а была одна земля, сверху липкая, а под низом точно кирпич, и они жалели, что не ухватили с собой кирок и ломов, от которых сто лет назад, на пересылке, убегали, как черт от ладана. Все было, как в позапрошлый вечер и во вчерашний день, только вот земля оказалась сверху помягче, а снизу – потверже, и уже не крутились рядом худой капитан и стеснительный шофер, а за-место чудного старичка в балахоне теперь всем заправлял толстый и мордатый инженер третьего ранга.
17. Мытье и стрижка
– Ты что? Девка? – удивленно спросил Гаврилов. Он уже обнимал ее всю, открытую, радостную, покорную, нетерпеливую, поборовшую вдвоем с первачом его отчаяние, усталость, страх за семью и Родину, и вдруг – на тебе…
– Нет… Не бойся, – соврала она и жадно прижала его к себе, притянула за плечи, а там, внутри, боль ожила, но была небольшая, зато сладкая, такая живая, родная боль, что сразу сняла всю тоску, все томленье, что собирались в ней почти два года. Она изнутри поборола Саньку; Санька думала, что помрет, и с радостью готова была умереть, но вдруг не померла, а усталая и веселая осталась на топчане, и с ней был капитан, и она целовала его в кислые от капусты губы.
«Ох, девки, я баба уже! – радостно кричалось в Саньке, и хотелось вот так, голяком, выбежать на улицу и кричать на весь свет: «Женщина я! Я – женщина!» И плевать было, если скажут: так он тебе не муж! Ну и пусть. А чего с их, с мужей?! Вон маманя как со своим алкоголиком мучилась. А я баба! И мужа мне не надо. Вот какое счастье во мне. А не муж, так все равно мой. Вот захочу, обниму, прижму и не отпущу от себя. А? И глядите, зырьте, завидуйте!»
– Капитан-капитан, улыбнитесь, – вдруг пропела Санька неожиданно для самой себя, и Гаврилов не узнал ее голос, такой он был другой, веселый, будто его долго прятали, таили, а он вырвался и хлынул, как весенняя вода с гор, и впервые за четыре почти месяца, с самого 22 июня, капитан Гаврилов тихо и счастливо засмеялся.
И гордая Санька не засыпала с ним до утра и ненасытно любила его, как взрослая баба, не тревожась и не чуя, что уже приняла в себя пацана-безотцовщину… которого призовут на действительную ровно через двадцать лет, в год, когда полетит первый космонавт Юрий Гагарин.
А километров по прямой за двадцать, на том берегу, кутаясь в шинель, Лия ползла вдоль леса, искала лопату и винтовку.
– Санюра! – вдруг крикнула она, но при таком ветре вряд ли голос мог долететь до церкви. Надо было одной искать, и она искала и искала, но ни лопат, ни винтовок не было.
«Надо взять пулемет, – решила Лия. – Кажется, он для двоих. Я видела его в Осоавиахиме. Может быть, разберусь». Она вернулась во вторую воронку и подняла тяжелый «Дегтярев», закинув за плечо противную сошку-двуногу. Так, пошатываясь, она перешла мост и, обессиленная, закричала:
– Са-ню-ра!
– Ю-у-ра! – разнеслось по берегу, и больше никто не откликнулся.
Лия опустила пулемет на землю и кинулась к церкви.
– Санька! Санька! – надрывалась она. – Да не прячься, Санька! Санька, черт тебя побери! – Она забыла все другие ругательства. Санюры нигде не было. На верстаке стояла керосиновая лампа, которую забыли погасить, но керосин, видно, в ней кончился, фитиль коптил, и свету от нее было мало. – Санька! – крикнула Лия, и только гулкие своды передразнили: – Ань-ка-а.
– А сумка где? – вспомнила Лия и, схватив лампу, стала шарить в церкви. Сумки не было. На полу валялись только пустые мешки из-под крупы и сахарного песка.
«Я схожу с ума, – подумала Лия. – Нет, я просто так долго там копалась, что она не выдержала и ушла. Ведь звала же меня она: «Лийка! Лийка!» Надо посмотреть на дороге».
Но на дороге, кроме ветра и колючего снега, никого не было. Лия возвратилась назад, и хоть мело и холод стоял отчаянный, в церковь вошла только на минуту – взять два пустых мешка и тут же побрела мимо траншей, ища лопату. Лопату она нашла и спустилась с ней к мосту, подняла ручной пулемет и с мешками, лопатой и пулеметом побрела на тот берег. Глаза ее уже успели привыкнуть к темноте. Она нашла обрубленного взрывом красноармейца и стала засыпать его землей. Теперь он не внушал ей такого ужаса. Все-таки он еще недавно был живым и, наверно, добрым и отважным человеком. Он не бросил своих товарищей, и она тоже не бросит. Она засыпала его землей, думая о том, что утром, когда рассветет, она найдет и похоронит еще двух красноармейцев.
Чуть выше воронки, левей от дороги, Лия разглядела начатый окоп и стала неумело его углублять, чтобы спрятаться в нем вместе с ручным пулеметом. Ведь немцы могли появиться каждую минуту.
Думая об убитых красноармейцах и где-то спрятавшихся немцах, она работала без роздыху, наверно, часа два, пока крупа не растаяла и не полилась дождем. Тогда, тревожась за непонятный и, наверное, такой капризный, но необходимый ей ручной пулемет, она отбросила лопату, села на край окопа и, как ребенка, прикрыв пулемет шинелью, стала его разглядывать. Сверху был круг, она знала, что это магазин и в нем патроны и, кажется, когда патроны кончаются, магазин снимают и ставят другой. Поэтому при пулемете два красноармейца: один стреляет, а другой меняет диски. Но бывает так, что остается всего один пулеметчик, и все равно как-то ухитряется вести огонь. Вот здесь, кажется, надо нажимать. Это, похоже, как в обыкновенной винтовке. Но сначала надо установить эту двуногую сошку. Был такой плакат про испанскую войну. Мужчину убили, он лежит мертвым лицом к небу, а черноволосая девушка припала к пулемету. Но там, кажется, другой пулемет, с лентами, «максим».







