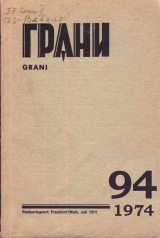
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Не трогай ее, – тихо шепнула Лия. Она еще не легла и в накинутом на плечи пальто сидела у стены на корточках.
– Давай польту, – сказала ей Ганя, доедая кашу. Из всего отряда у нее одной не было посуды, и она заправлялась после всех. – За орудиво спасибо! – Она протянула Лии липкие миску и ложку.
– Вымыла б, хавронья, – брезгливо скривилась Санька.
– Ничего. Молодая – к реке слетает, – хихикнула Ганя. Она уже почуяла, что Лийка тут поплоше всех и поездить на ней самое милое дело.
– Слетает… – передразнила Санька.
– Ты чего, мужиком балованная? – спросила какая-то женщина поблизости. На всю церковь светилось всего две «летучих мыши» – одна с верстака, другая с токарного, и через темень и надышанный пар Ганя женщину не разглядела.
«Балованная», – не успела ответить – ее опередила Санька:
– Да не было у нее мужика. Возле чужих побирается.
– А ты почему знаешь? – рассердилась Ганя. – Не возле чужих… у меня и свое было.
– Да сплыло, – резала бойкая Санька.
– Нет, было… Я в Ессентуки ездила… – И, отвернувшись от Саньки, Ганя заплакала.
Нет, не вечно жила она возле чужих. Было у нее и свое. В самом начале нэпа, в Липецке, пекли они с матерью и сестрой пироги и продавали у вокзала. И вправду ездила она в Ессентуки с земляком-полюбовником Сергеем Еремычем (он извозчиком был в Москве) и с Кланькой, сестрой, совсем еще девчонкой. И там, на водах, Сергей Еремыч спьяну или по дурости испортил Кланьку, и она понесла. Ганя-то от своего избавилась, а Кланька испугалась. Убежала из дому в прислуги, а вернулась, когда подошло время, и родила разом двух племянников. Тогда в Липецке снова появился Сергей Еремыч и объявил, что увозит Кланьку под Москву. Дом там купил. Раньше он так и спал при лошади.
– Как же Кланька одна управится? – спросила маманя; она уже почти что и не вставала.
– Ангелину возьмем, – как отрубил Еремыч.
– А меня куда? – спросила маманя.
– И одна помрете, – ответил (бесстыжие его глаза!) Серега, и Ганя поехала с сестрой и племяшами.
Нет, не врал Серега Шлыков, он и впрямь купил полсарая на Икше и чего-то к нему пристроил, жить можно – не хуже, чем в Липецке. Теперь они с Кланькой по очереди носили на Савеловский пироги. Только без маминого замеса торговлишка пошла гиблая, а выписывать старую, хворую Еремыч не хотел.
Так и жили, пока Серега не продал (или, может, пропил!) лошадь, стал учиться на водителя грузовика и завербовался куда-то подальше, где рубль длинней, и заявлялся на Икшу раз в два года, а то и реже.
Вот так было, и Ганя могла бы рассказать – да что толку: девахи все равно не поняли бы – да и ночь уже. Церковь наполовину спала-храпела, а которые не уснули, переговаривались:
– Спи!
– Ухайдакаешься завтра!
– Отбой! – звонко крикнули в дальнем углу.
– А ну тихо! Вроде машина едет! – зычно сказала Марья Ивановна и поднялась с табурета.
8. Ночка темная
Минут через пять капитан со студентом в темноте кабины по-братски работали ложками еще теплую кашу.
– Ну как мои повара? – хвалилась старшая. – Ты, капитан, заварки забыл, так я своей кинула.
– Спасибо, – хмуро сказал Гаврилов. Он чуял, что старшая нацелилась на него, стеснялся красноармейца, да и не время было.
– Может, по второй? – спросила Марья Ивановна.
– Мне – спасибо, – сказал капитан. – А водителю повтори. Ему надо! – намекая то ли на долгую дорогу, то ли на выпитый студентом стакан первача.
– Да, пожалуйста, если осталось, – попросил студент.
– Навалом! – ответила старшая и поплыла в храм. – А ну, марш спать! – шикнула на паренька, который курил у дверей.
– Сейчас пойду, – буркнул Гошка.
Ему не то чтобы не спалось, а просто спать было жалко. И еще хотелось переговорить с капитаном или на крайний случай с водителем. Мечта подошла уже совсем близко, и дураком надо было быть, чтобы ее проворонить. Он чувствовал, что ночью, в тишине, среди трех сотен женщин, трем мужчинам (четвертый, старичок, верно, ушел в село к старухе) легче договориться, и потешаться над ним не будут, как позавчера в военкомате.
– Вот, горяченький, пальцы не обожгите! – Марья Ивановна вернулась с двумя кружками и миской каши. – Заправляйся, боец, и на боковую… – Она протянула студенту миску.
«Да у тебя все распланировано, – подумал Гаврилов. – Вот чертяка! И чего они, матери-командирши, ко мне липнут? Или слабину какую находят?»
– Опять спасибо! – сказал он, возвращая кружку, и спрыгнул на землю.
– Боец в кабине ляжет, – шепнула, беря его под руку, старшая. – А тебе с бабами неудобно. Я закуток в сарае приберегла. Брезента, правда, не укараулила, девки под себя подложили. Но там не сыро. Доски есть.
– К женщинам иди, Марья Ивановна. Старые мы уже, – тоже тихо ответил Гаврилов, снова думая о телефонном разговоре, который теперь не казался ему таким веселым.
– Ну да – скажешь тоже! – С шутливой обидой обняла его старшая. «Гордится армеец или робеет? – решала про себя. – Наш брат, милиционер, попроще: не теряется!» – Какая же, – не сдавалась, – старая?
Мне тридцать второй только. Да и тебе много ли больше?
– Ровесники, – сказал Гаврилов, набавляя себе год.
– Ты серьезней глядишься. Да все равно не старость. Самая спелость, говорю тебе, капитан.
– Раненый я, – решил прекратить ненужный разговор, надеясь отвадить разом, но так, чтоб не обидеть, потому что вместе с ней командовать ему еще весь завтрашний день, а может, и дольше.
– Дела!.. – присвистнула старшая. – А ты женатый?!
– Женатый, – отрезал он, и подумал: «Вот липучка – клей резиновый!»
– Намучается с тобой баба, – теперь уже не жалея Гаврилова, развивала свои соображения старшая.
– Похоже. Ну, иди спать, Марья Ивановна.
– Отдыхай, бедолага, – сказала старшая, подымаясь по сбитым ступеням в храм. – Спать! Кому я сказала? – напустилась на Гошку, срывая на нем досаду. – Чего полуночничаете? – спросила в церкви Лию и Саньку. – Ложись, пухлявая. Я к тебе прижмусь. Вот надо же, как людей калечат! – вздохнула она, укладываясь между Ганей и Санькой. Ганя уже похрапывала. – Смехота, девки, – не дождавшись вопроса и не в силах держать в себе такую новость, стала она откровенничать.
– Ого! – прыснула Санька.
«Какой ужас! А она смеется!» – подумала Лия, и нехорошее чувство к подруге вместе с воспоминанием об ее отце-управдоме вернулось к ней. Она поднялась с пола и, осторожно пробираясь между спящими, двинулась к дверям.
– Куда ты? Ложись! – зашипела Санька.
– А ну, какой с нее сугрев? – зевнула старшая, вминаясь спиной в пухлую Саньку. «Вот не повезло! Ну да ладно, где наша не пропадала!..» – Она зевнула и приняла сон.
Перед церковью ветер разгуливался, и как-то по-бесовски бренчало кровельное железо. Гаврилов, словно на физзарядке, быстро махал руками, задирал голову, и ему казалось, что звезд с каждым разом высыпает все больше и больше.
– О бомбежке думаете, товарищ капитан? – звонко спросил Гошка, который все не уходил спать.
– Е-ка… – проглотил Гаврилов на половине привычное ругательство, потому что из храма вышла какая-то женщина. – Ну что, много на автогенили? – спросил чуть погодя, когда женщина зашла за церковь.
– Да я не местный. Я окоп рыл.
– К женщинам приписали?
– Да. На фронт просился, а меня сюда, – выпрашивая сочувствия, заныл Гошка.
– Ну, пойдем поглядим, чего нарыл, – сказал Гаврилов, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. Он и сам, когда б не простреленное легкое, предпочел бы передовую.
– Эй, студент! Подневальте полчасика! – крикнул в темноту шоферу. – Погляжу, как там чего… Пошли, – кивнул Гошке.
За церковью ветра было еще больше, он дул из-за реки, просвистывая храм, выдувая оттуда женский храп и относя его подальше, в сторону столицы. Так что на бугре, кроме ветра и лязга железа, ничего не было слышно.
«Вот малец, – думал Гаврилов. – Лет четырнадцать верных. И уже туда же… Хорошо хоть моим меньше…» За четыре последних месяца он, может быть, тыщу раз размышлял, хорошо ли, что его сыновья еще малыши. То ему казалось, будь они постарше, жене было бы с ними половчей, а то, наоборот, ему хотелось, чтоб они остались вовсе грудными – и тогда бы немцы их меньше обижали и жену бы не тронули. Но сейчас, глядя в спину Гошке, Гаврилов считал, что ему еще повезло. «Слава богу, не курят и к партизанам в леса не сбегут», – утешался, забывая, что у него, тридцатилетнего человека, никак не могло быть детей Гошкиных лет.
– Ну, не больно ты накопал, начальник! – сказал Гаврилов, когда, перескочив начатую женщинами траншею, они подошли к Гошкиному окопчику. – А земля здесь, между прочим, не трудная, – добавил он, упирая правую здоровую ногу в край лопаты.
– Времени мало было, – обиделся Гошка. – Но я сейчас закончу. Вон луна выходит.
И вправду, прямо над черным лесом другого берега вылез нижний рог молодой луны. Тучи вокруг него клубились, как пар.
– Самолетам самая лафа! – воскликнул Гошка и протянул руку за лопатой.
– Спать иди, – рассердился капитан. – Завтра дороешь. «Недалеко от пацана ушел, если о том же думаешь», – сказал он себе, спускаясь к мосту.
– Чтоб духа твоего тут до утра не было! – крикнул он, оборачиваясь.
Гошка понуро поплелся назад.
Мост был старый, сделанный, видно, на совесть, потому что перила не качались, настил не прыгал, и нога ступала спокойно. Второй мост, железнодорожный, точно как по карте, чернел на полтора километра левее, а впереди уходила в лесок уже не асфальтовая, а мощеная дорога. На карте Гаврилова она и железнодорожная линия, больше не пересекаясь, каждая своим ходом упирались километров через пять в срез, а что там дальше, ему не было ясно ни на бумаге, ни в действительности. Стояла тишина, а значит, немцы находились еще черт-те где, может, за сто, а может, километров за сто пятьдесят, но по тому, что станция была взорвана и пути не чинили, и по тому, что инженерного начальства на месте не оказалось, можно было ожидать всего самого непредвиденного.
До ранения Гаврилов почти полмесяца отступал от Слуцка и на опыте знал, что расстояние для немцев не помеха. Да и потом, в госпитале, вчитываясь в сводки Информбюро, убеждался, что немцы почти всегда появлялись там, где их не ждали, и забирали города, которые еще два дня назад никто не считал фронтовыми. Правда, за месяцы, что он провалялся в московском госпитале, положение стало кое-где выправляться – под Ельней, например. Но об этой Ельне столько трещали по радио и писали в газетах, что он уже начинал прикидывать: не одна ли эта Ельня на весь фронт от Балтики до Одессы?..
Отсутствие инженерного начальства тревожило его не так, как разбомбленная железная дорога. «Инженера, они разгильдяи известные, – вспомнил он инженера их полка, прыщавого, плохо выбритого никудышного парня, от которого вечно несло потом и перегаром. – Только что пишутся – образованные, а вообще-то одни сачки… Не знаю, правда, как на гражданке…» – перебил себя, стараясь сохранять справедливость.
Но то, что станцию не чинили, то есть не гнали через нее снаряды и резервы, словом, то, что она была не нужна, само по себе наводило на мысль, что впереди то ли никого нет, то ли кто-то есть, но до него уже не добраться. И телефонный разговор, который два часа назад так обрадовал, выворачивался сейчас изнанкой, вовсе не веселой.
– Трепач! – вдруг разозлился Гаврилов, с резкой ночной четкостью слыша голос из трубки: «Пошлют за тобой платформы! Платформы либо инженеров!..»
– Балабон! – сплюнул капитан, углубляясь на том берегу в лес. – Насажают на нашу голову всяких… Ни хрена не знает, а бубнит. Сюда бы тебя, обещальщика.
И вдруг он с печалью вспомнил, что тот, на московском конце провода, не назвал ему своей фамилии.
«И квитанции не взял… – подумал Гаврилов, шагая через пустой лес. – Вот не повезло!..»
– Заберите женщин, дайте хоть взвод, хоть отделение, – бормотал он, забывая о простреленном легком и раненой ноге.
«А женщин куда, если вдруг немцы?!» И он вспомнил, что под шинелью на нем старая, еще политруковских времен гимнастерка, на которой ясно видны следы споротых звездочек. (Командирскую гимнастерку распороли в медсанбате, куда его притащили на закорках, чтоб не затекло легкое.)
«Симка всякое барахло берегла! – впервые за время разлуки подумал о жене злобно. – Ну а капитану в плен можно? – перебил себя, как бы выгораживая Серафиму. – Капитану тоже нельзя. Даже студенту нельзя… Вот и выходит: бросать женщин – трус, а не бросать – изменник Родины. Нет большей беды, чем бабами командовать! – сплюнул он в сердцах. – Нет, есть… Ранеными. Ранеными тяжельше». И, представив себе, что вместо женщин в церкви сейчас лежат ребята из отделения тяжелораненых, понемногу начал успокаиваться.
– Всегда найдется, кому хуже тебя, – сказал тихо, чувствуя, что уже берет себя в руки. – У меня две обоймы, и у студента на поясе подсумки. Вот и хватит, – закончил, чтобы не возвращаться к этой теме.
«Только женщинам надо сразу уходить, вроде они к нам отношения не имеют. При немцах мы – женщинам помеха. Только как бы намекнуть попонятней. У этой Марьи не то на уме… Ну, не паникуй, – снова оборвал себя. – Может, и нужны траншеи. Раз послали, значит, нужны. А с инженерами просто напутали. И брось думать про «семь врагу – себе восьмую»… Может, они и знают чего…» – уже без прежней злобы подумал про московских начальников. Ведь прикрикнули на него: «Тут тоже передовая!», когда после госпиталя направили в Моссовет. Тогда он обиделся, подумав, что слово «передовая» штатский Тожанов употребил в смысле – ударная или стахановская, как обычно называли бригады или стройки. Но теперь капитан уже склонялся к мысли, что Тожанов чего-то знал, когда три дня назад сказал ему, что Москва тоже фронт.
Однако фамилию говорившего спросить надо было, а уж квитанцию, голова твоя пустая, припрятать в карман на случай какого поворота или трибунала! «Ну что ж, – подумал он, – сейчас авось – главное твое начальство». И ему стало горько, но как-то одновременно и спокойно.
Поглядев на часы, он увидел, что шагает уже восемнадцать минут, прошел не меньше двух километров, а в лесу все так же тихо, даже тише, чем возле церкви.
– Всей страны не облазишь, так пусть хоть студент покемарит, – вздохнул Гаврилов и повернул назад. Сам он решил прилечь перед рассветом, когда женщины начнут копку и чуть потеплеет.
Гошка, обиженный капитаном, в церковь не вернулся, а, выждав, пока тот перейдет мост, спустился к реке. Тут, зацепившись в темноте за камень, он упал, ушибся и, набрав воды в левый полуботинок, нематерно выругался.
– Ой! – В реке плеснуло что-то белое.
– Стой! Кто идет?! – не успев испугаться, крикнул в темноту Гошка.
– Отвернитесь, пожалуйста, – жалобно пропел голос, и Гошка догадался, что это рыжая Лия.
– Извините, – промычал он и пошел к церкви.
«Бедная, барахтаться в осенней воде… Надо будет завтра взять ее на свой окоп. Пусть бруствер подравнивает», – важно думал Гошка, чувствуя себя заботливым командиром.
Он вернулся к церкви. Водитель, распахнув дверцу, курил, высунув из кабины длинные ноги.
– Разрешите прикурить, – сказал Гошка не затем, чтоб сэкономить спички, а ради разговора.
– Мал еще – расти не будешь, – наставительно произнес шофер, но прикурить дал.
Ему тоже было тревожно, прямо сказать, страшновато одному, без капитана, с тремя сотнями спавших без задних ног женщин. Без них он бы не боялся. Один он бы запросто переехал мост и летел бы по той стороне, пока не уперся бы в наших или в немцев. В руках – баранка, к задней стенке принайтован карабин, в подсумках – обоймы. Он уже два года был в армии, но ни дня на фронте, и, не видя смерти, не боялся ее. Но сейчас, оставшись один с храпевшими в церкви женщинами, он испугался так же, как капитан за рекой, не за себя и не за них (все-таки немцы с женщинами не воюют!), а испугался той неясности, какая может случиться, если нагрянут немецкие танки: женщин не защитишь и бросать их тоже нельзя. А если поймут, что женщины с тобой, сочтут их уже не бабами, а мобилизованными – и могут поступить по-всякому.
– Садись, раз уж дымишь, – милостиво разрешил он Гошке, подвигаясь внутрь кабины, – с какой улицы будешь?
Как все недавние москвичи, студент любил поражать коренных жителей знанием столицы. Это хоть немного глушило тоску по дому и транспортному институту, где ему дали проучиться всего два месяца, но позволяло считать, что еще повезло, потому что шоферить – это скорее работа, чем армейская служба, которую, как все городские ребята, он до 41-го года не слишком уважал.
– Возле Ногина, знаете? – ответил Гошка.
– Знаю. ЦК рядом. А мой Харьков сдали. Слышал, небось?
– Да, – понимающе кивнул Гошка и, сколько нужно помедлив, вежливо спросил: – Родные остались?
– Нет, двоюродные только. Родные все выехали. Но все равно жалко. Город жалко. В Харькове был?
– Не приходилось, – скромно ответил Гошка, который не выезжал дальше Клязьмы.
– Хороший город, а сдали, – и вдруг, намолчавшись за день, шофер в темноте кабины выговорил то, чего никогда бы не посмел днем: – Ну как, пустите немца?
– На турецкую пасху! – бодро ответил Гошка.
– Да, – хмыкнул студент. – А как ты его не пустишь? «Пораженец какой-то», – подумал Гошка, не зная, вылезать ему из кабины или оставаться и ждать капитана.
– У нас вечно, как глотку драть, так «на чужой земле и малой кровью», а как до дела… да что там?! Я не про тебя. Обстановка очень тревожная, – сказал шофер печально.
– Это понятно, – согласился Гошка.
– Ничего тебе не понятно. – Водитель вдруг его обнял, и Гошка не знал, радоваться ли этой ласке красноармейца или отпихнуть его от себя как труса и паникера.
– Ничего тебе, пацан, не понятно. И мне не понятно, и капитану тоже. Ну, много нарыл? – вдруг оборвал он свою нудянку.
– Вот до сих пор, – Гошка рубанул по колену.
– Ты не очень вкалывай. Силенки завтра пригодятся.
– Оружие привезут?!
– Какое еще оружие? Вагоны придут за вами – в Москву увозить. А скорей – не придут и придется пешком уходить. Так что копать копай, да не укапывайся.
– Неправда! – Гошка тотчас отодвинулся. – За это, знаете, что полагается!
– Тьфу, дурак… Два тычка от толчка, а уже трусом считает.
– Ничего не считаю… Только Москву не сдадим.
– Я не про Москву, я про тебя… – Студент сплюнул. – Привезли вас, а начальство где? Где фортификаторы? Этот колобок в брезенте, что ли, фортификатор? Так он последний раз при Потемкине землю копал, и то, наверно, под гальюн. Ты зачем, думаешь, мы с капитаном за двадцать километров сейчас жарили? В Москву звонили! Вас по дурости сюда пригнали. Ничего, не тоскуй. Я тебе завтра помогу. Тебе в плен попадать нельзя, не женщина.
– А вам?
– А мне что? У меня – карабин, у капитана ТТ. Нас не возьмешь, – сказал водитель, и Гошка сразу вернул ему доверие. – Только ты… это, ну, в общем, держи при себе. Я тебе по-мужски… Понятно? – смутился шофер.
– Могила, – сказал Гошка. «А он, кажется, ничего. Нервный только. Но положение действительно тревожное».
– Кемаришь, студент? – донесся голос Гаврилова. – Можешь на боковую.
– Ну как, товарищ капитан? – бодро крикнул водитель. – Сыпь отсюда, – прошипел он Гошке.
– Тихо. Полный порядок. А ты чего не спишь? – спросил Гаврилов паренька. Как все командиры, он не выносил слоняющихся без дела бойцов. – Думаешь, здесь «Артек»?
– В «Артеке» их брата жучат! – поддакнул студент, сразу как бы отрубая от себя допризывника, хотя только минуту назад выкладывал ему ночные страхи. – А вы когда поспите, товарищ капитан?
– Утром, – сказал Гаврилов. – Утром сны лучше.
9. Ледяная вода и гимнастика
Лия сидела под мостом, никак не решаясь раздеться и залезть в страшную воду. Перед ужином она, как большинство окопниц, только наспех вымыла руки и сполоснула лицо, надеясь замотать обряд вечернего обтирания. «Нехорошо выделяться», – отговаривалась она. «Пропадете, девочка», – спорил с ней печальный голос Елены Федотовны, рослой дамы из квартиры напротив. «Нет, нельзя мне выделяться…» – снова повторила перед ужином Лия, и Елена Федотовна ничего тогда не сказала.
Но сейчас на пустом берегу она, невидимо склонясь над Лией, резким и горьким (как тогда в лифте!) голосом прошептала:
– Больше нам надеяться не на кого!
И Лия сняла пальто и стала расшнуровывать ненавистные мамины ботинки.
Тогда в лифте, в пору папиных неприятностей, Лия, вся обвязанная платками, в гриппу, кашляя и сморкаясь, не успела вовремя отвернуться и обрызгала эту длинную и нескладную, недавно переехавшую в их дом женщину.
– Ой, извините, извините! – Лия отворачивалась к стенке и снова чихала.
– Ничего, девочка, – ответила женщина. – Я вас знаю, – добавила со значением. – Вам надо умываться ледяной водой. Ледяная вода и гимнастика. Больше нам надеяться не на кого, – сказала эта странная женщина и первой вышла из лифта.
Потом, когда Лия не раз обдумывала эти слова, они часто казались ей оскорбительными, потому что папа был все-таки с ней, а муж несуразной дамы – известно где, но в первый момент Лию обдало такой симпатией к Елене Федотовне, что она еще долго стояла на площадке и смотрела на соседскую дверь таким взглядом, словно за ней скрылся принц или народный артист Лемешев. И это «нам», которое потом больше всего коробило, в первый момент растрогало Лию. В нем чудились ей печаль и ласка, упрямая гордость взрослой женщины, и ее уважение к шестнадцатилетней девчонке, и даже, если хотите, обещание дружбы. И за это Лия всегда прощала Елене Федотовне все, что та подразумевала под этим «нам»: наши родные несправедливо страдают, и (это особенно было обидно после того, как у папы дела уладились) хоть у вас, девочка, и есть отец, но все равно «нам» (то есть – вам!) надеяться не на кого… И, встречая теперь Елену Федотовну, Лия всегда радостно краснела, и Елена Федотовна дружески ей улыбалась, и это было значительнее слов. Да и что они могли сказать друг другу, когда через болтливую Ганю Елена Федотовна знала все о Лииной семье, а Лия тоже кое-что знала о несчастной женщине, но не хотела быть назойливой и бередить незажившую рану. Дочке Елены Федотовны, очкастенькой Карине, Лия тоже сначала улыбалась, но та в ответ кивала как-то надменно, а однажды в лифте, думая, что Лии не видно в боковое зеркало, высунула язык. Но Лия почти не обиделась, понимая, что Карина еще ребенок и что, несмотря на все старания Елены Федотовны, у нее очень нелегкое детство.
– Бр-р-рр! – Лия ступила в ледяную воду и только силой отчаяния не выскочила обратно. – Бр-рр! – тряслась она. Казалось, острые ледышки разрезают ноги у щиколоток.
– Иначе нельзя, – вздохнула она, заходя в речку по колено и стаскивая через голову свитер и юбку.
Плечам и спине было уже не так холодно, как ногам, и Лия с неприкрытой злобой, глядя на свои ключицы и маленькие груди, стала нещадно их растирать:
– Так вам! Так вам!
– А мне действительно очень помогло, – робея, сказала она год назад Елене Федотовне, когда они снова столкнулись в лифте.
– Я вас поздравляю, – кивнула та, полагая, что речь идет о восстановленном в партии главе семьи. – Теперь вы сможете учиться.
– Не знаю… Мама очень нездорова…
– Простите, – резко сказала соседка, и Лия поняла, что та считает Лииного отца бесчувственным человеком.
«Конечно, ей обидно, – подумала тогда Лия. – У такой хорошей женщины оказался такой муж… Но, может быть, он просто очень нестойкий человек, и воспользовались его бесхарактерностью… Мужчины часто бывают такими слабыми…»
– Ой! – вскрикнула она, увидев на берегу Гошку.
Тот скромно ушел.
«Деликатный», – подумала Лия, но уже не о Гошке, а о красавце Викторе, с которым Санька познакомилась летом в Парке культуры.
– Вот тебе! Вот тебе! – Снова стала она тереть, теперь уже полотенцем, свое тощее тело. – Да, не Рио-де-Жанейро! – повторила с горечью.
И опять вспомнила последний предвоенный понедельник, точнее вечер его, с той самой минуты, когда зазвонил телефон.
– Меня! – выпорхнула Санька из комнаты. – Лию?! – удивился в коридоре ее голос. – А кто требует? – Санькино сопрано, казалось, вспархивало до потолка и оттуда тройным сальто или ястребком в мертвой петле опускалось в телефонную трубку. – Так это я, Александра. Не признали? – разливалась Санька в коридоре, вовсе не собираясь звать Лию. – Ждите на Дзержинского! Я в две минуты! – крикнула Санька и тут же влетела в комнату.
– Подруга, дай «летчика»,[1] – она порылась в Лиином кошельке, – а то на белое у меня хватит, а вдруг он портвейн пьет. Ты пока приберись тут маленько! – И, схватив Лиину сумку (вот эту самую, общую сейчас на двоих, где были хлеб, документы и полотенца), выскочила из квартиры.
Через сорок минут Виктор позвонил три раза, и Лия, пугаясь Санькиной матери-дворничихи и Гани, которая чаще околачивалась в их квартире, чем у соседей, открыла дверь.
– Простите, что я так… – Виктор развел пустыми руками. – Но я действительно не собирался в гости.
Лия стояла перед ним, нерешительная и маленькая, и ее робость передавалась ему.
– Вот сюда, – наконец выдавила она и повела Виктора в комнату, но двери за собой прикрыла не до конца. – Санюра сейчас вернется.
Она это сказала просто потому, что надо было что-то сказать, но тут же покраснела. Выходило, что она сама понимает и заранее согласна, что молодой человек пришел не к ним обеим, а только к Саньке.
– Да, она мне сказала, – тоже краснея, кивнул студент. Он еще сам не решил, к кому пришел, и ему было неловко.
Санька влетела хлопотливая, шумная, смущение в ней не ночевало.
– Чайник не ставила?.. Сейчас, в один момент, – щебетала она, словно не впервые, а всю жизнь угощала у себя молодых людей.
– Да я не голоден, – смутился Виктор.
– При чем тут голод?! Со знакомством надо! – шумела Санька, выставляя на стол из сумки четвертинку, пол-литра портвейна, коробку килек и свертки по двести граммов колбасы и сыра.
Лия покорно пошла кипятить чайник.
– Во дает! Матерь схоронить не успела, – встретила ее на кухне Ганя, которая по случаю интересного гостя не торопилась на свою Икшу.
– Лександру гони, – буркнула Санькина мать.
– Мать зовет, – сказала Лия, возвращаясь в комнату.
– Вот на мою голову! – хохотнула Санька. – Вы не скучайте – я разом!
– Шумная она у вас, – улыбнулся Виктор.
– Хорошая, – поправила его Лия, стараясь не сердиться и не завидовать подруге.
– Вместе живете?
– Нет. То есть – да… Санюра – у меня. Временно… Она очень много за мамой ухаживала… – сказала Лия и, вспыхнув, добавила: – Мама уже умерла, – чтобы молодой человек не подумал, что Санька что-то вроде сиделки или домработницы.
Он кивнул. У него было хорошее лицо, не только красивое, но еще и очень интеллигентное. Лии захотелось просто с ним посидеть-побеседовать, но она не знала, как начать разговор, боялась быть назойливой и, понимая, что сейчас вбежит подруга, глупо повторила:
– Санюра сейчас вернется.
– Ой, беда со старыми! – Санька влетела в комнату. – А ты чего? Хлеб не нарезан, консерв не вскрыт. Ой, подруга! Да не робей, не съест он тебя. Наш ведь, московский.
– Я из Саратова, – сказал студент.
– Ой, а не похоже – не окаете. Ну, раз в Москве, все равно что московский. Нате, орудуйте! Мужское занятие… – Она протянула ему консервный нож.
Лия трижды чокалась с ними, но себе в рюмку доливать вина не позволяла и все порывалась уйти.
– Погоди, мамаша ляжет, тогда… – каждый раз шептала Санька.
Наконец радио договорило свои известия, включило Красную площадь с боем часов, и Лия, взяв с этажерки толстую тетрадь и учебник физики, тихо вышла на кухню. Тетя Ганя, слава богу, уже отправилась на свою Икшу, и квартира спала. Лия прикрыла дверь, зажгла нещедрый кухонный свет и села к своему столу. «Правило правой руки – стержень и обмотка…» – пыталась она сосредоточиться, но законы магнитной индукции никак не шли в голову, потому что мысли волей-неволей отрывались от учебника и на цыпочках пробирались назад, в комнату, где сейчас должно было произойти что-то тайное и великое.
«Если правую руку повернуть вдоль стержня, то четыре пальца укажут направление электрического тока в обмотке катушки…» Ничего не понимаю, – глушила Лия себя физикой. – А если будет ребенок?»
– Очень красивый будет ребенок, – сказала она совсем громко, и тогда открылась дверь, и Санькина мать стала ругать Лию, что та жжет «обчее лектричество».
– На чужое, на дармовщинку хотишь? А ну спать иди!
– Не пойду, – зло сказала Лия.
– Как так? Да я тебя силком поведу! Думаешь, по-твоему будет! – И дворничиха потащила Лию в коридор. – Ой, да тут заперто! Санька, чего заперлась? Открой! – Она забарабанила в дверь.
Скандал вышел невообразимый. Соседи немедленно высунулись из комнат. Пьяный Санькин родитель, управдом, открыв рот, бессмысленно глядел, как Санька оттесняла мать, пропуская испуганного студента к входной двери.
– Спортил девку! – кричала дворничиха, дубася Саньку.
– Тихо, мамаша! Людей постесняйтесь! – шипела Санька.
– Спать надо, – ворчали соседи, но почему-то не расходились.
– А ты тоже хороша, – напустилась Санька на Лию. – На кухню пошла!.. Я за твоей каргой сколько ходила, а ты уж ночки не могла посидеть на Курском! Сволочь, вот ты кто. – И забрала свою постель и тряпки из шифоньера.
Лия проплакала до рассвета, понимая, что Санюра в чем-то права, но эта «карга» не позволяла ей мириться первой. А через четыре дня пьяный управдом, который уже привык, что дочь живет отдельно, поругавшись с Санькой, устроил Лии безобразный скандал. Грозился отнять комнату, а потом стал хулиганить и лезть, и Санька два раза нешуточно съездила его по шее, помирилась с Лией и простила ей. И Лия тоже простила. Они всхлипывали, обнявшись, и разомлевшая Лия наконец спросила:
– А не боишься, что будет ребенок?
На что Санька шутливо махнула рукой: мол, волков бояться… и улыбка у нее была лукавой и гордой, хотя студент Виктор (Лия это знала) больше не звонил.
10. Непобедимых нет
– Да, жизнь – это борьба! – вздохнула Лия, подымаясь на бугор. Эту фразу часто повторял отец и почти всегда не к месту. И, повторив ее сейчас, тоже не к месту, Лия улыбнулась и вошла в церковь. Все спали, один лишь допризывник Гошка сидел на табурете возле верстака.
– Садитесь, – сказал он, вставая.
«Очень симпатичный мальчик. Как бы эгоистка Карина его не испортила», – подумала Лия, забывая, что Гошка здесь, на окопах, а Карина с матерью уже далеко за Москвой. Ведь вчера – нет, уже позавчера! – утром Лия, преодолевая свою несокрушимую застенчивость, пришла к ним прощаться.
– Вы едете, и я тоже, – сказала она. – Меня берут на окопы.
– Как я вам завидую, девочка! – Елена Федотовна поднялась с пола, где тщетно пыталась обвязать двумя шарфами расползающийся чемодан.
– Мама хочет сказать, что я мешаю ее героизму, – съязвила Карина.
– Что ты, Карик? – смутилась Елена Федотовна и снова повернулась к Лии: – Я вас люблю и уважаю. Берегите себя, пожалуйста.







