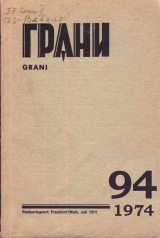
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
– Осторожней, женщины! У нее под клифтом есть наган! – запел допризывник Гошка. Он сидел рядом с Ганей, явно забавлялся паникой, и во рту у него уже дымилась папироска.
– А ну загаси, ирод! Дыхнуть нечем, а он курит, – заквохтала Ганя. – От сцикун, – добавила, подлаживаясь к старшой, а та меж тем, свернув ремень, готова была стегать каждую, пусть только полезет к дверям.
«И вправду, с наганом вернее, – думалось ей. – Ответственность, а нагана не дали. С оружием уважения больше…»
– Дай прикурить! – крикнула она Гошке. – А сам загаси. Мал еще.
– Я и говорю, а он дымит, – снова ввязалась Ганя. – Сгаси. Духота. Тебе не положено. Вот солдатом станешь, кури, пока не убьют.
– Чего к человеку пристали? – сказала Санька. – Иди сюда! – Она отодвинулась от окна и пустила Гошку. – Раму только стяни. Вот так. Как раз будет.
– Дует, – заныла Ганя. – А ты не приманивай. Я тебя пустила временно. Это вон их место, – она почтительно повернулась к старшой, которая с ремнем, как казак с нагайкой, закрывала выход.
– Заткнись, тетка, а то, честное слово, врежу, – зевнула толстая Санька. – Двигались бы, что ли. Может, закуришь, подруга? – Она ласково обняла Лию.
Та, мотнув головой, прижалась к ней. И тут поезд тронулся.
– Господи, пронесло бы! – то ли вздыхали, то ли вправду молились на верхних полках.
– Фу-ты, – успокоилась старшая и, застегнув ремень, села на край лавки.
Поезд набирал скорость. Сверху выло. Уже стреляли зенитки и вроде где-то ухали взрывы, но на ходу, под ровный стук колес было не так тоскливо.
– Я вам у окна заняла, – снова заулыбалась Ганя начальству. – Встань! – строго сказала Гошке.
– Пусть. Тут не купленные, – отозвалась старшая. – Может, ему скоро ать-два. Стрелять умеешь?
– Угу, – кивнул Гошка, не вынимая папироски.
– Годишься. Напомни мне. Должны оружье выдать… – Прикрыла зевком вранье. Хотя была со всем районным начальством на «ты» и за руку, никто ей оружия не обещал, да и стрелять она не умела. Но как с женщинами без нагана? Хорошо, в вагоне две двери, да и замкнута одна. А там как высадятся – ищи-свищи. Они без присяги. Бабы!.. В трибунал их не потащишь. И опять же, не овцы – ремнем в одну кучу не сгонишь.
– И нам с Лийкой дайте, – сказала толстая Санюра. – Мы – «ворошиловские»!
– Ладно, поглядим. И тебе, хохлатка, тоже?
– На кой мне? – ответила Ганя. – Мне черпак дай. Я сготовить могу.
– Редкая профессия, – засмеялись в отсеке.
Поезд уже вымахнул за окраину, и паника поутихла.
– В столовке служишь? – поглядела на Ганю старшая. – Я тебя чего-то в лицо не признаю. Еще записывала, хотела спросить. Ты с дробь?..
– Ага, с дробь, с дробь… с двадцать седьмой, – закивала Ганя, не упоминая про столовку.
– Так то ж напротив вас, – вспомнила старшая, кивая Лии и Санюре. – Так, значит, в прислугах? Непрописанная.
– Она приходящая, – тихо сказала Лия.
– А сама откуда?
– Загородняя, загородняя. Меня Рыжова, Елена Федотовна, просила… Мы с нею старые знакомки. Подруги… За Ринкой, дочкой, глядеть уговорила. Зренье у нее никуда…
– Это которая длинная? На машинке грохочет? Неясная семья.
– Чего ж неясного? – заступился Гошка. – Учительница и квалифицированная машинистка.
– Тебя не спросили, – оборвала его старшая. – Значит, подруги, говоришь? – Она выпустила дым Гане в лицо. – Давно подруги?
– Давно, давно, – поддакнула Ганя. – У меня свое хозяйство. Но Ринку жалко. Она вить должна по часам принимать еду. Зрение ни в какую.
– А муж у Рыжовой где? – спросила старшая и даже рот открыла от удовольствия, будто целилась и попала.
– Нету мужа, – удивилась Ганя, – зачем ей муж? Она женщина серьезная. Мужиков не водит.
– А девку ветром задуло? – засмеялись на верхних полках.
– Вы чего? – задрала голову Ганя. – Людям поговорить дайте. Нет у ней мужа, – повернулась Ганя к начальству. – Был один армян… Мы с ней двое на Кавказ ездили… Ну, был грех, – стала складно, сама не зная зачем, врать Ганя. – Я ей говорила: скоблись. А она спугалась, как сестра моя Кланька. Спугалась и родила…
– А-а, – зевнула старшая. – А то было другое мнение. Хороший у вас дом. Чистый дом у вас. Не надо, чтоб в нем враги жили. Когда твоя Рыжова менялась, я была «за». Выезжали эти, ну, как их… Бабка еще с детьми… Цуккерманы. Отца и мать разоблачили у них… Ну, и дала я «добро». Не надо нам врагов народа в передовом доме. А потом доводят мне, что и Рыжова того же поля фрукт. Врали, значит?
– Ага-ага, – угодливо, к Гошкиному удовольствию, повторяла Ганя. – Нет, она женщина серьезная. Машинистка.
«И чего меня понесло? – подумала про себя. – У, жендарма! Скрыла… Да я б сроду к тебе не пошла. Ничего, все о тебе узнают! Вон, как про Лийкиного отца. Но Лийкиного простили, а тебя не простят… Врать не надо людям. И чего я твоей подругой назвалась?»
Лия вжалась в стенку вагона, и в груди у нее все замерло. Бедная Елена Федотовна. Такая сердечная, интеллигентная женщина. И Рина, хотя еще девочка и большая эгоистка, тоже интересный человечек. Хорошо, что их здесь нет… Но как все всё знают! Все обо всех всё знают! А как же иначе? Нужна бдительность. Капиталистическое окружение… А теперь еще и война. И Лия незаметно перешла к собственным переживаниям.
«Дура дурой, – думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. – Дура, а вывернулась… Что-то есть в прислугах собачье… Нет, не собачье, а рабье. Захаробломовское. Костерят хозяек, а другим костерить не дают. Ловко она с Кавказом придумала. А эта Домна (так он окрестил старшую, хотя звали ту очень просто – Марья Ивановна)… Вот головастая! Государственная баба! Мускулистая рука рабочего класса!» – и он с неудовольствием вспомнил, как вчера эта самая рука не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую середку колонны и давиться стыдом под бабье вытье. «Вот люди, – думал он. – Просился на фронт, сунули на траншеи. Ну ничего… Там сбежать легче…» И сразу же повеселел, правым плечом втираясь в уютную Санюру.
– Так ты, выходит, прислуга? – спросила старшая. – Домраба, значит? А договор, небось, не оформляла?
– Не успела, – униженно кивнула Ганя.
– Она шпионка, – сказал Гошка. – Вы за ней в два глаза глядите.
Наверху опять засмеялись.
– Шпионка, пшенка! Шиш тебе! – завелась Ганя.
– Ладно, смейтесь без меня. Проверю, как настроение.
Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторнее.
– Сдвинься, Санька! – хихикнула Ганя. – А то парень как свекла стал. Доходит от тебя.
– А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька! – засмеялась Санька и впрямь сунула Гошкину ладонь себе за телогрейку.
– Ха-ха! – заржали сверху.
– Хи, – фальшиво визгнула Лия.
– Пусти, – смутился Гошка, выдирая руку.
– Не стесняйся. Я добрая, – веселилась Санька. – Если замерзнешь, пожалуйста. И сразу действуй, а не жмись, как карманщик. Дело житейское.
– Да ну тебя, – буркнул Гошка, не зная – то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.
– Он к Ринке наметился, – сказала Ганя. – Ты для него «широка страна моя родная». Ему деликатного надо, вумствен-ного…
Поезд меж тем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.
– Ого дают! – сказал Гошка.
– Да ну их! Насмотришься еще, – сказала Санька.
– Авиации у нас маловато, – вздохнула женщина, крайняя на Ганиной лавке. – С земли стрелять – это как мертвому капли…
– Капли! Ничего себе капли, – рассердился Гошка, – с одного осколка – нет самолета. Особенно если в бензобак.
– Воробью в глаз, – ответил сверху голос поглуше. – Где в его попадешь? Он на месте не ждет.
– Стреляют заградительными, – хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.
– А, ну тогда другое дело, – отозвались сверху. – Заградительными я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжала на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам – пара хромовых сапог. Слышишь? Вон уже три «Скорохода» в небо пустили.
– А ты не жалей! Мы богатые, – сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках.
Все засмеялись.
– Не, может одну хромовую, – рассудила Ганя. – Это ж убийство. У меня двоих ребят, тоже племяшей, забрали, так ботинки выдали и к ним бинты толстые. А сапог, ответили, нету…
– На твоих и лаптей жалко, – сказал Гошка.
– У, паразит! Санька! Хайлу ему заткни! – заныла Ганя. – Лаптей!.. Они не жмутся, как ты. Всех девок на Икше попортили.
– Вояки! – хохотнул Гошка.
– У немцев большая сила, – сказали с полки над Ганей. – Что им твоими зенитными сапогами сделаешь? Они с умом воюют.
– Чего мелешь? – отозвались с полки напротив.
– Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем…
– Куда-куда… Военная тайна – куда…
– Тайна? Не в Берлин. Сто верст – не дальше.
– Версты?! Не в верстах дело! Дурни твои немцы. Их обмануть – раз плюнуть.
– Поплюйся-поплюйся, подруга. Христом богом прошу, – под общий смех сказала Санька.
– Да не в том дело, – повторил тот же голос. – Они дурные. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, глупые. Обдурить их – пара пустяков. И украсть у них завсегда украдешь.
– Так чего ж бежали? – съехидничал Гошка.
– Ты, сопливый, молчи. Бежали, потому что советские. Кому охота под врагом жить? Это другое дело. А я о том, что немцы дурные. Их перехитрить можно. Паренек у беженцев, сын. Так каску украл, наган или винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего – отвертелся, поверили. А дочка у них, такая из себя подходящая, офицер сильничать хотел, сказала, что сифилис, и не стал – поверил. А один немец молоко пил, так за кринку две конфеты дал. И еще платить деньгами хотел, когда старуха нательное простирнула.
– А чего ж сбегли? – спросила Ганя. – Может, евреи?
– Да никакие не евреи. Просто советские. Я говорю, немца всегда обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз нету – одни уши, а они по-нашему не кумекают…
– Ну и не бегли бы, – сказала Ганя.
– Пораженка! – разозлился Гошка. – С такими не победишь.
– Заткнись, погань!
– От погани слышу. Вон как уловителями повела. У Рыжовых тащила, теперь у немцев надеешься.
– У, подлюка! – взвилась Ганя. – Да я тебе…
– Не волнуйся, тетка, – вмешалась Санюра. – Немцам ты не потребуешься. Они чистых любят. А ты, небось, с Рождества в бане не была?
– А ты мне спину не терла.
– Нет, – согласилась Санька. – Я в детсаду малолеток купаю. А таких, как ты, обмывают в морге.
– Съела?! – захохотал Гошка.
«Как им не стыдно, – подумала Лия. – Ведь они – хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это во всех. Тогда победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие организаторы. Марья Ивановна – она хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную, такую, как Санюра. Вот из Санюры вышел бы организатор! Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».
– Не грусти, касатка, – сказали Гане сверху. – Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос. Немцы лапать не будут. Только мяса у них не тащи. Они жирное любят.
– Да чего вы на меня? Да у меня племяши на фронте! – заплакала Ганя.
– Что за шум, а драки нет? – весело гаркнула Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. – А ну, подвиньсь! – толкнула она Лию. – Хоть посижу, вдруг не скоро придется.
4. Эх, картошечка, картошка
Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.
– Давай-давай! – орали старшие команд.
– Скорей-скорей! – нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.
– Так неловко… – оправдывались женщины, прыгая на насыпь.
– Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями… Как не было…
Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:
– Ой, ногу подвернула!
– Ой, мамочки, пятка!
– Аж по зубам… Боль-на!..
– Раз! Раз! – кричали железнодорожники, машинист с кочегаром. – И живо, живо в поле. А то опять прилетят! – И опасливо посматривали в сизое небо.
Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.
– Разберись по десяткам! – кричали старшие, но женщины шли кто как: идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.
– Пропадает! – вздыхали одни.
– Кланяйся да в подол! Потом напечем, – покрикивали другие.
– Сладкая небось, морозком прихватило… – останавливали их третьи.
Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.
– Левой! Левой! – орали старшие. – Некогда.
– Все вскочь! Все вскочь! – сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало, да еще ее затравили в поезде.
«Грамотные, – сердилась она. – А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай-шагай», – и она топтала ботиками мерзлую ботву.
Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт… Можно с телефоном или лучше с рацией. Вместо креста – антенна! Вот сила будет! – думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин. – Первая – огонь! Вторая – огонь! – командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. – Как займут красноармейцы окопы, останусь. – И он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма. – Дальше, наверно, река, – думал Гошка. – Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала…» И он вспомнил, как они с Кариной лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не попадало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, – думал он. – А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?..»
Лия еле плелась в своих желтых, шнурованных, высоких до колена ботинках, несла на лопате ведро с кошелкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой земле. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки ужасно раздражали. Лучше бы их продали тогда на толкучем. Но мама упиралась, требовала меньше чем за пятьсот не отдавать. «Какая кожа! Это в Австрии, на курорте, в девятьсот двенадцатом покупали… Что ты, девочка!» Мама все надеялась, что вернется настоящая мода и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я бы сама с радостью, когда бы вместилась!» – уверяла ее вчера Санька. «А вдруг она назло мне? Вдруг нарочно? – с отчаяньем думала Лия. – Вдруг она только сверху такая хорошая, веселая и добрая… Ведь они у меня чуть комнату не отобрали…»
И Лия вспомнила предвоенное воскресенье в Центральном парке. Это было через полгода после маминой смерти. Санюра просто силой потащила ее в парк. Она уже спала в Лииной комнате (убедила Лию, что той ночевать одной страшно), перетащила на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф свой сарафан и два платья.
«Пойдем да пойдем!» – приставала к ней Санюра в тот воскресный вечер. Лия даже не приоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдаст экстерном за школу, поступит в институт – пригодятся. Теперь эти деньги до конца войны будут лежать в сберкассе.) Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке ходить одной по парку неприлично. А Санюра, хоть была годом моложе, уже очень томилась без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала», – подумала Лия, глядя в спину весело шагавшей по картофельному полю Саньке. – Что ж, она видная, бойкая!..»
«Нас не трогай, мы не тронем», – улыбнулась против воли Лия, вспомнив, как в тот вечер в парке Санька отваживала этой строкой из песни нестоящих, по ее мнению, кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лия со своими без одной четверти девятью слова выдавить не могла.
После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра все дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос, как маленькие, противно пели, то на пятачок, где фокстротили – словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были старенькие Лиины тенниски и худые незагорелые руки.
Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они – как ей казалось – тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:
– Ауфвидерзеен! – или еще как-нибудь.
– Я пойду, – канючила Лия. – Я тебе только все порчу.
– Ничего-ничего. Другие будут, – обнимала ее Санюра и, похоже, не бодрилась, а совершенно была в том уверена. И действительно нашла, что хотела.
– Вон, гляди… – Она толкнула Лию в бок. – Годятся? Тебе какого – Крючкова или Абрикосова?
Вдоль пруда лениво шли два парня – один кряжистый с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство со знаменитыми артистами.
– Ты шутишь! – сжалась Лия. «Это не для тебя!» – хотела она крикнуть, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчики даже не для Санюры. Во-первых, у них были удивительно приятные интеллигентные лица. Светловолосый, видимо, учился в техническом вузе, шатен, скорее всего, в университете. У него в глазах была какая-то ленивая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были даже чересчур прилично – оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках, и на ногах у них были не тенниски, а настоящие туфли – у блондина белые парусиновые, у высокого – темно-коричневые кожаные.
– Не надо, Санюра, – Лия схватила ее за руку, боясь конфуза и жалея подругу.
– Да не робей ты, – отмахнулась та. – Главное, виду не давай, что тушуешься. Что мы – не москвички, что ли?
Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.
– Ну как, студенты, аш-два-о? Подходяще? – спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские писюки. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки.
– Стесняется, – улыбнулась Санюра, похлопав Лию по плечу. – Пить хочет, а фигуру бережет. Больше стакана в день нельзя. Вот и смотрим, где вода получше.
– Напои их, Витька, и пошли, – буркнул физкультурник. – Это не Рио-де-Жанейро. – Он отошел от тележки.
– Чего-чего? Крем-брюле не советуете? – защебетала Санька.
– Глупая, тебя оскорбили, – готова была заплакать Лия.
– Торопятся, – засмеялась Санюра. – Студенты, они от харчей легкие… Ветром уносит.
– Глупая, тебя презирают, – горлом выдохнула Лия.
– Да не шипи, как змея…
– Извините, он не в настроении, – сказал темноволосый. – Жорка, иди сюда! – Но физкультурник куда-то исчез.
«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», – думала Лия.
Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе, размахивая кошелками, позванивая ведрами.
– На церкву держи, антирелигиозницы! – кричала Марья Ивановна.
«Все-таки я ему по духу ближе, но Санюра больше женщина», – рассуждала Лия, помимо воли любуясь ладной Санькой, которая в короткой, поверх лыжных брюк, юбке и в телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками неубранную картошку. «Словно по парку гуляет. Даже лом с лопатой ей не в тягость. Нет, странная вещь наша жизнь, и все мы в ней странные».
– Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, – сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили втроем по аллейкам, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лии пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать ей с Виктором было неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала.
– Да бросьте вы о серьезном. Литература, литература! Сохнут с нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, – нарочно зевала она и прижималась к Виктору. Лия мешалась, и краснела, и все порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, держала под руку. Прямо висела на них, веселая, разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего не упустит. А студент (Лия уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить и пойти посередине.
– Так что звоните, миленький, – сказала у метро Санюра голосом, полным обещания.
– Ну ты подруга – первый сорт! – обняла она на эскалаторе Лию. – Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Дай и мне поглядеть про эту самую Рину-Женеву.
Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварихами.
– Давай-давай сюда, голубушки! – кричал им худой военный, указывая на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полуторатонный грузовик «ГАЗ-АА».
«Вот оборотень! – подумала Ганя. – Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-сь пымал…
Рядом с худым капитаном крутился очкастый кругленький старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и на чем-то, видимо, настаивая, размахивал ручками. Доберись допризывник Гошка до полуторки, он бы услышал, как старичок повторяет его собственные рассуждения.
– Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт, – восторгался старичок. – Обзор исключительный!
Капитан не отвечал. Его занимало другое.
– По берегу мы все перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.
– Ну-ну, только без самодеятельности. И на хрен тут ежи нужны? Не город ведь… – процедил капитан.
– …Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности, – словно не слышал его старичок.
– Ну, узкоколейку – хрен с ней, – согласился капитан. – Только без самодеятельности. Вы что, в гражданской участвовали? – спросил скорее из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.
– Нет, скорее изучал, – неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.
– Сюда давайте! – кричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе. – Я вам, бабочки, продукт привез. Там разберите, в кузове, только чтоб без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.
«Я вроде как сам не свой, – думал он. – Были б вагоны, честное слово, запихнул бы в них окопниц и погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать…» Он жалел женщин, суеверно надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.
Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда выскочили пацаны с двумя тачками – на каждой по баллону – и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.
«А, черт с ними! – подумал капитан. – Лишь бы были заняты. Безделье – мать паники. А за делом и страха поменьше… Кто знает, может, и пронесет…»
Но тоска грызла его отчаянная.
5. Два туза или перебор?
Все началось с того, что утром на пересылке продуктов ему не отпустили. Сунули по буханке хлеба на каждую окопницу и еще каких-то комбижиров, но и то не на все триста душ.
– Бюрократы, – пробовал он качать права. – Что ж, машину за сто верст гонять?!
– Нету, капитан, – отрезал завстоловой, пожилой коротышка-сверхсрочник. Четыре треугольничка высовывалось из-за накрахмаленного ворота его халата. – У нас кроме ваших баб народ есть. Мы не склад. Кормить – кормим, а отоваривать – в военторг дуйте.
– Так раньше ж давали…
– То раньше, а то теперь…
– Ничего не теперь… Войну никто не отменил. Слышь, старшина, я тебе говорю: крупу давай. И комбижир не жми.
– Нету, – повторил старшина.
– Выполняй приказ, сверхсрочник. Точка!
– Нет. – Старшина мотнул седым ежиком.
– Невыполнение?! Пристрелю, сверхсволочь!
– Катись-ка ты, капитан, к едрене-фене. Навидался я нервных…
«У, зараза… – думал капитан, выходя на станционный двор. – Попался бы ты мне за Днепром. Так таких ведь в тылу сберегают. Нечего тебе, Гаврилов, тут глотку драть. Был ты человек, а теперь бабий придаток…»
– Где отовариться можно – не знаешь? – спросил молодого водителя и закашлялся, потому что в кабине вдруг пахнуло гарью. Видно, где-то что-то жгли – по улице навстречу полуторке летело густое серое облако, похожее не то на снег, не то на тополиный пух.
– Разузнаем, – ответил боец.
Голос у него был уверенный, а лицо чистое и тонкое, городское. Но продсклад искать не пришлось.
На узкой булыжной, летящей под уклон улочке наперерез их «газику» выскочил пожилой еврей и, вздымая руки, запричитал:
– Товарищи военные! Товарищи военные! Спасите!.. Грабят!
– Тьфу ты… – Водитель отчаянно затормозил и крутанул на тротуар.
– Грабят, товарищ командир! – крикнул еврей, разглядев в кабине капитана. – Больше полмагазина вынесли!
…В маленький продмаг, как в бесплацкартный вагон, натолкался всяческий народ. Единственная витрина была напрочь выбита, и через нее совали мешки с крупой и сахаром. Гул стоял невообразимый, вполне вокзальный.
Неловко припадая на простреленную ногу, капитан, не раздумывая, опустил рукоятку ТТ на затылок какому-то старику в зимнем пальто, принимавшему через витрину заколоченный ящик.
«Хорошо, не женщина!» – успел подумать и жахнул в воздух.
– Прекратить! Застрелю! – Он затрясся, как контуженый.
Все в ларьке и снаружи разом отвалили от витрины, замерев, как перед фотоаппаратом. Только старик в зимнем пальто шарил на тротуаре – искал кепку. Она валялась рядом.
«Не насмерть, – подумал капитан, – хотя вообще такого не жалко…»
– Как допустил? – накинулся на завмага. – Чего милицию не звал? Или заодно с ними?
– Да что вы, товарищ командир?! Зачем обижаете? Я же не бежал, не бросил, как другие…
– Еще чего!.. Милицию звать надо.
– Так нет ее, милиции. Сегодня прямо как под землю…
– Звонил бы.
– Так не заслужили телефона. У нас мелкая точка…
– Интересное кино выходит, – вздохнул капитан. – А ну назад! Я тебе убегу… – Пригрозил он пистолетом парнишке. Тот норовил выскочить через витрину. – В другие двери не уйдет?
– Нет. Там замки на петлях.
– Ну, беги, торгаш. Звони мильтонам. Только раз-раз – одна нога здесь, другая – напротив. Две минуты отпускаю.
– Ой, спасибо! Спасибо, что сразу остановили безобразие! – крикнул завмаг, уже на бегу.
– Телефон испорчен! – закричал он из будки.
– И этот тоже… – чуть не рыдал из соседней.
– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! – выругался капитан. – Не могу я с тобой загорать. Женщины у меня не кормлены. Случаем, не знаешь, где армейский продсклад?
– Не уезжайте, товарищ командир! – взмолился завмаг. – Побудьте еще минуточку. Без вас опять начнется. Или езжайте! Езжайте на здоровье. Только стрельните меня сначала!
– Что, опсихел?! Где тут у вас продбаза военная?
– Зачем база, товарищ военный? Вам продукты нужны? Берите. Сахар? Берите! Масло? Ящик? Пожалуйста! Крупа? Забирайте! Разве я для себя держу? Я для победы стараюсь. А они тащат! Берите все, товарищ командир! Пусть лучше ваши жены и дочери будут сыты, чем это хулиганье.
– Да ты что? Какие жены? Жена моя и пацаны у немцев. Свихнулся, папаша. Хотя, стоп. Требование у меня по форме. Отпустишь? Три сотни женщин жратвой не обеспечены.
– Конечно, что за вопрос! – Завмаг засуетился. – А ты лежи, лежи, – цыкнул на старика в зимнем пальто; тот наконец отыскал свою кепку. – Не стыдно тебе, Прохор Степанович. Ты же пожилой человек!
– Знакомый? – удивился капитан. – Или они тут все друзья-знакомые? А ты вот что, товарищ заведующий, организуй-ка их, пусть грузят. Правильно, боец? – Он повернулся к водителю, который с независимым видом курил, привалясь к борту полуторки.
– Точно, товарищ капитан. Пусть потрудятся.
– А ну, выходи-носи. На первый раз прощаю, хотя трибунал по вас плачет…
– А что, немцам оставлять лучше? – злобно спросил старик, поднявшись с тротуара.
– Каким немцам? Пули захотел?
– Каким-каким? Обыкновенным! Радио слушать надо.
– Ты мне не верещи. Бери мешок и в кузов, не то передумаю и не так вдарю! – рассердился капитан. – Ишь паникер. Носите, носите… А ты, отец, – кивнул завмагу, – бумаги давай. Подпишу, где надо… Тоже вздумали – немцам!.. Из-за таких гавриков и отходим. Стрелять вас надо.
– Вот бы на фронте и стрелял, – буркнула какая-то тетка из-под мешка, который тащила втроем с девками, возможно, дочерьми. – Все вы с женщинами герои. Снизу заносите, – прикрикнула на девок. – Не мы вздумали грабить. Приказ был не оставлять ничего.
– Ну и пораженцы у вас! – Капитан поглядел на завмага. – Сердце, можно сказать, родины, а такой, прости за выражение, бардак. Нигде похожего не видел. – «Это потому, что бегал быстро», – подумал про себя. – Что они несут про сообщение? – спросил завмага.
– Передавали: «Ждите важное…», а какое – не сказали… – ответил завмаг. – Вчера им расчет на фабрике произвели, а зарплату задержали. А тут еще это сообщение… Видимо, волнуются… Говорят, Москву будут…
– Враки, – перебил капитан, боясь, что завмаг назовет вслух то страшное слово. – Фашистское вранье, – добавил, успокаивая самого себя. – И ты веришь? – строго поглядел он на завмага. Но строгость была напускная.
«Черт его разберет!.. – подумал он. – Важное сообщение. А у меня там триста душ женского полу. Вот порезвятся фрицы».
– Конечно, не верю, – твердо сказал завмаг. – Товарищ Сталин не допустит.
– Правильно, папаша. Спасибо, продуктами выручил. Теперь прямо на окопы махну.
– Вам спасибо! Тут вот подпишите и тут. Все, как в требованиях. Два ящика – масло, лапша. Восемь мешков – пшено, песок, гречка.
– Ладно, верю. Прощай, отец! – крикнул капитан из кабины. – Теперь дуй сюда! – Он повернулся к шоферу, вытягивая из-под шинели планшетку с картой. – Вот, где крестом черкну-то – разберешь?
«Триста женщин, – не шло у него из головы. – У меня одна – и то спать не могу, а тут целых триста!» И он опять увидел перед собой так близко, что того и гляди дотронешься, свою Серафиму, солидную женщину, вдвое шириной и весом против него, суховатого и легкого. «Давала она мне политдрозда», – улыбнулся он. Как все, несколько забитые семьей люди, бывший политрук любил иногда промочить горло. «Знал бы второй батальон, какие кувалды у Серафимы Сергеевны! А может, и знал. Красноармейцы народ дотошный, все поразведают… А ведь ходок ты был, политрук, – сказал он себе. – То есть не политрук, а тогда еще в помкомвзводах ходил. А политруком – уже мало: разок на маневрах и два раза в санатории. А больше не было. Заливаешь, парень? – подмигнул самому себе. – Да нет. Правда. Раиску ведь не принял… – Раиска, Раиса Васильевна, была сестрой-хозяйкой госпиталя. Очень самостоятельный товарищ, не замужем. – Можно сказать, на самом краю удержался, – улыбнулся капитан, вспомнив, как в бельевой он в шутку ее обнял, когда менял госпитальное белье на армейское, а она укусила его в грудь. – Показался я ей. Это точно. Все искали, где поприжать, а я с ней вежливо, по имени-отчеству, как, мол, живете, самочувствие и настроение. Вот она и глаз положила. Только что ж мне в закутке напоследок? Симка небось сейчас морду сажей мажет. Господи, хорошо хоть не первой юности (и красоты, согласись, политрук!..). И красоты, – не стал спорить он. – А на кой? Красота – не миска. С нее не позавтракаешь. Зато пацанов – первый сорт! – народила… Нет, незачем и пустое… – подумал он. – Тут чужую прижмешь, там немцы твою. У них тоже голодуха на это дело. Хотя, говорят, походные бардаки за собой возят. Но бардак, он, может, как кухня… Когда подвезут, когда нет… Да чего это с тобой?! – оборвал он себя. – Чего про похабель мусолишь? Симки, может, в живых нет. Жена командира. А до прошлого года – политрука. Бей жида-политрука, морда просит кирпича, – криво улыбнулся он, вспомнив принесенную ему бойцами листовку. – Еще спасибо, что сам я русак и Серафима – природная кацапка…»







