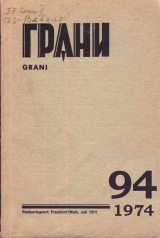
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Я хотела на фронт… Не взяли… Может быть, с окопов удастся…
– Да, я вас понимаю, девочка… Только берегите себя, пожалуйста. Дайте я вас перекрещу.
– Мама! – крикнула Карина.
– Я неверующая, – тихо сказала Лия. Ей было неловко.
– Да. Я знаю. Я тоже неверующая. Но на кого еще надеяться? – Она неумело, видимо, забыв, как это делается, перекрестила Лию.
– Не бойтесь, – шепнула. – Христос – для всех. Только, пожалуйста, останьтесь живы…
– Вам не холодно? – спросил Гошка, с любопытством глядя на рыжую девушку.
– Нет, что вы! Это так взбадривает. Мне Елена Федотовна посоветовала, – как бы извиняясь, что полезла в октябрьскую воду, ответила Лия. – А Рина, наверно, уже в дороге, – поторопилась перевести разговор.
– Наверно, – согласился Гошка. – А вы спать не будете?
– Не знаю. Боюсь, не засну…
«Бедная», – подумал он, а вслух сказал:
– У меня тоже бессонница.
– Это потому, что очень много впечатлений, – ответила Лия. – Как вы думаете, завтра мы много выроем?
– Посмотрим. Положение очень тревожное.
– Представляю.
– Вы умеете хранить военную тайну? – вдруг спросил Гошка, весь переполненный новостями.
– Не знаю, – испугалась Лия. – Мне ее никогда еще не доверяли.
– А слово дать можете? – спросил раздраженно, боясь, что еще немного, и он выложит ей военные секреты, не получив никаких гарантий.
– Могу, – улыбнулась Лия. – Могу комсомольское. Хотите?
– Хорошо, – обрадовался он. – Положение очень тяжелое. Так что вы завтра особенно много не ройте. Нам отсюда уходить придется.
– Как? – недоуменно вскрикнула Лия.
– Скорее всего, пешком, – не дал он ей договорить. – Обещали вагоны, но они вряд ли прибудут.
– Это неправда. Не сердитесь, но я не верю. Откуда вы знаете?
– Знаю.
– Вам капитан сказал?
– Это неважно. Только не думайте, что я трус.
– Бедный, я ничего не думаю. Я только не могу поверить. И почему это он вам сказал? Почему он всем не сказал? Или все уже спали? Простите, я ничего не понимаю. Зачем же нас сюда привезли? Гоша, ради бога, скажите? Это шутка, да?
– Нет. – Он мотнул головой. – Но помните, вы дали слово. Нас привезли копать оборону. Но фортификаторы, подлецы, бежали, потому что немцы близко. Понимаете?
Они говорили шепотом в огромной, наполненной храпом церкви, но Лии казалось, что допризывник кричит ей в ухо через рупор.
– Вам нельзя в плен попадать! – шепотом орал Гошка.
– Да-да… Я понимаю. Спасибо… Я хотела пойти на фронт. Меня не взяли. Разрешили только в госпиталь, санитаркой. Но я уже была санитаркой. Дома… – Она потупилась, словно боялась обидеть покойную маму. – Я умею стрелять из винтовки. – И она с надеждой посмотрела на Гошку, будто он был начальником арсенала.
– Шофер сказал – никакого оружия не будет. Эта Домна просто врала. Удирать будем. А дали бы винтовку, никуда б не ушел.
– И я, – вздохнула Лия.
Гошка посмотрел на нее с сомнением, но промолчал. Ему не хотелось портить такой хороший ночной разговор. В заброшенной церкви, среди спящих женщин, только они двое бодрствуют. Горят две керосиновые лампы. В разбитое стрельчатое окно виден край освещенного луной облака. Ночь стоит тихая, может быть, первая бессонная ночь за всю его жизнь, если не считать нескольких ночей на крыше во время налетов. Но тогда на чердаках было полно народа, а сейчас они одни.
«Она ничего… Мужественная, – наконец подобрал он подходящее слово. – Ледяной водой обливалась. Б-р-р… – задрожал от воображаемого холода. Стрелять – не копать. Может, и вправду умеет… Я тут один среди оравы женщин. И она тоже одна», – подумал он и проникся к Лии добрым чувством, то ли из-за ее одинокости и заброшенности, то ли оттого, что она разговаривала с ним, как со взрослым, и не гнала спать.
– Обстановка очень тяжелая, – снова повторил, вовсе не придавая этим словам того значения, которое они имели для всех, в том числе для Лии.
Несмотря на то что немцы шли по его земле и он, вполне сносно зная географию, по сводкам Информбюро с недельным или полуторанедельным запозданием узнавал, где сейчас проходит линия фронта, общее положение его как-то мало тревожило. Война вообще казалась ему его личной удачей, и теперь, когда он на нее почти попал, ему не терпелось подойти к ней еще ближе, впритык, получить винтовку, ручной пулемет или «максим» (об автомате ППШ он и не мечтал) и делать то, что делают настоящие парни в кинофильмах. Он был неглупый мальчик и на многие вопросы мог бы ответить толково, но само его существо было пока глупее его разума, и он весь рвался туда, вперед, за реку и тишину, где весь мир в его представлении стреляет, тарахтит, рвется, горит, вспыхивает и кричит «ура!».
– Но как же это вышло?.. – спросила Лия, как-никак она была старше Гошки. Она сейчас чувствовала его таким близким, почти родным, что, пугаясь собственной смелости, выдавила:
– Как это допустили?
– Внезапность нападения! – отмахнулся он, пребывая еще в приподнятом состоянии: ему слышалась пулеметная стрельба и виделись падающие немцы с задирающимися кверху стволами винтовок.
– Я, знаете, плохой политик, – шептала Лия, – но мне очень не нравился договор с Гитлером. Меня это оскорбляло: с такими людоедами здороваться за руку. Нет, это было очень неприятно…
– Дипломатическая хитрость. Нам нужно было спасти украинцев и белорусов, – небрежно сказал он, хотя два года назад ему самому этот пакт был не по душе.
Белорусы и украинцы были какие-то абстрактные, а сражения, которые он рисовал цветными карандашами (а еще чаще представлял их себе перед сном или во сне), были реальными и понятными. После заключения пакта он уже не знал, можно ли рисовать на вражеских касках свастику. На касках англичан можно было писать «фунт стерлингов», но это не так впечатляло. Свастика же была привычной и ясной, и по ней он бы ни за что не промахнулся.
– Нет, не говорите… Я все-таки ничего не понимаю, – не унималась расхрабрившаяся Лия. – Я хочу чем-то помочь. Даже не помочь. Я просто обязана что-то делать. Ну хорошо, пусть – окопы. Но теперь вы говорите, что окопы не нужны.
– Вы не волнуйтесь. Немцев мы разобьем…
– Да. Я понимаю… Но нельзя же сидеть без дела. Вы знаете, – она приглушила шепот, – у моего папы были неприятности. Так я его не только утешала. Я заставляла его писать и писать заявления и жалобы, просьбы и объяснения – во все, какие можно, инстанции. Я ему не давала сидеть без дела. Тормошила его. Если ничего не делать, можно с ума сойти. Опуститься. Можно даже перестать умываться…
– Да, конечно, – не совсем уверенно кивнул Гошка.
– Вы знаете… Я все время думаю: ведь нас больше… Нас в два, нет, в три раза больше, чем фашистов. Пусть один наш убьет одного фашиста и даже сам погибнет. Ведь тогда мы победим. Я сама готова погибнуть, но сначала я хочу убить одного гитлеровца.
– Они в бронетранспортерах едут. Пуля броню не пробивает…
– Так что же делать? А где наши броневики? Помните, перед праздниками нас ночью будили танки?.. Помните?
– Да! Ведь мы с вами из одного дома! – вдруг неизвестно почему обрадовался Гошка.
– Правда, – улыбнулась Лия, не понимая, что же тут удивительного: и Санюра из того же дома, и еще многие женщины.
– А вы петь любите? – спросил он, будто о самом главном.
– Люблю. Только про себя. У меня ни слуха, ни голоса.
– Правда? – обрадовался он. – И у меня тоже. Я только в уме пою. Я вам сейчас спою свою любимую, а вы по глазам догадайтесь.
– Я не сумею, – улыбнулась польщенная Лия. – Я очень неспособная.
– Да нет! Вы обязательно догадаетесь. Вот смотрите! – Он сжал губы, ноздри у него растопырились и зрачки остановились. Он почти не дышал.
– Ну? – наконец спросил он, побагровев, словно тащил четырехпудовый мешок.
– Не знаю, боюсь ошибиться, – смутилась Лия. – Мне показалось, под конец вроде:
Там, где кони по трупам шагают…
– Правильно! – воскликнул он. – А говорите, неспособная. Да вы просто ясновидец!..
Гаврилов, гоняя сон, бродил вокруг храма, спускался к речке, споласкивал лицо и снова, поднимаясь на бугор, обходил церковь. Шофер, не помещаясь в кабине, спал, вытянув из нее огромные ноги. Сапоги на них были поновей гавриловских. Ветер то унимался, то задувал снова, и кровельное железо на церкви бормотало что-то грустное, схожее с вальсом «На сопках Маньчжурии». Гаврилов все песни пел на один мотив, выбирая слова по настроению.
«На немцев работает!» – думал сейчас он про все сразу – и про ветер, и про погоду, и про положение, в которое не по своей воле попали и он, и его страна. И вдруг, в который уже раз со злобой и огорчением, глянув вверх, он увидел скользнувшее по краешку луны самолетное крыло и тут же сквозь ветер угадал гудение бомбардировщиков. Их, похоже, было немало, потому что спустя минуту еще один прикрыл лезвие луны. Шли они высоко, и угадать их он не мог, но летели они прямо над шоссе, и он понимал, что на Москву. С начала войны он так мало видел своих боевых машин, что каждую летящую, пока ясно не различал на ней звезды, принимал за чужую. Так было проще. Не надо было потом ругать себя за дурость. Зато редкие исключения были как подарок. Даже в московском госпитале, когда над головой вертелись ЯКи и МИГи, Гаврилов и то всякий раз ожидал от них подвоха, пока при свете солнца или при снижении ярко не вспыхивала на крыльях родная звезда.
«Все туда – все на него! – думал капитан, боясь даже себе назвать то великое имя. – И мы все стараемся ради него». – И тут Гаврилов со скорбью вспомнил все покинутые виденные и не виденные им города и в первую голову Слуцк, где осталась Сима с детьми. «Все его охраняем, – злобно добавил, забывая на миг, что Москва – это не только место, где живет тот человек, а еще, между прочим, и столица. – Охраняют, не пустят, – повторил, когда вдалеке почудились частые, как удары нервного пульса, выстрелы зениток. – А может, не знает, где сейчас немцы? – пришла в голову нелепая мысль. – Может, ему не докладывают? А как же речь третьего июля? Нет, знает. Знает, да не все».
Его отношения с тем знающим или не все знающим человеком были на самом деле не так просты, как считали сослуживцы Гаврилова и как считал он сам. Сначала для него, красноармейца срочной службы, главным был нарком Клим, луганский слесарь, свой русак, ясный и понятный, а тот, с трубкой, тоже вроде был, но его как бы и не было. И для отделенного Гаврилова Клим еще был главным, но потом все сменилось, и хоть Клим нацепил маршальские здоровенные звезды, а тот по-прежнему носил красноармейскую шинель, не приведи бог было теперь поставить его позади Клима. И, ломая язык, твердо и навсегда, запомнил старшина Гаврилов его трудное отчество и уже никогда не путал. Так, помалу да потиху, стал трубокур из поставленного впереди – взаправду впереди, и лицо его, поначалу некрасивое и чужое, стало привычным, своим, таким, как будто он был с нами всегда, с самого рождения. И уже младший политрук, бойко излагая своими словами газетные статьи, не кривя душой, хвалил Сталина. «Вот это политрук, не то что ты, – говорил себе Гаврилов. – Ты толкаешь бойцам новости, а они в кресты-нолики играют. А он слово скажет – все рот раскроют и еще полгода потом учат-переписывают».
Как человек, всю жизнь работающий с людьми, Гаврилов не мог не уважать авторитет, завоеванный у всего народа. И после, когда потихоньку, а потом и в открытую, в их полку и в соседних стали хватать по ночам командиров, от комполка до ротных, а комиссаров так вообще чуть не сплошь, он, жалея их детей и жен, кивал при женских всхлипах: «Сталин не знает!», но про себя считал: знает, и, бессонно копаясь в памяти, пытался найти вину каждого взятого. И когда найти было нечего и разговоров никаких не вспоминалось, все равно считал, что тому, наверху, виднее.
– Да не гуртись ты, Ваня, при начальниках, – пела ему по ночам мудрая Сима. – Ты при бойцах, при бойцах держись. От начальства – вред один! – и она звала теперь на чай только старшин да помкомвзводов и, изворачиваясь, угощала их чем бог послал.
Тем, может, и спасла Гаврилова в те непонятные годы. А когда ему прошлой весной заместо трех кубарей навесили шпалу и назвали капитаном, рада была до небес не столько большему окладу, как тому, что должность теперь командирская и трепать языком можно поменьше. Все беды от длинных речей, считала Сима. А о Главном политруке она думать не хотела и ему не советовала.
– Ты мой Сталин, – пела ему ночью. – Мне тебя с пацанами – вон как хватает, – и проводила ладонью по шее.
«Да. Ему с верхотуры виднее», – считал Гаврилов до того рассвета, когда их в лагере подняли по тревоге, в Слуцк к семьям не пустили, а маршем двинули назад, ближе к Москве. И десять дней, видя немцев больше над собой, чем перед собой, ждал приказа Гаврилов от того, кто все знает и насквозь видит, а тот молчал. И только за Днепром пришел этот приказ, занявший собой обе стороны дивизионки, и все кругом вздохнули, а Гаврилов насупился.
Нет, не того он ждал от Главного политрука, а теперь и Председателя обороны. И хоть нутром понимал, что в этой речи больше правды, чем во всех прежних, сложенных вместе, не понравилась ему речь; не понравилось в ней три слова: «Непобедимых армий нет». Кто-кто, а Сталин спроста ничего не говорил. Даже шесть годов назад, когда сказанул знаменитое «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи», и то нельзя было это прямо понимать. Кому-то, да и не одному кому-то, может, не стало лучше, да и другим не так уж оно веселее стало. Но эти слова надо было понимать в общем виде и не на сегодня, а как бы наперед, то есть так, что пройдет время и действительно будет и получше и посчастливей. И, привыкнув понимать каждое верховное слово как знак на дальнее, Гаврилов прочитал фразу о непобедимых армиях, рассчитанную на душевный подъем и уверенность в разгроме немцев, как намек на то, что можно и не победить.
«Трусишь! – впервые даже в мыслях сорвался на «ты». – Страхуешь себя?! Обмазал тебя Гитлер с головы до сапог. Ну и хрен с тобой. Не маленькие. Хватит молиться… Самим расхлебывать надо…»
Это было поздним вечером. Он вышел из избы, кликнул командира первой роты и приказал окапываться.
– Люди устали… Да и место такое – обойдут сразу, – попробовал отговорить Гаврилова старший лейтенант.
– Пули захотел? – гробовым шепотом спросил капитан, и комроты-один, не узнав своего комбата, пошел отдавать приказание.
– Построй людей, – сказал Гаврилов на рассвете, но, вспомнив, что они ночь не спали, отменил построение. – И так поймут. В общем, надеяться, друг, нам не на кого… – И по его печальному голосу старший лейтенант понял меру отчаяния комбата и по-другому увидел себя, страну и армию.
Оборона и впрямь была никакая. Танки их смяли в первые четверть часа, а Гаврилову, который забыл в самом начале боя, что он уже не политрук, а комбат, и выскочил на бруствер с пистолетом и привычным еще с маневров криком, «За Сталина!», очередью из немецкого танка прострелили легкое и два раза левую ногу.
«Его зенитками берегут, – думал сейчас Гаврилов. – А мне моих женщин этим прикажешь? – Он хлопнул себя по кобуре. – Больше вроде и нечем. А Симке чем прикажешь обороняться?»
Ему стало тоскливо и холодно, он пошел в церковь наскрести в каком-нибудь ведре каши: вдруг не вовсе остыла. У верстака, спиной к капитану, сидела какая-то деваха в пальто, а напротив нее, привалясь к верстаку, стоял парнишка, тот, что рыл окоп. Парнишка глядел на девку и капитана не заметил. Сначала Гаврилов подумал, что они играют в гляделки, потому что лицо у паренька так напряглось, что показалось, он вот-вот лопнет. Но потом девка сказала какие-то стихи про лошадей и мертвых, и капитан, догадавшись, что у них не любовь, а одно баловство, погнал их спать.
11. Гнедых любят
Утром женщины вынесли из церкви ведра, отскребли их от вчерашней каши и начали варить новую. Из деревни пришел чисто выбритый («Как новенький!» – подумал капитан, пробуя свою, второго дня щетину) старичок Михаил Федорович.
– Какие будут указания? Вы в Москву дозвонились? – Он торжественно замер перед капитаном, только что руку не прижал к картузу.
– Указание одно – рыть. Ночью два раза самолеты пролетали, – сбавил голос Гаврилов. – Рыть надо, отец: женщины хоть себя спрячут.
Голос капитана как-то не вязался с настроением старичка, и тот, не сдаваясь, напомнил про ежи.
– Мои помощники вчера нарезали немного. Сейчас сваривать начнут. Откуда прикажете первые ставить?
– Это напоследки. Не убегут, – отмахнулся Гаврилов. – Рельса вообще не того… Балка нужна. Ну да ладно. Все будет хорошо, отец, – сказал он, чтоб хоть как-нибудь закончить разговор. – А меня простите. Две ночи не спал.
Студент, оставшись за капитана, побаловался печеной картошкой, похлебал из ведра кипящей каши и до следующей кормежки изнывал от безделья. Он уже три раза обошел всю будущую позицию, держась на дистанции от женщин, которые, отрываясь от копки, то и дело задирали его:
– Давай подмогни!
– Иди погреемся!
– Не холостуй, парень! – или в том же духе.
Будь их две или на крайний случай три, он бы нашел, как отшутиться, но такая прорва не манила, а скорей отпугивала. Поэтому с серьезным и мрачным лицом вышагивал он рядом с маленьким Михаилом Федоровичем, который с утра сиял, как жених или именинник.
– Мы потом соединим окопы. Получатся хорошие хода сообщения. А завтра можно будет и землянок нарыть. Шпалы теперь без дела остались. Накатом их уложим.
– Шпалы коротки, – отрезал студент. Суетящийся старичок порядком его раздражал.
– А ежи вы не видели? – хвалился тот через минуту. – Вот извольте, – и тащил водителя через дорогу, где в кювете лежали сваренные двухметровые обрезки рельсов.
– Мы по три соединяли. Думаете, достаточно? По четыре ребяткам трудновато везти на тачке, – радостно оправдывался старичок.
– Сойдет, – зевнул студент.
– Балка бы, конечно, лучше против танков. Но где ее взять? Приходится ограничиваться подручными средствами.
– Угу, – кивнул студент. «Может, сказать ему, чтоб не очень заводился? – подумал, глядя на кругленького старичка. – Да нет. Пусть порезвится. Вон какой веселый».
– Я уже докладывал товарищу капитану, – не унимался Михаил Федорович, – что считаю необходимым взорвать железнодорожный мост. Станция все равно разбита, и движение на запад не производится. А при наличии моста немцы нам могут зайти с фланга.
– Женщинам, что ли? – съязвил студент. – На женщин они с передка пойдут, – сострил и сам же смешался, но старичок согласно захихикал:
– Простите, оговорился. Я имел в виду красноармейцев, которые займут наши позиции.
Михаил Федорович не хотел терять ни капли воодушевления.
– Они сами и подорвут, – ответил студент, вовсе не думая о том, что кто-то будет занимать эти траншеи, а тем более взрывать на их левом фланге железнодорожный мост.
«Может, капитана разбудить? Пусть поест…» – убеждал он себя, прекрасно понимая, что будить две ночи не спавшего человека даже ради жратвы не стоит.
– Прикажите им лучше, пусть гальюны себе отроют, – сказал он старичку.
– Да что с ними делать будешь? Сначала стеснялись, за мост в лесок бегали… Устали, наверно. Не знаю, как вы, товарищ боец, а я их, прямо сказать, побаиваюсь… Уж очень их много. Вот разве что эти утихомирят! – И старичок ткнул рукой в сторону леса, высоко над которым летело три звена самолетов.
– Эти не для них, – отрезал студент.
– Наши? – обрадовался старичок, но студент не ответил.
Молодым зрением он сразу угадал в летящих машинах «Юнкерсы-87». Точно такие летели в ту же сторону два часа назад, когда он, наворачивая кашу, случайно задрал голову. Те шли очень высоко и возвращались, видимо, на той же высоте, потому что возвращение их он прозевал, а в то, что их всех сбили, верить при всем желании не мог. Нынешние шли ниже, так что даже были видны очкастому старичку, но крестов на их крыльях он, слава богу, не разглядел. Женщины тоже не обратили на них особого внимания, только две или три, прикрывшись ладонью от неяркого солнца, на минуту задрали головы, а потом опять взялись за лопаты.
– Денек, а? – вздохнул Михаил Федорович. – Прямо бабье лето с опозданием!
– Фрицевское скорей.
– Не волнуйтесь, товарищ военный, – успокоил старичок. – После такой случайной теплыни сразу крупа начинается, а то и нешуточным снежком посыпет. Померзнут немчики.
– И женщины не согреются, – ответил студент и пошел к церкви.
«Может, проснулся уже?» – надеялся он, но капитан спал, наглухо закрыв дверцы кабины. Через спущенное всего на два пальца, заляпанное грязью стекло было видно, как ему неловко: портупея была не расстегнута, а только ослаблена на три дырки, и глаза от света прикрыты фуражкой.
Студент снова пошел к костру и попил с поварихами чаю. Они почти все были пожилые, годились ему в матери, и он их не так сторонился. У некоторых на фронте были сыновья.
– От моего третью неделю ничего… – вздыхала одна.
– И от моего…
– И мой не пишет.
– А ты такого не встречал? – снова называя имена и фамилии, приставали к шоферу, и, когда он в который раз объяснял, что на фронте еще не был, потому что прикреплен к московской обороне, они как будто не завидовали, а радовались за него, что он не в «самом пекле».
– Еще попей, парень!
– Чай не водка, много не выпьет.
– Непьющий. Лицо чистое.
– Спасибо, – сказал студент и после третьей кружки, осмелев и махнув рукой на хаханьки окопниц, поплелся на бугор к допризывнику Гошке. «Зря я ему вчера наплел. Протреплется, сопляк».
Гошка уже с головой торчал в своем окопчике, а над ним, на бруствере, сгребала землю рыжеволосая девушка в куцем пальто и рыжих высоких ботинках, на которые из-под юбки были спущены синие лыжные шаровары.
– Хороший отгрохали? – крикнул из глубины Гошка, и студент, чтоб не обижать рыженькую, согласно кивнул. Уж больно она была некрасивой, с ржаными ресницами и огромными веснушками, но была в ней такая забитость или растерянность, что говорить с ней жестко – было бы не уважать себя.
– Чего засмотрелся? – крикнула ему в спину Санька. – Мы тут тоже даем угля.
– Вас зовут, – смущенно сказала Лия.
– Потерпят, – отмахнулся он. – Давайте покажу вам, как… – Он взял у нее лопату. – А вы не стесняйтесь, рукавицы наденьте, – сказал тише, словно сразу разгадал Лию. Она, понятно, вся вспыхнула и с ненавистью поглядела на свои маленькие ладони с большими белыми волдырями.
– Эй, шофер, я тоже не знаю! Покажь! – кричала Санька из траншеи.
– И чего они гнедых любят? – вздыхала рядом Ганя. – И Кланька моя с гнедком. Правда, не такая. У этой рыжина сплошь.
«Ну, попал! – заливаясь краской, студент подравнивал бруствер. – И не уйдешь теперь – девчонку жалко. Совсем заклюют».
– Понимаю, понимаю. Теперь я сама, – извинялась Лия.
– Ничего, – басил студент. – Еще нароетесь.
– Значит, останемся здесь?! – поднял голову Гошка. – Я ж вам говорил!
– Тихо! – вскипел студент и показал Гошке из-за спины кулак.
– Ясно! Могила! – пролепетал Гошка и тут же глянул на Лию зверскими глазами. Но студент перехватил взгляд и понял, что сопляк проговорился.
Девушка тоже подняла голову и кивнула студенту: дескать, знаю, но больше никому не скажу; и он, как бы каясь в своей болтливости, словно друга, хлопнул рыженькую по плечу, и она это поняла.
«Эх, не поговоришь тут!» Студент досадливо оглядел берег и склон бугра. От моста до моста и чуть дальше за шоссе шла спорая работа. Женщины, как в трясине, тонули в земле, и некоторые уже ушли в нее по плечи и шею.
– Этот окоп хватит! – сказал студент. – Давайте другой.
– Давайте, – сказала Лия.
Она тоскливо глядела на молодого человека, не решаясь верить, что чем-то приглянулась ему. «Просто нужно где-нибудь рыть. Вот и помогает. Тем более я тут самая безрукая, – ответила своим горячим от волдырей ладоням, которые ныли под жесткими рукавицами. – Но он очень милый. Понятливый. Наверно, тонкой душевной организации. Даже чем-то похож на Виктора. Только Виктор…» И она, не додумав, вспомнила то, чего не знала махавшая сейчас киркой подруга. На шестой день войны, когда Санька с матерью пошла провожать мобилизованного отца, в коридоре снова зазвенел телефон:
– Лия, это злополучный Виктор.
– Санюры нет дома, – сухо ответила она.
– Лия, мне надо вас… Вы знаете клуб камвольной фабрики? Это на «букашке»… Только приходите одна.
– Хорошо, – сказала Лия, поняв, что его взяли в армию.
И когда назавтра он, странно преобразившийся в непригнанных гимнастерке, галифе и в ботинках с обмотками, хватая ее за руки и жадно глядя ей в лицо, шептал, что она сразу произвела на него впечатление и что он ее смущался, а Саня такая разбитная и ловкая, а он выпил. Лия слушала его, не отводя лица, слушала и не верила ему. И когда на прощанье он стал ее целовать, она не отворачивала головы, но все равно ему не верила. Все мужчины такие слабые; и этот тоже слабый, хоть и честный мальчик. Он был виноват перед ней, чувствовал это, желал оправдаться и поэтому, несмотря на свою честность, врал еще больше. Нет, она не была нужна ему. Просто из суеверия он хотел, чтобы кто-то его проводил туда, где бомбы, пули, снаряды, где смерть… А Санюру он позвать не мог, ему было перед ней совсем стыдно.
– Я тебе буду писать, – сказал Виктор.
– Хорошо, – кивнула она, надеясь, что тоскливая минута прощанья быстро позабудется и он не напишет. Потому что, если Санюра найдет в ящике письмо, могут начаться новые неприятности. Тем более ее отец, которому Лия после повестки все простила, ушел на войну, а Лиин папа, хоть и не жалеет себя на ответственном строительстве, все-таки не подвергается каждое мгновение смерти.
И теперь, глядя на бойца, она скорее огорчалась, чем радовалась, его вниманию и заботливости.
– Стоп! Без меня тут… – вдруг крикнул тот и, выпрыгнув из неглубокого, только начатого окопа, побежал по склону к мосту.
– Откуда?! – кричал он.
Лия увидела, что на том берегу из леса выскочили навстречу водителю два бойца в ужасно грязных, прямо-таки черных шинелях. «А вдруг переодетые немцы?» – со страхом подумала она, глядя на их запачканные и натянутые на уши пилотки. Но первый из бежавших бойцов уже обнимал водителя. Потом его обнял второй боец, и они трое, привалясь к перилам моста, стали весело размахивать руками. Водитель в давно не новой вспотевшей под мышками гимнастерке казался щеголем рядом с измученными, небритыми, грязными красноармейцами. Но было видно, что они ему ужасно рады. Потом бойцы побежали на ту сторону в лес, а водитель побежал назад по мосту, взлетел к ним на бугор, схватил шинель и, на ходу застегиваясь и не отвечая на молчаливый Гошкин взгляд, помчался к церкви, наверно, будить капитана.
12. Сукно и хром
Спросонья Гаврилову почудилось, что его арестовывают. Над ним нависло перекошенное злобой лицо, к тому же перевернутое так, что звездочка на меховой шапке оказалась ниже высунувшихся из-под кожанки синих петлиц.
«Где я промахнулся? – звенело в полусонном мозгу. – По телефону открыто сказал? Грузовик не вернул? Так не себе, а женщинам вез! Ларечник? Нет. Накладные в порядке были!» Он, не торопясь, выбрался наружу. Перед ним стоял в новенькой зимней кожанке с новым автоматом на хромовой груди лейтенант внутренних войск. Кубари, правда, успели спрятаться под мех, но Гаврилов еще лежа заметил, что их на каждой петлице всего по два.
– Спишь? – спросил лейтенант, не торопясь, уверенный в своем праве задавать вопросы.
– А что, нельзя?! – злобно ответил Гаврилов. Теперь он видел, что лейтенант один – за его спиной прислонился к церкви мотоцикл «Иж-8» без коляски.
«От, чертяка хромовый! Удобства любит! – подумал капитан, завидуя сразу кожанке, ушанке, новенькому ППШ, а всего больше – мотоциклу. – Тебе бы еще перину! Ага, и она есть», – усмехнулся Гаврилов: в шагах пяти от лейтенанта, осклабясь, стояла Марья Ивановна.
«Унюхала», – подумал капитан.
– Ну? – сказал вслух.
– Что – ну? – разозлился кожаный. – Немцы где?
– Это ты мне доложи, – нарочно зевнул Гаврилов, твердо уже понимая, что лейтенант приехал не за ним. – Ты бы ему сказала, а то будит зря, – повернулся к Марье Ивановне.
– А мне что?! – огрызнулась та.
«Нешто так хреново, что уже этих посылать стали?» – со злорадством и одновременно с печалью подумал Гаврилов.
– Где противник, капитан? – медленно процедил кожаный, который, видимо, привык задавать вопросы.
– Я тебе не капитан, а товарищ капитан! Понял? – побледнел Гаврилов, ловя, как в прицеле, брезгливую ухмылку Марьи Ивановны. – А ну – руки по швам и стать, как положено…
– Ладно, не психуй, – сбавил гонор кожаный.
– Откуда едешь?
– Откуда надо. Я вам не подчиненный.
– А не подчиненный, так дуй отсюда к едрене-матрене, – снова зевнул Гаврилов, считая, что кожаный пены сбавил, а особо нажимать не стоит, потому что связываться с их народом – себе же хуже.
– Давно вы здесь? – теперь уже по-людски спросил кожаный.
– Вчера прибыли, – ответила вместо Гаврилова старшая.
– И ничего такого не было?..
– Ничего, товарищ начальник.
– Ни немцев, ни наших?..
– Нет.
– Вот пироги… – вздохнул кожаный.
– Ничего, жив будешь – привыкнешь, – издевался Гаврилов. – А ну, заводи колеса – начальство разведки ждет.
Он уже понял, что кожаного послали вперед выяснить обстановку. Хотелось Гаврилову еще узнать, кто послал и много ли у того начальства бойцов и техники, и пришлет ли оно их сюда, в эти окопы, а лучше еще дальше – за реку, но понимал, что кожаный ему, армейскому капитану, ни черта не скажет.
– Давай газуй, – сказал Гаврилов, давая понять кожаному, что видит насквозь его растерянность, а может, и трусость.
«Это тебе не ночью людей будить», – хотел добавить, но сдержался.
– Поели бы, – сердобольно протянула Марья Ивановна. – Горяченькая! – И пошла к костру.
– Пожалуй, – пробормотал кожаный.
Он неловко топтался перед храмом, растеряв половину форса.
– Ну? – Гаврилов с презрением снова посмотрел на кожаного, но тут капитана отвлек бегущий водитель.
– Товарищ капитан! Товарищ капитан! – кричал тот, задыхаясь. – Там наши!
– Где? – вскрикнули разом Гаврилов и кожаный.
– Сразу за речкой… Раненые у них… Сейчас принесут…
Кинувшись к мосту, Гаврилов и кожаный увидели на той стороне бойцов, с виду больше похожих на беглых каторжников. Шинели на них были черно-рыжие, словно они ползали в них по болотам, а потом терлись о кору или опавшую листву. Обмоток ни у кого не было, а пилотки были у всех вывернуты и натянуты на уши. Сначала появились трое, точнее двое, которые несли на каком-то куске брезента, обрывке палатки или орудийного чехла, третьего красноармейца. Правая нога раненого была обмотана тоже брезентом, цветом почернее – видно, запеклась от крови. Женщины с криком бросились на мост, опережая командиров.
– Подождем, – сурово сказал кожаный.







