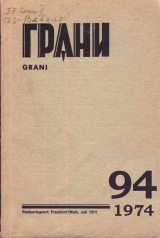
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Капитан ничего не ответил. «Пусть командует, – решил про себя, – чего высовываться? Мне женщин во как хватает… А теперь – раненых, как пить дать, подкинут».
Из лесу вышли еще трое бойцов, тоже больше смахивающих на леших. Двое, видимо, были легкораненые. У одного рука была подвязана, у другого висела вдоль тела. Третий боец, обнимая их за плечи, прыгал на одной ноге. Вторая была укутана в надрезанный шинельный рукав, обмотанный телефонной проволокой. За ними еще двое красноармейцев несли тяжелораненого на самодельных носилках. Женщины на мосту обнимали бойцов, принимали раненых и с криком и плачем несли дальше.
– Как бы тебе, студент, не пришлось газовать в госпиталь, – тихо сказал Гаврилов.
– Платформы ж обещали… – тоже тихо отозвался водитель, словно объясняя, что своей волей не хочет бросать капитана с такой прорвой женщин.
– Обещанного, знаешь, три года… – вздохнул Гаврилов. – Ладно, подождем чуть. Погрей пока мотор.
– Ой, господи, молоденькие…
– Надо же!
– Ироды, народ губят! – причитали женщины, не столько помогая, сколько мешая тем, кто ухватился за носилки или за край брезента нести раненых. Некоторые крестились сами и крестили бойцов.
Красноармеец, тот, что минут пять назад выбегал навстречу водителю, еле пробился через толпу женщин и у самого края моста, забывая вывернуть пилотку, но притягивая к ней ладонь, лихо закричал:
– Товарищ майор! Старший штурмовой группы красноармеец Шкавро и восемь бойцов прибыли.
Кубари у лейтенанта были под меховым воротом, и потому, глядя на обтрепанную гавриловскую шинель, боец решил, что моложавый командир в кожаном должен быть хоть на ранг, а все ж постарше.
– Докладывайте обстановку, – хмуро сказал кожаный. – А вы ждите пока! – крикнул остальным красноармейцам, которые, отдав женщинам раненых, хотели перейти на этот берег.
Красноармеец Шкавро замялся: видно, ожидал другой встречи.
– Командиры где? – спросил кожаный.
– Нету, – потупился боец.
– Как? Бежали? – вскипел кожаный.
«Умеешь права качать», – вздохнул про себя Гаврилов, но пока сдержался.
– Убитые, – сказал красноармеец.
– Откуда вы? – зло спросил кожаный.
– Оттуда… – Боец махнул рукой в сторону леса.
– В церкви положите пока, – сказал Гаврилов женщинам, которые проносили мимо него раненых.
– Вижу, что не из Москвы! – съязвил кожаный. – Из лесу? Из окружения?!
– Мы не окруженцы, – с обидой и страхом ответил красноармеец. Видимо, это слово равнялось для него словам «враг» или «предатель».
– Дезертиры?!
– Да погоди ты! – перебил кожаного Гаврилов. «И чего я лезу?» – подумал про себя, но терпение уже вышло. – Товарищ боец, вы давно из боя?
– Три дня, – поднял красноармеец голову.
– Три дня лесом шли?
– Лесом только ночью.
– А днем – полем? – ощерился кожаный.
– Нет, днем пережидали, – поправился красноармеец, понимая, что против начальства не попрешь и надо сносить все, даже насмешку. – У нас раненых пятеро. Трое не ходят, – добавил он.
– Я видел, – кивнул Гаврилов. – Как шли? Дай карту, – повернулся к кожаному.
– Не могу. Секретная.
– Эх, черт! А моя как раз тут срезана… На восток все время шли? – спросил бойца.
– Вроде…
– Володи, – не зло усмехнулся Гаврилов. – Ну а немцев видели?
– Нет, мы деревни обходили.
– Я же сказал: дезертиры! – обрадовался кожаный.
– Да погоди ты! – снова отмахнулся Гаврилов. – Оружие есть?
– Есть… Только немного. «Дегтярев» один, ну и винтовки…
– И гранаты? – подсказал Гаврилов, как экзаменатор растерявшемуся первому ученику.
– И гранаты, – кивнул боец, – только мало…
– Дезертиры, – мрачно повторил кожаный.
– С «Дегтяревым» не дезертируют, – оборвал его Гаврилов. – Ты вон с этой цацкой и на колесах, один, без раненых, не очень вперед лезешь! А они герои! Герои! – твердо повторил он.
– Товарищ капитан, при младшем дискредитировать…
– Брось, лейтенант, – отмахнулся Гаврилов, снимая с кожаного всю его тайную важность. – Молодцы, ребята! – повернулся он к бойцу. – Молодцы! Сейчас вас покормят. Жалко только, что немцев не видели. Может, хоть танки слыхали?
– Нет, врать не буду, товарищ капитан. Не слыхали. Нас штурмовая группа была – полтора взвода, а всего девять осталось. Лейтенантов двоих убило. Мы к своим, к окруженным, пробивались вперед. Два раза немцы нас отбили. Тогда мы в лес и больше не высовывались…
– Значит, впереди бой?.. – обрадовался Гаврилов.
– Ага, товарищ капитан. Там нашего брата сосчитать невозможно. Вроде две армии окружены…
– Ну, вы мне панику не сейте! – рассвирепел кожаный.
– Ладно. Пока помолчи, – снова обрезал его Гаврилов. – Значит, танков, говорите, не видели?
– Нет, только самолеты.
– Ну этого добра и тут хватает, – усмехнулся капитан. – Вон снова летят.
Над лесом, вовсе не так высоко, метрах на восьмистах, не больше, летели три «юнкерса» и чуть сзади и выше их два «мессершмитта».
– Отойдем, капитан, – тихо сказал кожаный.
Красноармеец покорно остался ждать у моста. Женщины все сбежались к церкви. Оттуда доносилось:
– Ваньку Сизова видел?
– А Евтеева Сергея?..
– Слушай, милый, Шлыковых, Шлыковых Вальку с Валеркой встречал? – надрывалась Ганя.
– Ну? – сказал Гаврилов, когда они с кожаным поднялись на бугор.
– Ты командовать останешься? – спросил кожаный.
– Куда мне?.. Не видишь, что ли?.. – кивнул он на церковь и женщин.
– Тогда не мешай. Боец, ко мне! – крикнул кожаный в сторону моста.
– Только помни: люди все-таки, – вздохнул Гаврилов, понимая, что говорит впустую.
– Не учи, – огрызнулся кожаный. – Вот что, товарищ боец, – сказал он подбежавшему красноармейцу, – по лесам погуляли, теперь и повоевать надо. Приказ такой. За мостом отроете ячейки и займете оборону. Наши подойдут – вас сменят. А теперь – кругом! Обед вам туда доставят.
– Так, товарищ капитан? – Боец глянул с надеждой на Гаврилова, вдруг тот снова обрежет командира в кожаном. Но Гаврилов только спросил:
– Лопат не требуется?
– И девушек бы заодно… – усмехнулся боец.
– А что! Это можно, – развеселился кожаный. – Этого добра тут хватает.
– Не дам, – мрачно сказал Гаврилов.
– Ты что? – удивился кожаный.
– Не дам, и все. Забирай, боец, лопаты, присылай за кашей. И, повернувшись, Гаврилов пошел к церкви.
– Тебе чего, гарему своего жалко? – спросила вертевшаяся неподалеку Марья Ивановна, когда он проходил мимо. – Так он тебе, вроде, ни к чему.
– Мне еще как сказать, а женщинам действительно ни к чему на тот берег. Там сейчас, может, бой будет.
– Да не паникуй, капитан, – сказала, догнав его, старшая. – Или у тебя заодно командирскую храбрость оттяпало?
– Дура, – печально улыбнулся он. – А тебя, между прочим, немцы тоже не пожалеют…
– Ты чего это?
– А ничего, Маруся… Слушай меня, только тихо. Мы с тобой накрылись… Впереди войск нету. Пусто… Все равно как там. – Он показал на небо, по которому недавно пролетели немецкие машины. – Напутал кто-то, не туда нас послали. Вчера по телефону обещали мне платформы. Но сама знаешь: верить – верь, а надейся на одного себя. Так вот, если, – он поглядел на большие, переделанные из карманных, наручные часы, – через сорок минут платформ не будет или приказа нового не пришлют, снимайся отсюда и дуй назад.
– Врешь, – уже по инерции сказала старшая. – А этот на что? – вдруг вспомнила она про кожаного, который следом за бойцом шел сейчас по мосту на тот берег.
– На мотоцикл сядь! – с издевкой крикнул ему Гаврилов, но тот только рукой махнул.
– Раненых стесняется, – сказала старшая.
– Да нет. Ему далеко ехать страшно, – засмеялся капитан и хлопнул Марью Ивановну по заду.
– Ты чего? Или заиграло? – улыбнулась она.
– Заиграло. Да играть, Маруся, нет времени, – подмигнул Гаврилов, зная, что теперь им ссориться никак нельзя.
– Врал, значит?
– Ну как сказать… Может, малость присочинил с устатку.
– Ну и ну, – покачала она головой. – Артист же ты… Ой, да погоди! Вон они, твои платформы.
И вправду, на горизонте запыхтел серый дымок, и почти внятно послышались небыстрые перестуки колес.
13. Транспорт наземный и воздушный
– Там оружия полно, – зашептал Гошка, возвращаясь от моста к Лии. У них не было на фронте родных, и они не побежали к раненым, а присели у своего окопа.
– Хорошо бы – удалось… – кивнула Лия.
– Капитан не пустит. Парень с автоматом просил подкинуть женщин на тот берег, а капитан уперся, – покраснел Гошка, потому что утаил, для чего кожаный просил у Гаврилова женщин.
– Ну зачем же он так?.. – спросила Лия, хотя хмурый усталый капитан внушал ей больше доверия, чем бравый мотоциклист в кожанке.
– Знаешь что? В крайнем случае ночью под мостом переберемся! – по-заговорчески переходя на «ты», зашептал Гошка. – Вода ведь не такая холодная?
– Нет, – улыбнулась Лия.
– О чем шепчетесь? – крикнула с бугра Санька. – Не попадался им мой алкоголик, – засмеялась она. – Авось, жив папаня. Пьяного пуля боится.
– Скажем ей? – нерешительно спросил Гошка. Ему нравилась пухлая и смешливая Санюра.
– Давай спросим, – согласилась Лия.
– А чего? Можно! – бодро зевнула Санька, когда они, перебивая друг друга, шепотом стали излагать ей свой план. – Только одного фрица мало. Я меньше чем за пятерых несогласная!..
Веселой Саньке умирать не хотелось, да и все это пока было только разговорами.
– Ой, ребятишки! – крикнула она вдруг. – Гляньте, поезд идет.
– Я их, капитан, собирать не буду. Сам скликай, – ворчала Марья Ивановна. – Все равно как в опере – «фига – тут, фига – там». Только людей мучить.
– Ладно, сам скажу. Погоди, – отмахивался Гаврилов. Поезд шел медленно, кроме дыма, ничего пока не было видно.
– Порядок! – взбодрился за спиной Гаврилова кожаный. – Подкиньте, бабочки, товарищу бойцу шесть мисок.
За спиной кожаного стоял красноармеец в грязной шинели, но в уже приведенной в порядок пилотке. «Это другой, – подумал Гаврилов, – не тот, что докладывал».
– Быстро ты обернулся, – кинул он с насмешкой кожаному.
– А что? Людей расставил. Уже окапываются.
– Орден получишь!
– Брось…
– А чего? Дезертиров остановил. Панику, можно сказать, ликвидировал. Оборону поставил. Вполне дать могут, – издевался Гаврилов. – Вырви лист – напишу представление.
– А что – и остановил ведь, – не очень уверенно защищался кожаный.
– А я что? Дай-ка бинокль, если не секретный.
В шестикратном увеличении дым полз не быстрее, зато было видно, что паровоз-«овечка» опять прицеплен не по-людски, сзади трех платформ. Людей на них не было.
Ты шлешь моряков на тонущий крейсер,
Туда, где забытый мяукал котенок… —
вдруг вспомнился Гаврилову ошметок стиха, который на двадцать вторую годовщину задумал было читать с трибуны салажонок из карантина.
– Не пойдет, – сказал тогда политрук Гаврилов.
Вся ленкомната, набитая этими ротными сачками-артистами, разом повернула к Гаврилову свои тридцать с лишком голов. В стихотворении были еще слова про то, как хорошо шестидюймовками бить по Кремлю, но Гаврилов, не касаясь этого, ответил:
– Не для того революция была, чтоб кошек спасать.
– А вы сами, товарищ политрук, участвовали? – наведя невинно-ехидные глаза, спросил читальщик.
– Я – нет, да и Маяковский твой – нет.
– Он «Окна РОСТА» рисовал.
– Это что? Картинки? – притворился темной деревней Гаврилов.
Хоть он и был политруком и как бы родным отцом и покровителем самодеятельности, но самозваных артистов терпеть не мог и считал их всех до одного лодырями. «Настоящий боец, – считал Гаврилов, – тот, кто от службы не бежит и товарища за себя в караул или в кухонный наряд не гоняет. А все эти сборы, проверки-репетиции, простые и генеральные, – одна мура и безделье. Повод командирских жен за сценой потискать. Настоящий боец, да и парень настоящий, он тебе без всяких репетиций на марше такое к месту отмочит, что рота животы надорвет. А со сцены да по бумажке или на память выучить – это каждый дурак сумеет».
Но вслух он этих мыслей не высказывал, потому что самодеятельность считалась надежным помощником командиров и политработников в деле укрепления воинской дисциплины, и, пока ходил в политруках, он соглашался с этой формулой, стараясь только пореже ее повторять.
– А вы знаете, – взвился тогда в ленкомнате новенький боец, – что «Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом»? Знаете, кто это сказал?
– Знаю, – ответил Гаврилов.
– То-то, – сказал боец под одобрение всех этих самонадеянных сачков. Видно было, что они ни в грош не ставят политрука.
«Вот крючки на мою голову! За кого, смельчаки, хоронитесь?!» – обиделся он тогда не столько за себя, сколько за весь политсостав РККА.
– А ну, дай-ка книгу. Других, что ли, стишков нету? Вот про паспорт можно или про город-сквер…
Он взял толстый большой том, раскрытый на первых страницах, глянул на вытянутое глистой стихотворение и, еще не разобрав всего, заметил под ним цифру: «1918».
– Не пойдет, – повеселел, возвращая книгу.
– Разрешите обратиться к комиссару полка! – звонко крикнул салага.
– Обращайтесь, – усмехнулся Гаврилов. – Только он тоже не позволит. Твой Маяковский советской эпохи, а стихи-то военного коммунизма. Неувязочка? А? – И салага не то чтобы был посрамлен, но закрылся.
«А может, и прав был Маяковский? – думал сейчас Гаврилов, разглядывая в бинокль три платформы и паровоз. – Хоть и не кошки, а все же шлют транспорт, спасают, хотя его сейчас – полный дефицит. Хрен бы где в другой стране спасли!» И, вспомнив заодно челюскинцев и папанинцев, он примирился сразу с тем бойцом-декламатором, которого ранило во время бомбежки, и заодно с автором стихотворения, который сам себя застрелил.
– На, забирай, – протянул он лейтенанту бинокль и тут же простым взглядом увидел над медленным составом быстро растущий «мессершмитт».
Железнодорожная насыпь вильнула вправо, и теперь состав со стороны церкви был виден весь. Он пятился от самолета, а самолет пер на него. С первого захода «мессершмитт» только дал пулеметную очередь и круто пошел вверх. Скорость у истребителя была велика, а поезд еле тащился.
«Сейчас из пушки жахнет», – подумал Гаврилов.
По всему бугру стояли женщины, они остолбенело глядели на паровоз и истребитель.
– Ложись! – закричал Гаврилов. – Раненые где? – Он обернулся, но бойцов еще раньше отнесли в церковь. Кожаный уже лежал на земле, и боец, который пришел за кашей, тоже лежал подальше, возле костра. На бугре женщины прыгали в траншеи.
«Сейчас в котел даст, – подумал Гаврилов, глядя с земли, как самолет заходит издали, чтобы вырулить поближе к отползающему паровозу и расстрелять его из пушки. – Двадцать миллиметров калибр, пробьет…» И тут истребитель, летя почти по прямой, жахнул два раза в «овечку», но то ли не попал, то ли срикошетило, а только паровоз продолжал пятиться к разбитой станции.
– Ага! – обрадовался Гаврилов и повел взглядом за истребителем, который, полоснув по паровозу из пулемета, взрулил не очень высоко и закачал крыльями над картофельным полем. «Вроде хвалится? Так ведь не убил машиниста… – Капитан повернул голову к паровозу. Тот, все так же медленно, отползал к развороченной станции. – Нет, зовет своих», – решил Гаврилов и тут же услышал винтовочный выстрел. Из кабины «ГАЗа», приоткрыв дверцу и уложив на нее карабин, студент целился в истребитель.
«Пустое! – подумал капитан. – Не попасть. Да вреда тоже нет: за мотором не услышит…»
И действительно, «мессершмитт», помахивая крыльями, как ни в чем не бывало покачивался над картофельным полем.
«Улетит или нет? Улетит или нет? – нервно гадал Гаврилов, подпирая пальцами небритый подбородок. – Улетай! Смерть мне лежать на земле, хоть и сухо сейчас. Ну, лети отсюда!» – чуть не просил он, словно это был свой самолет, а не немецкий.
И тут за спиной, за церковью, завизжало, заревело заводской сиреной, – раз-раз-раз, – пошли взрывы, и сразу завыло кровельное железо, а над самим Гавриловым взмыл огромный желтый с красным носом и красными колесами бомбардировщик «Юнкерс-87».
Этот не играл с паровозом, как сытый кот с мышью. Косо, под самым малым углом перелетев рельсы, он кинул две бомбы, и Гаврилов, уткнув голову в землю, даже не успел понять, что железнодорожная эвакуация отменяется. Опять от свиста, рева и новых взрывов заложило уши – и второй, точно такой же огромный и желтый, бомбардировщик взмыл над Гавриловым поближе к железнодорожной насыпи. Визг сжимал голову и сдавливал затылок, не давая оглянуться, а надо было, ох как надо было поглядеть, что там, на бугре, сзади.
«Хоть бы в женщин не попало!» – уже не думал, а скорее мечтал капитан, потому что тяжелая голова мыслей не принимала.
За церковью взорвалось еще два раза, а потом началась пулеметная стрельба. Она прошивала вой сирен и грохот кровельного железа.
– У-у-у! – неслось над всем полем, то глуша, то чуть отпуская, чтобы снова еще сильней оглушить.
«Да что им, воевать не с кем? – тоскливо пронеслось в голове. Тут же рядом проскочили земляные брызги от пулеметной очереди. – Это они по тому берегу», – вспомнил он, слыша новые взрывы, идущие со стороны церкви.
– Твою оборону бомбят! – шепотом крикнул он кожаному, но тот лежал, не подымая головы. – Привыкай! – крикнул капитан, но кожаный, видно, не услышал, потому что снова начал нарастать вой снижающихся «юнкерсов». Теперь они пролетали над бугром и картошкой, чуть сторонясь церкви, а «мессершмитт», как меньшой брат, висел над ними, радостно покачивая крыльями.
«Воем берут, – соображал Гаврилов, постепенно привыкая к надрыву сирен. – На патроны не щедрятся». И тут опять (словно сглазил!) полоснуло очередью по земле, и вслед уходящему гулу зазвенело стекло… «По «ГАЗу»», – понял он и из-под прижатой руки глянул на полуторку. Лобовое стекло из нее вылетело, но студент был жив, и ствол карабина медленно полз по верхнему краю дверцы.
– Ишь ты! – попробовал усмехнуться капитан. – А что? Так и надо. Эй, учись у наших! – крикнул он кожаному, но тот все еще лежал, вдавясь в серую землю.
С бугра железнодорожную насыпь было видно хуже, но женщины и оттуда во все глаза следили за самолетом и поездом. Никто не знал, что состав послан за ними, и его просто жалели, потому что с рельсов ему некуда было деться – не грузовик. Паровоз отступал все ближе к бугру, а самолет спускался на него, и, когда в первый раз не рассчитал и промахнулся, на бугре обрадовались, но тут же поняли, что станция разбита и деваться поезду все равно некуда. Самолет ушел в небо, потом снова вернулся, ударил из пушки, а паровоз все отползал и отползал к разбитой станции. На бугре обрадовались и стали кричать и махать руками:
– Назад! Назад крути!
Но машинист то ли не слышал, то ли боялся остановиться, и паровоз медленно полз к развороченным рельсам. Теперь уже с бугра было видно хорошо, но тут заревели «юнкерсы», а что было дальше, никто уже глядеть не стал. Начали сыпаться бомбы, и женщины кинулись на дно траншей, а кто не успел, уткнули головы и на бугре, и на склоне в твердую или копаную землю.
Бомбы падали сначала на насыпь, потом на тот берег, а две упало в реку, и вода фонтаном плеснула в Гошку, который лежал над своим первым окопом, он так и не успел прыгнуть в него. «А-а-а!» – заревело над пареньком медленно и тягуче, и так заболели кости и ключицы, будто по спине проехал танк или гусеничный трактор. «А-а-а!» – нехорошо стало в животе, и пища, горячая, пшенная, кислая, долбанув в нос и уши, стала выталкиваться изо рта в сыроватую мягкую землю бруствера, а Гошка не мог поднять головы, и жижа, мешаясь с землей, ползла по щекам.
– Жик-жик-жик, – строчило, как на швейной машинке, по склону сначала вдоль тела, а потом поперек, словно сверху метили только в одного Гошку, хотели навсегда пришить, пристрочить к земле, но каждый раз промахивались. И снова накрывало гулом и тянуло болью, как будто рвали зуб без наркоза, но не зуб, а его всего откуда-то вырывали, а он не давался.
– Кхе-кхе, – вываливалось из него и залепляло глаза, а он лежал ненавистный самому себе и, теряя силы, кричал: – Мамочка! Мама! – но за ревом бомбардировщиков, слава богу, никто не слышал.
– Ой, – стонал он, чувствуя, что еще немного и вырвет вместе с последней кашей сердце и легкие. – Ой! Да что же я? Надо… Надо… – шептал он, тут же забывая, что надо, а потом рев слабел, и он вспоминал, что по самолетам надо стрелять. Но стрелять было не из чего.
«У, капитан!» – вспомнил Гошка, но тут его снова накрыло гулом и ревом и опять забрызгало фонтанчиками земли.
– Капитан за оружием не пустил… Капитан проглядел, не пустил… – повторил Гошка, как молитву, не раскрывая залепленных пищей глаз. Весь берег прошивало пулеметными очередями, а в ответ с земли неслись только слабые стоны. Ручной «Дегтярев» с того берега тоже не отвечал. Видно, там уже не было живых.
Лия лежала двадцатью шагами выше Гошки в недовырытом окопчике. Ей некуда было спрятать голову, и, на мгновение открывая глаза, она видела самолеты, два больших и один маленький, которые летали над ней, над бугром, полем и другим берегом.
«Господи! – Она закрывала руками голову. – Так погибнуть ни за что?! Ни за что, ни за что, ни за что… Ничего не сделать. Но где же наши? Где наши? Сейчас меня убьют. Сейчас всех нас убьют!..» – стучало сердце в груди, и снова ревели самолеты.
– Ва-ва-ва! – ревели самолеты, или это ревело в самой Лии. Ее не рвало, только что-то очень противное, кислое текло изо рта и из носа, и некуда было приткнуть вдруг ставшую совсем чужой, страшно огромной, тяжелой и неповоротливой голову.
– Нам надеяться не на кого, – сквозь вой самолетов донесся скорбный голос Елены Федотовны.
– Не сходи с ума! – одернула себя Лия и открыла глаза.
Церковь стояла на месте, а за церковью был наполовину виден грузовик, из дверцы которого выглядывал край винтовочного ствола. Ствол двигался, двигался по дверце, вздрагивал и опять медленно двигался, уже в обратную сторону.
«Это тот мальчик! Какой молодец!.. – сообразила Лия сквозь рев накрывающих ее самолетов. – А я – ничего… Я – ничего…» – корила она себя.
«Ничего, ничего», – уговаривал ее какой-то тихий, но настойчивый голос, который шел издалека-издалека, из самого затылка и стучал, как колеса приближающегося поезда.
«Поезда нет, – подумала она, но тут же увидела неподалеку от линии траншей неподвижный паровоз с тремя платформами. Пар лениво и редко выбивался из его трубы. – Машиниста, наверно, убило…» – подумала она. Но тут снова заревели самолеты, и Лию на мгновенье оглушило разрывной волной с другого берега.
«Ничего, ничего», – стучало в голове, приближаясь от затылка к ушам и вискам, а сверху выли самолеты, в которые никак не мог попасть водитель автомашины «ГАЗ-АА».
Санька с Ганей успели раньше других прыгнуть в траншею, и теперь лежали на самом дне. От взрыва бомб стенки канавы осыпались, и земля забивалась под платок, в уши и волосы. Обеим было страшно, но каждой по-своему. Ганю бил ужас, а Саньке было тоскливо-тоскливо, так тоскливо, что здоровое и веселое тело вдруг стало больным и затекшим. «Как у Лийкиной карги», – скорее почувствовала, чем подумала Санька.
«Сейчас убьют, и ничего не узнаешь. Тут и зароют», – представляла она, как ее зачем-то разденут и засыплют белые бока и груди этой мокроватой землей, в которой ползают склизкие черви, и ее взял такой страх, что она уже готова была выпрыгнуть из траншеи наверх, где ревели и стреляли немецкие самолеты. Эта склизкая земля была страшней, чем желтые драконы в небе. Но на ней еще лежали две женщины, и она не то что их скинуть, а рукой пошевелить не смела…
– Витечка, Витечка! – визжала Санька неслышным голосом, не зная, кого еще звать на помощь. «Один ты у меня…» – стонало в голове, которую придавила осыпающаяся земля, бабы и самолетный рев.
А Ганя, пока не улетели самолеты, лежала в столбняке, как курица, уставшая трепыхаться в руках поймавшей ее перед обедом хозяйки.
14. Однофамильцы
– Вставай, – сказал Гаврилов кожаному. – Улетели. Ну, кому говорю?! – Издеваться уже не было сил. – Вставай. Начальству доложишь.
Кожаный все лежал. Гаврилов наклонился над ним, тронул за плечо. Кожаный лежал, как мертвый.
– Ну, – Гаврилов приподнял ему голову. Глаза были закрыты, а голова медленно поползла по гавриловскои ладони и стукнулась о кожух автомата.
«Готов!» – подумал капитан и тут только заметил на хромовой куртке две аккуратные дырки, чуть больше тех, какие оставляет конторский дырокол, когда подшиваешь бумаги.
– Докомандовался парень! – вздохнул капитан, ничего не чувствуя, потому что голова все еще тряслась от взрывов, воя, рева и пулеметного треска. Он оставил мертвого и пошел к церкви.
– Студент! Жив? – крикнул, вздрагивая от собственного голоса, так отдало болью в затылок.
– Жив. Все промазал, – хмуро ответил тот, словно он был на полковом стрельбище.
«Молодец», – хотел сказать Гаврилов, но горло почему-то забил ком.
– Молодец, – сказал потише и подошел к грузовику. Борта были сплошь покорежены, словно орава пацанов ковыряла их гвоздями, ножами или осколками стекол; стенки кабины были где пробиты, где оцарапаны пулями. Но радиатор был цел, и мотор уже работал.
– Кажется, обошлось, – улыбнулся студент. – Раненых повезете?
– Да! – Гаврилов смахнул со лба землю. Боль уже прошла. – Повезем. Ты повезешь. Молодец, студент! Не то что… – он хотел сказать про кожаного, но вспомнил, что того убили. – Раненых надо забирать. Организуй там… – и, махнув рукой, пошел к костру.
Возле погасшего костра и дальше на бугре все начало понемногу шевелиться, подниматься, отряхиваться, даже разговаривать, но доходило до глаз и слуха будто через какую-то пелену или воду.
«И впрямь как утопленники», – подумал Гаврилов и тут же увидел старшую. Она стояла над двумя скорчившимися на земле женщинами.
– Живая, Марь Ивановна?! А вашего – намертво.
– И твоего – тоже, – кивнула она на бойца, который, уткнувшись в землю, лежал шагах в десяти от убитых женщин. Рядом валялись миски с остывшей кашей. – Не пожрамши… – вздохнула Марья Ивановна.
– Книжку красноармейскую у него возьми. Шофер передаст, – сказал Гаврилов, стараясь поскорей отвернуться от мертвых женщин. – Собираться вам надо, родная моя, – вдруг обнял он ее при всех, спрятал на ее плече лицо, но тут же отпихнул ее и пошел на бугор.
– Раненые есть? – кричал там, пробегая вдоль траншей. – Есть раненые?!
– Дальше, кажись… – отвечали женщины, выбираясь из окопов.
– Иди проверь! – крикнул он попавшейся на глаза Саньке.
– Жива? – спросил сидящую в окопчике Лию. Та, не поднимаясь, кивнула головой.
– А пацан твой жив? – вспомнил капитан. Лия мотнула головой в сторону реки. Там Гошка, присев на корточки, отмывал лицо.
– Так, – вздохнул капитан. – Собирайте всех. К церкви идите. Уходить будем, – и он быстрым шагом вернулся к кожаному.
– Придется побеспокоить, парень, – склонился над ним, ничего не испытывая к убитому, и снял с него автомат и бинокль. – Да, еще планшет и документы, – вспомнил он и, расстегнув кожанку, достал из кармана командирской гимнастерки партбилет и удостоверение. – Гаврилов Алексей Степанович!.. Тьфу ты, однофамилец, – покосился капитан на мертвого, пряча документы и цепляя к портупее второй планшет. – Прости, – неловко пробормотал он, потому что мысли были заняты живыми. – Да, еще колеса у тебя были…
Мотоцикл, рогатый, как баран, по-прежнему жался к стене храма.
«Значит, пешая эвакуация?.. Выходит, что так», – соображал Гаврилов, возвращаясь к траншеям.
– Раненых помогите выносить! – кричал он. – И живо, живо!
– Документ шоферу отдай, – кивнул Марье Ивановне, которая склонилась над мертвым красноармейцем.
– Эй, пацан, – крикнул Гошке с бугра, – давай сюда!
Гошка медленно побежал вверх по склону.
– Автомат бери! В Москву поедешь, – усмехнулся Гаврилов, уже решив, что мотоцикл и автомат для одного человека чересчур жирно. – Давай бери, чего там… – добавил он, принимая Гошкину осоловелость за стеснительность. – Цепляй и дуй к шоферу.
«Пусть хоть этот жив будет. Ему еще воевать», – устало подумал Гаврилов.
– Раненые есть? – снова кричал он, шагая вдоль бугра.
– Есть, – отозвались из траншей.
– В кузов тащите.
Ему не хотелось глядеть на раненых женщин.
– Сколько у тебя? – вернулся он к старшой.
– Пока две. Поварихи.
– Запиши фамилии и вели зарыть. И быстро. Уходить надо. А то еще танки двинут.
– А те защитники на что?! – спросила Марья Ивановна, кивая на тот берег. – Или их уже тьу-у-у! Тьи-и-и-у? – пропела, подражая вою падающих бомб.
– Не знаю, – нахмурился он. – Ты своими занимайся. Тех, на другом берегу, он уже давно отделил от себя. За ним были только женщины и раненые в церкви.
– Говори всем, чтоб уходили. Лопаты пусть берут, а кирок не надо. И продукты, крупу-сахар, пусть в кошелки сыплют. И смотри, чтоб на дороге не гуртились, как овцы. А то опять прилетят…
Он глянул в небо, но там уже было много туч, словно их нагнали самолеты. Быстро темнело.
– Ой, мамоньки! Не уроните! – стонала женщина. Три другие несли ее с бугра.
– В кузов несите, – сказал, отворачиваясь, капитан. – Много раненых? – крикнул он в сторону траншей.
Ему не ответили.
– Ладно… Вот что, Марь Ивановна! Ты гони всех в Москву, а я сам проверю, – он пошел к мотоциклу. Тот завелся сразу.
– Бак полный. Я смотрел, – кивнул водитель.
– Проверю, может, кто еще есть в окопах, – сказал Гаврилов, как бы извиняясь перед студентом за все: бомбежку, раненых женщин, покореженную автомашину и еще за этот неожиданно доставшийся ему трофей. – Мы теперь женщинам не нужные. От нас только горе, – добавил он печально.
– Понятно, – сказал студент.
– Вырули на дорогу. Туда донесут. А то еще… – Он снова глянул на небо. Тучи быстро чернели. – В общем, счастливо тебе! – Он протянул водителю руку. – Пацана довези, – кивнул на сидевшего в кабине с автоматом на шее Гошку. – Да вот, книжки возьми. Однофамилец мой оказался. Отдашь первому, кого встретишь из ихних или наших. И вообще, доложи все как было…
– А вы? – спросил водитель.
– Я уж как-нибудь… – Гаврилов похлопал по баку мотоцикла. – Ну а в крайнем случае и тут хватит. – Он поправил кобуру ТТ.
Женщины уже стали тянуться по шоссе от церкви. Они шли угрюмо, как на похороны или с похорон. Кошелки раскачивались на перекинутых на плечи лопатах, тяжелые ведра почти не бренчали. Он проехал мимо них и свернул к мосту. От мотоцикла было тепло, и дрожь педали на малой скорости не мешала раненой ноге. Даже как будто снимала боль. «Освоюсь», – чуть повеселел Гаврилов.
– Товарищ командир! – вдруг донеслось до него справа от дороги. Он притормозил как раз над валявшимися в кювете самодельными ежами. Из недокопанной траншеи выкарабкался старичок в мягкой фуражке с матерчатым козырьком, закутанный в длинный плащ.
«Вот ты где! А я и забыл про тебя», – усмехнулся Гаврилов.
– Чего, отец?
– Значит, насколько понимаю, ежи уже не требуются? – сказал старичок. За его спиной на бруствере сидели три паренька.







