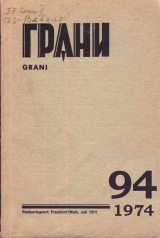
Текст книги "Девочки и дамочки"
Автор книги: Владимир Корнилов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Annotation
Повесть «Девочки и дамочки», – это пронзительнейшая вещь, обнаженная правда о войне.
Повествование о рытье окопов в 1941 году под Москвой мобилизованными женщинами – второе прозаическое произведение писателя. Повесть была написана в октябре 1968 года, долго кочевала по разным советским журналам, в декабре 1971 года была даже набрана, но – сразу же, по неизвестным причинам, набор рассыпали.
«Девочки и дамочки» впервые были напечатаны в журнале «Грани» (№ 94, 1974)
Владимир Корнилов
1. Кирки, лома и два метра
2. Лядащенькая
3. Пара хромовых сапог
4. Эх, картошечка, картошка
5. Два туза или перебор?
6. Дед-непоседа
7. Царь Горох с телефоном
8. Ночка темная
9. Ледяная вода и гимнастика
10. Непобедимых нет
11. Гнедых любят
12. Сукно и хром
13. Транспорт наземный и воздушный
14. Однофамильцы
15. Раненые есть?
16. В тепле и на холоде
17. Мытье и стрижка
notes
1
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru
Все книги автора
Эта же книга в других форматах
Приятного чтения!
Владимир Корнилов
ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ
1. Кирки, лома и два метра
Шанцевый инструмент привезли перед самым рассветом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поеживаясь, вылез на подножку первой полуторки.
– Скидовай! – махнул он красноармейцам, сгорбившимся в кузовах машин. – Отыми борта!
И тут из бараков посыпались женщины.
– Айда, девчонки! – орали на бегу. – Ломы! Ломы одни останутся.
– Давай, куры! Лопат не хватит!
– Кончай ночевать! Кирки и тяжелые!
Полуторки враз облепили, как автолавки с мануфактурой.
«Вот те на!» – подумал военный. За ночь он продрог, и простреленное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Эту ночь он не прилег, а ездить ему – конца не видно.
– Женщины! – пробовал он перекричать толпу. – Женщины, подвиньтесь струмент скинуть!
Но голос пропадал в реве, в гоготе, в этом «айда», «валяй», «о-гой» кричавших женщин, для которых он никакое ни начальство, ни полначальства, – и военный, давясь от стыда и ярости, полез на крышу кабины.
– А ну – цыц! Соблюдай сознательность! Раз-зой-дись! – гаркнул оттуда, но станционный двор гудел, как лет тридцать назад во время забастовки. И женщины все сыпались из бараков, гулко, как картошка из бункера.
Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она отправляла завербованных по найму и набранных другим путем на разные, все больше северные и сибирские стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженая ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, ее забили, лежа вповал, мобилизованные на окопы.
– Лопаты… Лопаты привезли! – разнеслось по бараку, где спала Ганя.
Тотчас захлопали двери. По доскам пола застучали башмаки, зашлепали ботики и галоши. Из щелястых окон потянуло нешуточным ветром, и Ганя проснулась.
– Да ну их, поспим лучше, – ворчали иные женщины, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. Тоже добро – лопаты!
– Лежи, тетка, – промычала гладкая деваха, о которую Ганя грелась ночью. – Холодно… – И, зевнув, уснула снова. Ее подружка, рыжая лядащая евреечка, что грела Ганю с другого боку, вовсе не просыпалась.
«Сознательные!» – сердито подумала Ганя. С недосыпу она была зла на весь свет, а особо на этих двух, гладкую и еврейку, которые ее вчера «сманули».
– Сглазили. У, проклятые! – скулила она, копошась на грязном холодном полу.
Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «ксплотаторшей» и швырнула ей в лошадиный мордоворот хлебные талоны, эти двое ее и подцепили. Ганя, зареванная, выбежала в колодец двора, а там была уже куча-мала баб с рюкзаками, кошелками, ведрами, и эти две из квартиры напротив – тоже.
– Не плачь, тетка, – сказала вчера гладкая Санька, подходя к Гане и вроде жалея ее.
– С нами пойдемте, – улыбнулась рыжая. («У, ведьма!» – нарочно толкнула ее сейчас Ганя. Еврейка спала, как пьяная.)
– У нас весело, – неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и раскисшая от слез Ганя стала в их кучу, а потом одна баба (какая-то старшая – собой чистый грузчик!) гаркнула:
– Смирна! Равняйсь! Ша-гом… – и повела их на Ногина, а оттуда вверх, и сама же первая заорала:
А ну-ка, девушки,
А ну, красавицы…
И Ганя пошла между толстухой и лядащенькой, и, размазывая по тощему немытому лицу слезы, подтянула:
Пускай поет про нас страна,
И звонкой песнею пускай прославятся…
Потом, когда дошли до Ильинских, гора кончилась, идти стало ловчее, и запели другую, развеселую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:
Нам нет преград
Ни в море, ни на суше,
Нам не страшны
Ни льды, ни облака…
И Ганя маршировала довольная, пела со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку: «Ты, ксплотаторша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь по дороге. А ну, а ну, достань воробышка! – Хозяйка была высокого роста. – Хрен тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», – улыбалась Ганя, и ее мягко подталкивали с обеих сторон евреечка и гладкая.
– Молодец, тетя! Видишь, как здорово…
Так вчера прошли через центр сюда на пересылку. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и все было в полном ажуре: повели в столовку, дали горячего ужину по армейской норме – кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («граммов сорок», – прикидывали бабы). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, туда же сдавали грязные, и Ганя, может, впервые за жизнь, поев, посуды за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых товарок. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво, ну прямо кошка! – и Ганя засыпала счастливая.
«Ехай, ахай… – грозилась она хозяйке. – Колбасой катись, жендарма! У, верста – сивая красота!» – и с удовольствием вспоминала, как хозяйка выдирала из своей русой косы седые нитки волос. И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым хахалем Серегой, Сергей Еремычем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто взаправду свадьба. А потом они задаром пьют лекарскую воду гранеными стаканами. Сергей Еремыч лениво и великодушно лапает Ганю и плюется на ее сестру, полудурку Кланьку, лярву-разлучницу, которую Ганя по дурости и доброте взяла с собой. От больших рук Сергей Еремыча Гане тепло, только ноги немного мерзнут и в животе малость нехорошо, наверно, от дармовой воды.
И вот теперь ночная побудка, как приблудная собачонка, разом слизнула сладкий навар сна. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась в мерзлом бараке на пыльном полу, который больно стучал в ухо.
– Беги, тетка! – крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.) – Одни ломы останутся.
Ганя отряхнулась, как вспугнутая курица, и, подхватив кошелку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, точно тощая клуша или плакса девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у нее сморщилось и одлинноносело. «Курица!» – не сговариваясь, обзывали ее во всех домах, где перебывала приходящей прислугой.
«А вдруг – лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей…» – чуть не плача, решала она на ходу.
На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были жирно смазаны какой-то липкой гадостью. «Солидол», – ругались в толпе.
– Не толкотись, не толкотись! – кричал на женщин худой военный. Он торчал по-прежнему на крыше кабины, и когда замолкал и не размахивал руками, то в шинели и фуражке при полутьме низкого неба напоминал статую. Но тут же снова драл глотку и рубил воздух рукавами шинели. В нем не было никакой державности, как внизу не было порядка.
«Разберут…» – слезно подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку.
– Хучь кирку! – голосила она. – Лом рук не оставит!
Но те, кто вылез этой ночью из бараков, тоже были не ангелицы. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро, и, прорычав:
– У, жилы! – она незаметно для себя перепорхнула от врагов порядка к вернейшим его слугам. Этих, как в любой очереди, было куда больше. Впрочем, с основания человечества слабые всегда в большем числе.
– Куда прешь? – через минуту орала Ганя на бойкую деваху в ватной фуфайке.
– Чего людям ноги давишь? – кричала на другую.
– А ну, паника, охолонь! – вразумляла еще кого-то.
– Вот все мы так… – вздыхала тут же для общего сведения. – Все возимся, все носимся. А чего?.. Все там будем.
– Будем-Будем, – смеялись вокруг. – Только рот, тетка, заткни.
– Лови, хохлатка, – заметил ее с машины боец и протянул лопату. Ганя, неловко подпрыгнув, ухватилась за склизкую холодную железяку, готовая к чужой зависти, а может, и к мордобою. Но никто ее не тронул. Вокруг машин как-то сразу поредело. Оказалось, лопат хватило на всех доброволок. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом сбросили в углу двора. Худой военный сел в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.
Светало медленно. Время было самое неловкое – ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.
– Снова печенка, – покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая черный ботик в штык лопаты.
– Ты чего… картофлю копать? – спросила, проходя мимо, какая-то женщина.
«Могилу», – хотела ответить Ганя, но окопница ушла в барак.
«Чего забыла? На дармовщину схотела, а?» – подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой-подругой, самой распоследней горемычкой. – Дьётка!.. Бесплатное, оно завсегда втридорога. Тьфу! На машинном готовят! Людей не жалеют, – скривилась она, отвечая боли в желудке. – Армейское!»
И вспомнились ей племяши-близнята, ее любимцы, которых летом застригли в армию. Парни были росляки-красавцы, в залетку-зятя Сергей Еремыча. Наворачивали за обе щеки – и второе, и первое. Особо уважали холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, они его жевали ночью после гулянок. Хозяйка супу не признавала. Может, этой, как ее, подагры боялась. И хозяйкина дочка-очкаричка – чудо природы! – тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него половинила, и свой кусок, завернув в марлю, прятала на дно кошелки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и он плюхался туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какаву, но не из сои – с той какая сыть! – а всамделишную, в железных коробках.
Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так бывало в коммуналке соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотню-полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст. И у Гани вся душа изводилась – и кто чего не вернул, и кто на кухне керосину ихнего взял или примус закоптил – не продуешь! – или общие дрова на ванну извел: не в очередь мылся. Все помнила Ганя и за хозяйское болела, как за свое. Да оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила потом Ганя втихую. А хозяйка – когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как со службы придет, сразу за свой «дервуд» и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседки говорят, до двух, до трех стрекотит. Ганя у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договору, а приходит, как на производство, – и каждый выходной зарплата (раньше – по шестым-двенадцатым, а с прошлого года – по воскресным). Так что Гане ночью все едино. Но соседки жаловались, ходили даже в квартиру напротив – к управдому, и пришлось хозяйке обиться дерматином с ватою снаружи и изнутри. Дверь теперь сто пуд весит. Ганя в сердцах ее футболит, когда с чайником или сковородой из кухни мчится.
Нет, служба у хозяйки подходящая. И Ганя на ней сама себе вроде командующего. А если хозяйке вожжа под хвост вдарит и придумает хозяйка:
– Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли, – Ганя вскочь за тазом не побежит, а станет посреди комнаты (а лучше – кухни: при соседках справнее!), подопрет кулаком щеку и толково рассудит:
– Да когда ж нам стирать? Да вить сейчас не постираешь, как следовает. Вот ужо к празднику, Елена Федотовна, и будем… – И – на-кась, выкуси! – съест хозяйка и опять начнет тарахтеть на своей машине, как в магазине на кассе. Да и вправду – кассе. С нее главный доход. А днем она в школе – что? Учителка…
Нет, бога обижать не надо. Вот уже три года Ганя у Елены Федотовны – и свет увидела. А раньше нигде не держалась. Как что пропадет, сразу – в шею. И пропасть не успеет – за грязь гонят. Неряха, мол. А тут догляду никакого. Малого ребенка нету и мужика тоже не бывает. Носок ему не штопай, сранок не споласкивай. Одна дочка-очкаричка. Так той уже пятнадцатый год. Она нижнее Гане не доверяет – сама простирнет. А дел всех – натри полы. У хозяйки чтоб полы блестели – это первым делом. А полов-то всего ничего. В комнате шешнадцать метров, так под мебелью половина. И второе дело – сосиски свари или котлеты там сготовь, а лучше – отбивную шмяк на сковороду – пусть себе горит. Самое главное – вовремя подать-убрать. Хозяйка это любит. Так чтоб с виду был порядок. А за шкафы она не лазит, времени у нее нет лишнего. Если б не война, ездила бы к ним Ганя, ездила. Война все перевернула.
Еще только налеты первые пошли, хозяйка к ней подкатываться начала:
– Поезжайте, Ганя, с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылать буду.
– Да что вы, Елена Федотовна? Вы того… с работы совсем счумели. Куда я поеду? Кубышев! И надумали тоже! У меня хозявство.
– Да какое там «хозявство»? – рассердилась хозяйка.
Раньше смирная была, голос прятала. По квартире ходила сжималась, хоть сама под потолок. А тут позволила.
– Полсарая со скворешней – хозяйство…
– Какое ни есть, Елена Федотовна. Не вы наживали. У вас и этого нету. Одна тарахтелка, так и ту на неделе мастер два раза ковыряет.
Ну, «тарахтелку» хозяйка стерпела, но со своим «Кубышевом» не отлезла. Хорошо хоть школу на лето прикрыли, и поступила Елена Федотовна куда-то, где до ночи сидят. Так что теперь ее и не увидишь. Но по воскресеньям опять за свое:
– Поезжайте, Ганя, да поезжайте! Я вам всю зарплату высылать буду. Мне для себя ничего не надо.
И правда, для себя она не старается. Все для очкарички, для чуда природы. Для нее и Ганю держит, чтоб по часам горячее ела. А для себя хозяйка и платья не справит. Старое носит. И мужчин не водит. Некуда. Или некогда ей. Правда, был один интересный случай перед войной за неделю. Очкаричку в пионерлагерь спровадила, Гане на две недели отгул дала, а сама перед зеркалом села из косы седые нитки дергать. Потом соседки врали – три дня не ночевала. Что ж, еще не старая – сорока нету. Может, и нашла кого, каб не война. Война… Она для всех не сахар… Племяшей враз – в армию. А Кланьку, сестру, лярву-разлучницу – надо же! – в больницу положили. Помрет, видно. Кровь у ней, как вода. А в больнице кормежка известная. Передачу вози. Какие-то продуктовые бумаги – карточки выдумали. Всем дали, а Гане – нет: ни рабочая, ни иждивенка. Договору, видишь, нету. А где концы сыщешь? Гоняли по райотделам с Москвы на Икшу, с Икши опять сюда. Неделю бегала, плюнула и бегать не стала. Перебивалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. А вчера вдруг вакуацию надумала. Теперь сама едет, Ганю не зовет.
– Стирайте, – говорит, – на дорогу!
– Хрен тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! – И кинула Ганя хозяйке деньги – мелочи больше было, а карточки – те особо! – смяла в кулаке и комом в лицо.
Теперь на станционном дворе, как баба-яга на клюку, припадая на лопату, Ганя глядела в землю, а видела свою жизнь, такую же мерзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Ессентуков, да и те чем кончились? Выскоблили из нее потом Ессентуки. А Кланька, лярва, спугалась и не схотела… У, гадючка… А теперь все равно помрет. Кровь у нее никуда стала…
Ничего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин. Одни окопы остались. Вот выкопает их Ганя и себе заодно два метра.
2. Лядащенькая
Утром, еще затемно, давали в окошки горох с мясом. Ганя ковырять его не стала. Пила только чай вприкусь. А евреечка горох ела, но Ганя заметила, что давилась без аппетиту – больше от сознательности, чтоб не выделяться. А гладкая Санька – раз-раз обстругала миску.
– Добавка полагается? – гаркнула весело на весь длинный стол и еще на два соседних.
– Как же! Чтоб громче стреляла! – подхватили бабы.
– Тебе, девка, мужика надо, а не гороха. Растряс бы тебя, а то лопнешь!
– Ха-ха, – залилась Санька. Она не обижалась.
Серым мерзлым утром перед неясной дорогой посмеяться было в самый раз. Ганя тоже встрять собралась, но опередила евреечка:
– Ты, Санюра, у тети Гани возьми. Она не ест.
– Правда, тетка, не хочешь? – спросила Санька. – Тогда давай. Зябко – вот и есца, – И она потянулась к Ганиной миске.
– Тпру-тпру, – зашипела Ганя. – Ты кувалды не тяни. Не твое. А ты не зырь, – напустилась на евреечку. – А то глаза-завидки все зырють, зырють, где чего хватануть… Знаю вашу нацию…
За столом сразу стало холодно и неловко, как будто и не смеялись. Толстая Санюра злобно звякнула черенком ложки – мешала в кружке сахар. Евреечка покраснела, но смолчала. Она дала себе слово быть как все, не выделяться и прятать любую обиду. Она уже три года решила быть как все, и даже, если это возможно, лучше. Она старалась изо всех своих тощих сил не краснеть, но ничего не выходило.
Со всем смирилась комсомолка Лия. Сначала было две комнаты, здоровая мать, отцовский распределитель. Отец вечером возвращался домой на машине, веселый, в мягких шевровых сапогах, в зауженных синих галифе и в такой же гимнастерке с широким ремнем. Он кивал матери и целовал Лию. Он был полноват, но строен. К нему, директору завода, удивительно шло полувоенное…
И вдруг – одно за другим: мать заболела, отца сняли и отобрали одну комнату. (Туда въехала толстая Санюра с отцом-выпивохой и неуживчивой, шумной дворничихой-матерью.) Жить стало трудно. Что могли, снесли в комиссионный, а остальное Лия с Санюрой (которая оказалась удивительно отзывчивым человеком) в выходные дни возили на толкучий. Мать, после того как упала в туалете в обморок, требовала подсов. И отец все чаще издевался над ней и нехорошо обзывал. Он абсолютно не умел ходить за больными. У него совсем сдали нервы. Он не приучился сидеть без дела. Ему надо было вечно куда-то ездить, проверять, браковать, песочить, объявлять выговора, приказывать, вскрывать чужие ошибки, исправлять упущенное, затыкать дыры и громко и радостно рапортовать в наркомате. Он был рожден командиром производства, красным директором. А тут, сидя взаперти, он как-то сразу стал жалким, склочным, недобрым человеком. Ужасно озлобился на соседей за то, что отняли кабинет. Но при встрече с Санюриным отцом, пьяницей управдомом, первым здоровался и еще угощал «Пальмирой». А потом жаловался, что этот мерзавец вечно стреляет у него курево. «Никаких денег не хватит!» – и поэтому курил при больной. А мать не позволяла открывать форточку, потому что температурила. Она росла в богатой семье и, как говорили родичи, была очень музыкальна. И раньше у нее шалили нервы, случались даже припадки, но тогда попадало домработницам, теперь – отцу. А он курил при больной. Лия ничего не могла с ним поделать. Папиросы были очень дорогими, мать совсем плоха, а отец до того жалок и обидчив, что вскипал от каждого незначительного замечания. Он не сразу похудел, но как-то посерел, обмяк. Носить полувоенное ему теперь было стыдно, а беспартийная, времен нэпа, тройка была так тесна и так старомодна, что отец выглядел в ней подозрительно, как переодетый преступник. Он и вправду ждал тюрьмы все полтора года, пока умирала мать. Уже докатилось и до Лииной школы, что он исключен, и кое-кто из ребят предлагал разобрать Лию на бюро. Но она, не дожидаясь конца четверти, поступила в библиотеку, где работали одни опрятные старушечки и не было никакого комсомольского учета. Все эти полтора года отец был совершенно невыносим. Но Лия его любила. Она гордилась им и жалела его. И если бы ее заставили отречься от отца, она бы скорей положила билет. Она знала, что он ни в чем не виноват, что он талантливый – просто природный! – руководитель. Самородок. Он вышел из самых бедных, самых голодных слоев местечкового еврейства. Ему просто завидуют. Сын какого-нибудь недорезанного буржуя или сам бывший буржуй, который каким-нибудь обманом пробрался в партию. Он ненавидит отца, потому что отец – талант! – и еще из животного антисемитизма. Он выгнал отца с работы и грозится посадить. Но советская власть никогда этого не допустит. Отец подал в комиссию МК, и в комиссию ЦК, и в партконтроль. И написал лично товарищу Сталину.
Она сама просила его писать, сама правила ошибки (он был не очень грамотен, потому что учился не в гимназии) – и сама относила письма. Он держался только ее уверенностью. Недаром она была его дочь, она была вся в него, а эти полтора года была даже сильнее его.
– Ты настоящий коммунист. Ты большевик, – доказывала она ему, словно он уже себе не верил. – Если тебя не вернут в партию, значит, нет больше советской власти, значит, Сталина нет в живых или он тайно арестован, – шептала она за полночь, сидя на краешке его дивана. Он благодарно целовал толстыми липкими губами ее руки, и она, счастливая и гордая, мечтала, что если у нее когда-нибудь будет муж, пусть хоть немного походит на отца.
– Ты жди, – твердила она. – Сейчас очень трудно доверять. Сейчас много вредительства. Ты же знаешь… Все сейчас недоверчивы. Но тебя обязательно разберут. Надо только немножко подождать.
И она вставала с дивана, стелила себе на полу, а потом шла в другой угол комнаты, к матери, меняла ей рубашку (мать не выносила спать в мокром, даже во влажном), поила ее, ставила градусник, а потом показывала другой, на котором температура никогда не поднималась выше тридцати семи и двух.
– С папой будет все хорошо, – успокаивала ее Лия, стараясь не замечать, что мать давно и бесповоротно возненавидела отца, и даже близкая смерть не может загасить этой ненависти.
Так было целых полтора года, пока умирала мать. А потом наступила справедливость. Отцу вернули билет и назначили снабженцем уральского стройтреста. Он снова надел галифе и гимнастерку, которые теперь ему были велики, и, не дожидаясь материной смерти, уехал в Челябинск. А мать ложиться в больницу ни за что не хотела. Лия работала посменно, и часто за мамой приглядывала толстая Санюра.
Словом, свыклась, стерпелась со всем Лия – с незаконченной десятилеткой, с материнскими подсовами, тяжким духом в комнате, с отцовской нервозностью, материнскими истериками, а потом с отъездом отца и материнской смертью.
Только краснеть не разучилась от хамства.
– На тетку наплюй, – обняла ее толстая Санюра. – А ты, тетка, давись: – рявкнула через стол. – Мне не надо. Я сытая.
И тогда, дергая длинным носом, захныкала Ганя.
– Фью-ить вью-ить-уить, – сопела она.
Издали могло показаться, что Ганя шепчет молитву, потому что голова ее вскидывалась, а руки были сцеплены на столе у миски.
– Тебя не поймешь, – сказала женщина рядом.
– На нашу сестру нету профессора, – вздохнула вторая.
– Да, бабья душа, как аптека! Без поллитры не разберешься! – добавил еще кто-то, и разговор чуть не ушел в сторону, пока Ганя шмыгала носом и пускала слезы по грязным желобкам морщин.
– Фью-ить вью-ить-уить… Да ить мне не жалко, – вытолкнула она наконец через глотку. Раньше почему-то слова попадали в длинный, забитый полипами нос. – Ешь, Санька. Мне такого дерьма и нельзя. Печень… – объяснила она, как бы доверяя себя всем и подымая всех до себя. – Малая была, ох наворачивала! А теперь – печень. Рак в ней или жаба. Кто знает?.. Какие сейчас врачи!.. Мне бы сырку… А ты жри, – она крутнула миску через стол к Саньке. – И ты, Лийка, не стесняйся. Хучь давись, а принимай. Завтра и того не дадут.
– Не каркай, ворона! – цыкнули рядом.
– Пораженка!
– Кура!
– Кончай жратву! – заорала старшая. – Вагоны счас подадут.
Опять началась толкотня, как ночью, когда прибыл шанцевый инструмент. Опять Ганя вскочь понеслась в барак, продралась сквозь толпу у входа, ухватила кошелку с лопатой и, не зная, чего делать дальше, на всякий случай опустилась на пол.
«Может, сбежать? – подумала она. – Снова пойти в райдел? Сжалятся. Карточку дадут. Что я тут забыла? Ну, в тетрадь записали. А на кой мне их тетрадь?»
Барак опять набивался женщинами. Хватали сумки, мешки, лопаты, ведра, потом нерешительно топтались на месте. Порядка, прямо скажем, было маловато.
– А ну, не загорай! Выходи строиться! – закричал из дверей тот самый военный, тот, что ночью приезжал на грузовиках. На дворе совсем посветлело, но небо было серым от туч.
– Хоть самолетов не будет, – переговаривались женщины, позевывая от холода.
– Стан-но-вись! – закричал военный. Он опять неловко взобрался на крышу кабины. Вместо трех ночных полуторок теперь на станционном дворе стояла только одна. «И чего ездит?» – подумала Ганя.
– Рукавицы привез! – как будто услышав ее, объяснил оказавшийся неподалеку допризывник.
– Для интеллигенции, – засмеялись бабы.
– Раз-говорчики! Ста-новись! Равняй-сь! – заорал военный с верхотуры.
Строились неумело.
– Старшие команд, давай порядок! – орал худой капитан. – Ну-ну, подравняйтесь! Сми-ирна! А, хрен с вами. Стойте хоть так… – Он махнул рукавом шинели. – Тихо чтоб!.. Слушай меня. Товарищи женщины! Положение очень тяжелое. Враг рвется в самое сердце нашего государства.
Он хотел сказать им что-то необыкновенно душевное и доброе, потому что очень жалел их, измученных кроме нелегкой жизни еще и этой полубессонной ночью в холодном станционном бараке. Ему хотелось если не подбодрить их, то хотя бы рассмешить. Но как только он взобрался на крышу кабины, ему почему-то вспомнилась частушка из фашистской листовки, прочитанной вчера на инструктаже:
Девочки и дамочки,
Не ройте ваши ямочки,
Проедут наши таночки,
Зароют ваши ямочки.
Вчера, в первую минуту, частушка показалась ему вполне складной. И человек двенадцать командиров, сидевших в тесной комнатенке у штатского Тожанова, тоже удивленно переглянулись.
Но сегодня, когда перед ним стояли свои, родимые дамочки и девчонки, которых посылали туда, вперед, за Москву, поближе к хорошо знакомым ему танкам, капитану стало не по себе, и он оборвал речь.
– В общем, разобрать кирки-ломы. Старшим разбить людей по десять. Каждые десять – отделение. Ясно-понятно?
– Ясно, – нестройно ответили женщины.
– Не распускать строй! Я вас скоро проверю, – добавил капитан и слез с крыши. – Давай, – сказал водителю, пристраиваясь рядом, и грузовик выполз за ворота.
– Стой на местах! На десять рассчитайсь! И тише вы! – цыкнула на своих старшая. – Немцев приманите.
На станционном дворе стоял рев, как воскресеньем на всех московских рынках разом.
– Не прилетит. Тучи! – засмеялся недомерок в Ганином ряду.
Теперь при свете Ганя даже удивилась, как она его сперва не признала. Это был Гошка с Ринкиного класса, друг-приятель чуда природы.
– Считайсь! – приказала старшая.
– Перьвая, вторая…
– Не «ая», а «ый»… Ты теперь вроде как боец.
– Первый! Второй!
– Третья… – крикнул недомерок Гошка.
Женщины засмеялись, и старшая не удержалась, но тут же напустилась на паренька:
– А ты, сцикун, не выскакивай! – и, засерьезничав, крикнула: – Давай, раз-раз, а то вагон прозеваем. А на платформе – дует!
Рыжая и толстуха вышли восьмой и девятой, а Ганя – десятой, последней. Еще чуть – и была бы с чужими. «Все ж есть бог», – подумала, смиряясь и успокаиваясь.
– Ну, ты тут самая просторная, – сказала старшая Саньке, – будешь за отделенную. Держи их – во! – Она сжала пальцы в основательный кулак. – Получишь десять рукавиц и гляди, чтоб кирки и ломы прихватили. А то иждивенцев – одни лопаты хватать – много. Ясно-понятно?!
– Ясно! – весело откликнулась Санька и уточкой притянула ладонь к полушалку.
3. Пара хромовых сапог
Не платформа и не теплушка – достался им нормальный вагон с двумя полками и третьей для вещей. Ганя подгадала, где стать, и когда подходил состав, первой уцепилась за поручень, вскочила внутрь и одно место у окна взяла себе, а другое напротив придержала для старшой.
– Э, – махнула та, – некогда мне рассиживаться!
И как в воду глядела. Враз загудело, завизжало – у-у-у! – на весь город и еще, может, на область.
– Граждане, воздушная тревога! – передразнивая радио, забасила какая-то деваха из соседнего отсека.
«Вот тебе и тучи», – подумала Ганя и глянула в окно, но ничего не увидела. Впритык стоял товарный.
– Ой, мамоньки! – кричали в вагоне.
– Ой, сюда! Прямо сюда даст! – накаляя страсти, вопила загодя какая-то из самых нервных.
– Тише, стерва!
– Пусти, воздуху нет!
– Помираю!
– Ой, до ветру надо!
– Потерпишь!
– Ой-ой! – кричали в вагоне.
Вообще-то с июля женщины успели привыкнуть к тревогам. Москву хоть и бомбили, но была она чересчур велика. К тому же из метро или убежища, как падают бомбы, не видно. А ездить глядеть, где чего разрушено, – не у каждой есть охота или лишнее время. Зато самолет немецкий, что сняли с неба, поставили в самом центре на площади имени Революции – смотри-любуйся! Поэтому в октябре уже такого страха перед налетами не было. Но сейчас, вырванные из своей ежедневности, запертые в вагоне на двух полках и даже на третьей для узлов и чемоданов, многие запаниковали. Теснота сжимала не только бока и ребра, но и саму душу, а сверху выло, и хоть взрывов еще не было, даже грохот зениток еще не доносился, все равно казалось: попадет сюда, в вагон, в это купе, в спину, в шею.
«У-у-у-ууу», – ревело над Москвой, а казалось – над самой крышей, и те, кто пристроился на третью, хотели хоть на вторую полку, а со второй – на первую, а на первой казалось: взорвет путь и вдарит снизу – и они ринулись к дверям, забивая проход.
– А ну назад! – заорала от дверей старшая. – По местам! Соберешь вас потом! Как же! Эй, трогай скорей! – закричала на перронную платформу, наверно, кому-то из поездной бригады. – А то один кисель довезу. А ну назад! Кому говорю? – заорала снова в вагон, хватаясь за широкий армейский ремень, что стягивал зеленую, длинную даже ей стеганку.







