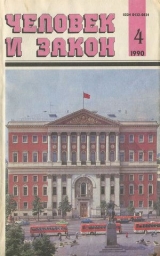
Текст книги "Год дракона"
Автор книги: Владимир Сиренко
Соавторы: Лариса Захарова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
31
Вадим Федорович не собирался стрелять. Он взял оружие и держал его в кармане потной рукой лишь на случай, если придется попугать, оставляя за собой последнюю возможность принудить. Он не верил в существование людей, не боящихся смертельной угрозы.
Он впервые стрелял в человека. Он побежал в ужасе, так и не поняв, убил ли, ранил ли? И почему как мертвый упал Горохов? Он услышал за своей спиной возбужденные голоса. В домах вспыхивал свет в окнах. Улица пошла в гору. На пригорке она кончилась. Воздвиженский увидел густые заросли. Бросился к деревьям и не заметил, как перемахнул через ограду. Сделал несколько шагов и понял, что очутился на кладбище.
– Он здесь! Обходите слева! Гена, заходи со стороны озера! Василий Иванович, Василий Иванович, вы где? Не пускайте народ, он вооружен!
Голоса перекрыл рев вертолетного двигателя. Воздвиженский все понял. Как он ошибся! Надо было прорваться сквозь безоружную толпу к Чернову, к машине. Теперь поздно. Он бросился к белеющей среди деревьев церкви. В старых церквах всегда есть обширные подземные лабиринты. А может быть, и подземный ход.
Алтарные врата были притворены, но не закрыты. Он вошел в алтарь и присел на корточки у подножия распятия. Разрыдался. Он ни о чем не сожалел, кроме одного, – Настю не увидел. И он устал, смертельно устал… Потом снова услышал голоса:
– Надо позвать отца Виктора, он знает, где тут что…
– Товарищи, разойдитесь… Здесь опасно.
Голоса шли с улицы.
Воздвиженский заметался. Вход в подземелье должен быть где-то рядом. Вот! Уходящую под пол лестницу окружали низкие перильца. Он начал спускаться на ощупь. И очень быстро остановился возле заколоченной, обитой холодным железом двери. Он привалился к каменной стене и застыл. Снова услышал голоса и приближающиеся шаги. Опустил руки в карман. Отстреляться – это последнее, что дано. Ему показалось удивительным, что в панике он не выбросил пистолет. Проверил затвор. Подумал, как странно, что в церковь никто не заходит, его не ищут, даже не окликают. Он решил подождать сам не зная чего. Но скоро понял, что продрог до костей. Снова поднялся в молельню и увидел: она полна света. Наступало новое утро. Заметил выход на звонницу и пошел по ступенькам. Прямо перед собой увидел небо и темный силуэт колокола на нем. Встать во весь рост не решился. Осторожно заглянул в бойницу и увидел милицейский желтый газик. Они ждут его… Или собрались вступить в переговоры? А это… это… Неужели это полковник Быков?!
Внизу его, видимо, заметили. Раздался голос, усиленный мегафоном:
– Бросайте оружие! Выходите!
Воздвиженский отпрянул от просвета в толстой стене колокольни и понял, что сам себя загнал в ловушку. Куда идти? Только вниз, по этой лестнице, потом – на эту площадь. Чтобы протянуть руки к наручникам и сесть в милицейский газик. Как, однако, просто все кончается в его жизни, которая всегда казалась ему такой сложной! Сколько в ней было накручено надежд, суеты, стремлений, потуг… И такой прямой финиш… Даже смешно. Он тихо горестно засмеялся.
– Храм окружен! Выходите! Выходите добровольно! – снова проговорили в мегафон.
«Я обречен» – кроме этой мысли, ни одна другая не посетила Воздвиженского. Голова была пуста, свободна. Он не знал, что делать дальше. Но знал, как закон поступит с ним. Его охватило поразительное безразличие ко всему, даже к Насте. Но он чувствовал в той степени, насколько в эти секунды чувства, ощущения заменили ему мысли, что теперь таким, каким стал за этот день, во что превратился, таким он Насте не нужен, даже вреден. Единственно, кому он сейчас нужен, это тем людям внизу. А они ему нет.
Воздвиженский подошел к низкому парапету звонницы. Он рванул ворот рубашки и простер руки. Перегнулся через перила и зажмурился. И вдруг ощутил несказанное блаженство. Счастье освобождения. Мысленно он уже парил над людьми, над деревней, над желтым милицейским газиком, над лесом, над яркой кромкой зари, неожиданно вспыхнувшей на границе дальнего поля. Надо только оттолкнуться пятками, чуть сдвинуться с места, и муки уйдут навечно.
32
Максим Максимович привез в «Националь» менеджера фээргевской группы «кантри-мьюзек», ужинать с ним он не собирался. Но немец настаивал, пришлось согласиться. Не расскажешь же гостю, что на днях похоронил единственную дочь. Увы, пока с этим немцем надо считаться. У него свои прихоти. И не скажешь ему, что проводишь последние часы на родной земле.
Немец сносно говорил по-русски, но беседа текла вяло, деловые вопросы давно уже были утрясены, а чтобы выпить и похвалить угощение, достаточно нескольких слов. Подали кофе, и Максим Максимович вздохнул с облегчением. Сейчас немец пойдет в свой номер, а он поедет домой прощаться с Ольгой. Она не хочет выезжать за рубеж. Ничего… Одумается. А в общем, не все ли равно. Так и так здешняя жизнь кончена. Может быть, он и сам от горя впал бы в апатию, но все же он-то еще жив, и ему интересно еще раз начать, начать новое свое дело, но уже в других условиях и с иным размахом, с другими возможностями, главное, ничего не боясь, не сдерживая свое предприимчивое изворотливое нутро, глядя на свет Божий широко и открыто. Впереди еще столько всего: ведь ему нет пятидесяти. Он будет много работать, окружит себя роскошью – и все забудется. Максим Максимович хотел надеяться. Он всегда жил надеждой – она ведь умирает последней…
Об одном сожалел Максим Максимович: что не уложил мерзавца Воздвиженского. Хотя знал, что поступил правильно, сдержавшись, когда понял, что Вера мертва. И все же судьба справедлива. Она сама расквиталась за Веру.
…Наконец гость поблагодарил за удачные деловые встречи, приятный вечер, прекрасную беседу. Они оба поднялись из-за стола, Максим Максимович проводил менеджера до дверей зала, вернулся к столику, чтобы расплатиться, и вдруг ему захотелось водки – именно водки, фужером, не закусывая, хотя он давно забыл ее вкус, так как в основном если пил, то только коньяк или виски. Он снова сел к столику и стал ждать официанта. А мысль крутилась все та же: «Я был прав, когда ушел, не стал даже глядеть на нее, мертвую… Не может быть три трупа и ни одного убийцы, не может быть. Пули разные, конечно, но на то налогоплательщик и кормит милицию, чтобы она шарады разгадывала».
– Добрый вечер, Максим Максимович, – раздался сзади велеречивый голос, – позвольте принести искренние соболезнования… Бедная девочка! Но риск всегда сопутствует нам, не так ли?
Гурьев искоса глянул – Лебедев… Верно говорят, борода его облагораживает. И как только он сюда попал? А впрочем… Если внимательно оглядеть столик за столиком, станет ясно, что среди иноземных бизнесменов, ловящих в Москве миг удачи, сидят-посиживают и дельцы отечественного образца.
«Наверное, напрасно я не отдал его Быкову, – слушая сочувственные тирады старого конкурента, думал Гурьев. – Знал бы ты, Борода, что я в руках держал фоторобот, с твоей физии срисованный. А в принципе, как бы я ни ненавидел тебя, отдать не смог бы. Это значило бы раскрыться самому. И меня ты никогда не продашь по той же причине. Мы спаяны, как не каждые друзья и братья… Быков, если найдет тебя, то не скоро. Прописка-то, небось, сочинская или все еще воркутинская. Пока доищешься среди трехсот миллионов сограждан. Что обидно – в милицейской картотеке ты не значишься, не попадался, прохвост!»
Максим Максимович тяжело посмотрел на Лебедева и сказал:
– Замолчи. Я знаю цену твоим сочувствиям. Знаю, за что несу крест. И с чего все началось, знаю. Хоть и поздно, к сожалению, узнал. На своих грешил. А это ты мне подножку поставил тем убийством. Тебе, дружок, надо было давно связаться со мной лично, а не доверяться мальчишкам, охочим до псевдоромантики, – он кивнул на высокого стройного парня с тонкими очками на интеллигентном лице, стоящего поодаль.
– Это моя гордость, – усмехнулся Лебедев, – Черныш… Надежнейший из воспитанников.
– Ты меня слушай, мне твой Черныш неинтересен. Кстати, не он собрался со мной тягаться, нет? Так вот скажи своему воспитаннику – руки коротки… Макса ментуре отдать! А «Элладу» я бы вам просто подарил. Не настолько это доходное место, как вам показалось издаля на палочке. – Гурьев крякнул. – Особенно после убийства Ламко. Дураки, на нее-то и можно было делать ставку, если уж чего-то хотеть… Все, «Эллада» мне не нужна, завтра я уезжаю.
– Знаю, потому и подошел, Максим Максимович. Мне понятна твоя щедрость. Раньше ты таким не был. А с остальными точками как? Из Европы контролировать будешь?
Максим Максимович понял: Лебедев догадался – из очередной краткосрочной поездки за рубеж Гурьев не вернется. А он надеялся, что, кроме него и Ольги, об этом пока никто не знает. Но сделал вид, что открытого намека не понял, сказал буднично:
– Я передам Арбузову, когда он поправится, чтобы остатки долгов возвращал тебе. Черт с тобой. Что еще хочешь? Я, к примеру, хочу водки и дать тебе в морду…
– Благодарю, Макс, но твоего Арбузова посадят, как только выпустят из больницы. А Ламко мне самому жаль. Но я боролся не с ней. Признаю, я в проигрыше. А на «Элладе» висит дело, она мне тоже больше не нужна. И тут я проиграл.
– Ты, дурак, мне даже краплеными картами проигрывал. Варианты считать не умеешь. Уходи.
Лебедев кивнул своему спутнику и величественной походкой проследовал к дверям. Ему улыбнулся и поклонился метр – с той мерой такта, которая не позволяет поклону выглядеть лакейским.
Максима Максимовича обуяла злоба. Этот негодяй играл и заигрался. Он не одну Ламко погубил. И Вера в конечном счете на его счету. И Гришка, если разобраться. И Воздвиженский, если вдуматься. Он должен быть наказан.
«Это не в моих правилах, – подумал Гурьев. – Бог простит, а следов не останется. Имею же я право напоследок получить удовольствие остаться отомщенным».
Максим Максимович поднялся из-за стола и тоже вышел из зала. Увидел, как Лебедев и его подручный спускаются по отливающей золотом лестнице. Когда они подошли к дверям и створки автоматически распахнулись перед ними, Максим Максимович сделал несколько шагов и встретился взглядом с сидящим в углу на банкетке под зеркалом юношей. Тот встрепенулся. Максим Максимович кивнул на удаляющуюся пару, и юноша бросился бегом к парадному выходу, не спуская глаз с Лебедева, – того было хорошо видно через стекло витрины. А Максим Максимович вернулся в зал ресторана, ведь он так и не выпил водки. Сейчас, пожалуй, он мог бы себе позволить и два фужера. Придется задержаться здесь на пару часов, пока обернется этот малый.
«Вольво», в которую уселись Лебедев и Чернов, устремилась к Дзержинке, а потом свернула на Рождественку и понеслась вперед, к Бульварному кольцу. Затем свернула к Сретенке и выехала в пустынный переулок. По обе стороны проезжей части стояли дома с пустыми глазницами окон – ремонт еще не начался, а жизнь уже затихла. Вдруг из подворотни проходного двора вылетел «Москвич». Сзади неспешно ползло такси. Таксист притормозил, опасаясь столкновения. Неожиданно раздалась автоматная очередь. Таксист резко взял влево, едва не опрокинулся, разворачиваясь на двух колесах, ударился днищем о высокий край тротуара и исчез. Человек стрелял по «Вольво», приоткрыв дверцу «Москвича», опустив ногу на мостовую. «Вольво» сначала заметалась, словно поскользнулась, а потом встала как вкопанная. Стрелявший подбежал к ней, через лобовое стекло выпустил еще две очереди по уже недвижимым окровавленным телам. И все стихло…
33
Левченко стояла у окна, глядела на дождь и ритмично стучала пальцем по стеклу. Получался марш Черномора.
– Перестань, – сказал Быков, – на нервы действует…
Он отодвинул от себя стопку фотографий. Изрешеченный пулями автомобиль «Вольво», простреленная голова Чернова, прошитая очередью грудь некоего Лебодидзе, если верить найденному при убитом паспорту.
– Да… гора трупов, десяток арестованных «шестерок», Арбузов, утративший дар речи вследствие перенесенного инсульта… Это все, что мы имеем. Опоздали, как же мы опоздали в эти Петушки!
– В Кузнецы, – машинально поправила Левченко.
Зашел капитан Сиволодский.
– Вячеслав Иванович, звонил Боря Михеев из Пресс-бюро. Вас на брифинг приглашает. Надо идти. Журналисты требуют объяснений.
– Не пойду. Иди сам, если хочешь.
– Ну и что я там скажу?
– Что произошла перестрелка между двумя преступными группировками, чьи действия вышли из-под контроля органов внутренних дел, – с раздражением ответил полковник. – Придумали же формулировку! Что тебе еще надо?
– Надо как-то объяснить, почему Горохов застрелен из макаровского пистолета, а при Воздвиженском нашли только «Вальтер», из которого убита Гурьева. А на крыше дома в Даевом переулке обнаружен новенький пулемет…
– Скоро они танки из своих гаражей выпустят! – Быков хрустнул пальцами.
– Не пропустим, Вячеслав Иванович, грудью закроем родную столицу, как в сорок первом… – попытался отвлечь руководителя Сиволодский, но видел только, как все тяжелеет его взгляд. – Вы на брифинг пойдете, Вячеслав Иванович? Мне это пока не по чину. Что полковнику Михееву ответить?
– Не ерничай, – сказала Левченко, – это какой-то жуткий замкнутый круг! Ведь ясно, ясно же, что этот Макс сидел вот в этом кабинете, говорил со Славой, отказался опознать Лебодидзе, который наверняка какой-нибудь Лебедушкин, уж поверьте мне, на грузина или осетина он не похож, хоть паспорт вроде неподдельный. Вот чей человек Чернов, вот кто патрон Чернова, вот кто стремился устранить Макса, вот ради чьей прихоти убита Ламко… А Макс уже над Атлантикой. Уверена, это он приказал расправиться с этими людьми. Он! Больше некому. Получилось, не они его, он их укатал! Утром звонили из таксомоторного парка. Один из шоферов вечером после смены рассказывал, как оказался свидетелем перестрелки на Сретенке. Стреляли из старого «Москвича» в упор. А утром, когда инспектор районного угро хотел допросить этого водителя, он отказался давать показания и заявил, что просто-напросто выдумал эту историю, чтобы потешить сотоварищей.
– Новая Шехерезада! – Быков выругался сквозь зубы. – Скорее примет клеймо лжеца, чем согласится «ввязаться в историю»… Что будешь делать? Так ничего и не добились от этого таксиста?
– Ничего. А как его заставишь говорить правду?
Сиволодский сказал с досадой:
– Хотя бы номер этого «Москвича» знать! Приметы водителя, цвет машины! Уверен, нашли бы способ доказать его контакты с Максом. Спрашивается, что мы тут сидим? Надо давить показания, надо связываться с Аэрофлотом, разворачивать самолет… Вираж над Атлантикой – и курс к родным берегам.
– Даже если воспринимать твой треп всерьез, что мы предъявим Гурьеву? – спросил Быков, не глядя на Сиволодского. – И что значит «давить показания»? Пробиваться к совести, к гуманности? Скоро я забуду, что это такое!.. Где эти добрые чувства, какая лира их способна пробудить и, черт возьми, где эта лира, в чьих руках? «А при чем тут я?» – скажет таксист. Слово в слово, точно так же скажет Гурьев: «А при чем тут я?» – Быков отшвырнул фотографии. – А эти свидетели… они уже ничего не скажут. Они врали живые, а теперь, мертвые, молчат… Вот спросите меня, за что погибли эти люди. Скажу: ни за что!
– Люди гибнут за металл, – заметил Сиволодский.
– Нет, Миша, – покачал головой Быков. – За металл они борются. А эти погибли как путники, потерявшие ориентир. Не то снежная лавина их настигла, не то наводнение на них обрушилось, не то лава испепелила их…
– Да, новые законоположения в некоторой своей части весьма туманны, – вставила Левченко, будто поняв полковника.
– Да нет, Валя, – продолжил он, – не в законах дело, даже не в гениальной многоликости формулы «разрешено все, что не запрещено». Шпана типа Крынкина поняла демократию как слабость власти. Арбузовы, возомнив себя первыми прогрессистами, решили, что на свободный рынок достаточно выйти с алчностью во взоре и пачкой купюр в кулаке. Чернов, Горохов и им подобные и вовсе перепутали путь к инициативе с большой дорогой и вышли туда с кистенем. Воздвиженский… Среда родила, если хотите, приспособленца нового типа. Приспособленца к криминогенным условиям. Если бы мог, я так бы и сказал на брифинге, не углубляясь в экономические, социальные или нравственные аспекты. Да ведь некоторые нервные идеалисты меня, пожалуй, ошикают. Нацелившись на абстрактный гуманизм, они забыли, знать не хотят, что преступление страшно именно конкретностью зла.
– Господи, – вздохнула Левченко, – когда все это кончится, когда слепцы прозреют?..
Быков не ответил, подошел к окну, встал рядом с Левченко, тоже начал глядеть на струйки дождя, ползущие по стеклу. Дождь припустился сильный, летний. Москва умывалась.
Капитан Сиволодский смотрел на них и не знал, что сказать.








