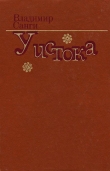Текст книги "Женитьба Кевонгов"
Автор книги: Владимир Санги
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Глава XXXI
Маленькое стойбище А-во встретило гостей остервенелым лаем будто взбесившихся здешних собак. Но в их заливистом лае не злоба была. Скорее любопытство и радость от того, что наконец-то есть повод продрать горло. Редко когда сюда наезжали. Разве какой-нибудь дальний каюр с другого побережья в своей нелегкой поездке по родичам, разбросанным невесть где, останавливался в этом глухом таежном местечке, чтобы дать отдохнуть отощавшей в дороге упряжке и обменяться с жителями А-во родовыми тылгурами – преданиями и легендами.
Из большого то-рафа вышел сгорбленный старец. Это Эмрайн – старейший рода Авонгов. Он в синем матерчатом халате с волнообразным желтым орнаментом на полях. Седые редкие волосы заплетены в тонкую облезлую косу. Старец пристально всматривался в приезжих. Следом вышли два его сына – Хиркун и Лидяйн. Оба в накинутых на плечи цветастых халатах.
За ними выскочили две молодые женщины – одна совсем еще юная. Ланьгук. Встретившись с Ыкилаком глазами, она покраснела, будто лицо ее окатили из жбана соком брусники. Девушка юркнула в то-раф – только косы взметнулись, как крылья. За Ланьгук степенно повернулась и исчезла другая женщина. Это Музлук – жена Хиркуна. «Наверно, чай пили – раз собрались все в то-рафе родителей», – рассудил Ыкилак.
Эмрайн прикрикнул на собак, и те смолкли. Лишь некоторые поскуливали, завидев суку, которая нагло и независимо прогуливалась по стойбищу. Непривязанные кобели, тесня друг друга, обхаживали ее. «Ах, ты, бессовестная! Нахалка! Ведь срок твой еще не вышел!» – корил ее про себя Касказик, а вслух сказал, оправдываясь:
– Увязалась за нартой. Гнал, да разве послушается, тварь этакая. Всю дорогу только и мешала.
Эмрайн, криво ступая, подошел ближе.
– Как дорога? Наверно, нелегко было?
Лидяйн вполголоса спросил Хиркуна:
– Не за Ланьгук они?
– Откуда я знаю, разговора еще ведь не было?
И уже на правах старшего не счел нужным скрывать недовольство:
– Ты вечно спешишь. Сходи, позови женщин – пусть помогут распрячь упряжку да собак покормят.
Лидяйн ответил обиженным взглядом исподлобья, но повиновался. Не успел открыть он дверь, как ее толкнули изнутри. Вышли Псулк, Музлук и Кутан, младший брат Эмрайна, родовой шаман.
Ыкилак двигал плечами, размахивал руками, чтобы изгнать из себя холод – день был безветренный, но морозный воздух, казалось, проник во все поры, выстудил кровь. «Еще подожду. Как пальцы отойдут, распрягу». Но ему не пришлось заняться этим. Подошли широкоскулая и плоская, как плашка для распялки шкур, Псулк – жена Эмрайна и с нею на редкость крупная и статная Музлук – жена Хиркуна.
– И-и-и, – улыбнулась Псулк младшему Кевонгу. – Какой большой и красивый стал мальчик.
Она широко и уверенно шагнула к упряжке. Нартовые псы, поначалу с подозрением встретившие женщин, повиновались умелым рукам.
Вечером после чая по традиции пришло время сказаний. Гости должны рассказать свой тылгур[29]29
Тылгур – предание, сказание, легенда.
[Закрыть]. И когда Касказик почувствовал, что окружающие накурились и настроились слушать, рассказал короткое предание.
Три охотника – ымхи, человек рода зятей, и два ахмалка, люди рода тестей, пошли в тайгу ставить петли. Ымхи был бедный, неженатый. Ему нужно добыть соболей на выкуп. Ахмалки же – из богатой семьи, где было много мужчин-добытчиков. Ымхи, если охота окажется удачной, женится на сестре ахмалков.
Пришли охотники в сопки, срубили балаган, расставили ловушки. Ымхи поставил тридцать ловушек, младший ахмалк – пятьдесят, старший ахмалк – триста.
Прошел день, прошел второй. Пришли охотники проверять ловушки. Ни в одной ловушке нет добычи.
Принесли охотники Пал-ызнгу жертву: табаку, корни сараны. Старший ахмалк сказал: «Добрый дух, пожалей меня за все мои страдания – вон сколько ловушек я выставил».
Пошли на следующее утро охотники проверять ловушки. Шли, шли они по распадкам и сопкам, видят: идет по сопке красивая девушка, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» Так скликают щенков покормить. Идет красавица по склону сопки, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А девушка что-то бросает в стадо соболей, соболи ловят на лету.
Стоят охотники, разинув рты. Стоят и смотрят, как лесная девушка, дочь земного Тайхнада[30]30
Тайхнад – сотворитель живого на земле.
[Закрыть], прошла по склону сопки вместе с соболями. Прошла дочь Тайхнада по склону сопки – исчезла.
После этого еще несколько дней соболи не шли в ловушки. Охотники ходили по сопкам и распадкам, переставляли ловушки, но все равно не было добычи.
Вечером, когда они сидели в балагане и думали о своей неудаче, кто-то стал спускаться по сопке к балагану. Охотники подняли головы, видят: входит к ним седовласый старец. Вошел старец, прошел к лежанке, присел. «Ух-ух-ух, – перевел он дыхание. – Вижу, что вас мучает неудача. Жалко вас – вы так стараетесь, а добыча не идет в ловушки».
Поняли охотники, к ним явился сам Тайхнад, сотворитель живого на земле.
Старец сказал: «С завтрашнего дня соболь пойдет в ваши ловушки. Вы ловите соболей, а я буду снимать шкурки, сушить». Охотники не знают, как отблагодарить. Покормили они гостя, положили спать. Ымхи подумал: «Хоть бы двадцать соболей послал в мои ловушки. Столько соболей, пожалуй, хватит на выкуп». Подумал так ымхи и уснул с этой мыслью.
Младший ахмалк подумал: «Мне бы поймать хоть двадцать пять соболей. Тогда мои отец-мать скажут, что я добытчик». Подумал так младший ахмалк и уснул с такой мыслью.
А старший ахмалк подумал: «Знать, я наделен счастьем, раз сам Тайхнад пришел ко мне в гости. Сделай так, чтобы мои ловушки всегда были полны добычи». Подумал так ахмалк и уснул со своей мыслью.
Утром охотники проснулись рано, пошли проверять ловушки. Увидели: в каждой ловушке сидит соболь.
Ымхи подумал: «Надо убрать ловушки. Если так будет ловиться, не успеем снять шкурки». Так же подумал и младший ахмалк.
А старший подумал: «Вон как ловится соболь. Хорошо! Я поставил много ловушек». Снова зарядил ахмалк свои ловушки. А добычу в мешках таскал к балагану несколько дней.
Пока он таскал соболей, во всех ловушках оказалась новая добыча.
Старик тогда сказал: «Не надо так много ловить, я не успеваю снимать шкурки. Они портятся».
Ахмалк ничего не сказал. Но и ловушки не снял. И накопилось соболей так много, что стало негде хранить.
Старик опять говорит: «Не надо ловить так много священных зверей – они портятся».
Ахмалк подумал: «Старик только мешает мне охотиться». Он знал: Тайхнад не любит, когда костер собирают из пихты: пихта, разгораясь, трещит так, что голова болит.
Ахмалк незаметно срубил пихту, незаметно положил в костер. Костер вспыхнул, затрещал. «Тэ-тэх-тэх!» – трещит огонь. «Ыйк-ыйк-ыйк!» – вздрагивает Тайхнад. Потом старец молча надел шапку и вышел из балагана.
На следующее утро охотники услышали шум, будто ветер прошел по лесу. И увидели охотники: по сопке проходит лесная девушка. Девушка шла и звала: «Кыть-кыть-кыть». И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А она все зовет: «Кыть, кыть, кыть». И тут соболи, которых старший ахмалк хранил в амбарах, ожили и помчались к девушке.
Схватился старший ахмалк за голову, побежал с криком: «Соболи! Соболи! Мои соболи!».
Долго бежал ахмалк. Но куда там. Ступит девушка – она на одной сопке, ступит еще – уже на другой сопке. А вместе с нею – стадо соболей.
Бежал охотник за соболями. Ымхи и младший ахмалк долго слышали, как по распадкам и ущельям разносился голос: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»
Вернулись они в стойбище. Отдал ымхи отцу-ахмалку выкуп, забрал жену. Рассказали о случае в тайге. Их рассказ стал преданием.
Едва Касказик закончил рассказывать, раздался голос Музлук:
– Так и надо ему: одним жадным меньше стало.
Ыкилак впервые слышал от отца это предание. Другие, разные, отец рассказывал раньше, а этот тылгур о бедном ымхи и жадном ахмалке Ыкилак услышал впервые. Ыкилак слушал отца, видел себя на месте безымянного юноши и желал себе удачи…
Эмрайн не ответил на предание ни словом. Он понял старейшего Кевонга, тот предупреждал: нельзя быть жадным. Хитрый Касказик нанес удар, упредил…
Глава XXXII
Прошла ночь. Наступил новый день Кевонгов, может быть, самый важный для маленького рода. Но что это?
Касказик ощутил, что между ним и людьми А-во незримо встала стена холода.
Что же случилось, почему так внезапно все изменилось?
Два рода – Авонгов и Кевонгов – издревле кровно связаны. Авонги – род тестей, Кевонги – род зятей. Издревле было: женщины из А-во переходят в род Кевонгов. Правда, бывало в далеком прошлом (об этом гласят родовые предания), когда иные женщины из А-во уходили в род Нгаксвонгов на туманном берегу моря. Но такое случалось редко и лишь тогда, когда в роду Кевонгов у всех были жены, а взять вторую жену редко кто решался – лишний рот. Но о тех прекрасных временах, когда мужчинам хватало женщин, – об этих временах лишь в преданиях сказывается. И Касказик, сегодняшний старейший оскудевшего рода, с тоскливой печалью думал: «Были ведь такие времена…»
О, эти проклятые воры – люди из туманного Нгакс-во! Будь проклят тот, кто придумал огненную воду! Это с ее помощью лишили ума покойного деда Сучка и его братьев – иначе бы они не изменили своему слову! Будь проклят тот миг, когда пролилась кровь людей Нгакс-во. Это он, Касказик, в то давнее время, увидев убитого брата, разъярился и бросил копье в убегающего криволицего, пронзил его. О, будь проклят этот день: он стал началом кровной мести. Люди Нгакс-во не знали, что и Кевонги понесли утрату. Вернувшись к морю, они учинили резню – уничтожили тамошних Кевонгов, которые отошли от родового древа много ань назад. Жителей Ке-во потрясла неслыханная несправедливость: они убили одного из Нгакс-во, а те отняли три жизни! Как только Курнг не покарал их! Кевонги мудро укротили свой гнев. Отвечать новой кровью значило наложить руки на себя, всему роду пришел бы конец. Касказик дал себе тогда слово: наступит час и он отомстит. Молил богов, чтобы помогли ему: хотел иметь сыновей, много сыновей. Они отомстят людям Нгакс-во. Но боги обошлись с Кевонгом немилостиво. Прав был тот древний шаман, от которого сейчас и трухи не осталось: он сказал тогда, что Кевонги совершили тягчайший грех, пролив человеческую кровь…
Может, Курнг потому и оставил так мало Кевонгов, чтобы чувствовали свое бессилие?
Теперь не заботы о кровной мести занимали Касказика. Он будет виноват, если на его сыновьях оборвется род. Земля будет жить. И травы будут жить. И звезды, и зверье будут жить. А рода Кевонгов не будет! Эта мысль преследует Касказика. Где бы ни был он, на охоте ли, на рыбалке, спит ли с женой в своем теплом то-рафе – не отстает от него эта дума.
Ланьгук, конечно, должна была стать женой Наукуна – уж таков обычай, сперва женят старших сыновей. Но волею Касказика она станет женою младшего. Касказик принял это решение не потому, что любит Ыкилака больше. У него были свои расчеты.
Тогда Касказик надеялся: он сумеет найти своим сыновьям не двух, а трех жен. Ланьгук никуда не денется, она, еще не родившись, предназначена была роду Кевонгов. Наукун на семь ань старше Ыкилака. А пока Касказик в силе, он объедет стойбища, доберется до самых отдаленных, куда не проникали даже его предки, и найдет, конечно же, найдет двух женщин, пусть не очень молодых, пусть не очень красивых, пусть даже горбатых, но двух. И, пока Ыкилак и Ланьгук подрастут, Наукун уже будет иметь нескольких сыновей от обеих жен! Нескольких сыновей! И дерево Кевонгов пустит новые ветви!
Вот почему двенадцать ань назад Касказик привез в А-во младшего сына. Тогда детям оголили ноги и обвязали их чныр-травой. Так символически соединили Ыкилака и Ланьгук. После этого обряда Ланьгук уже принадлежала не вообще роду Кевонгов – Ыкилаку.
С угрюмой настойчивостью Касказик пытался осуществить свой план. После осенних пеших походов он ненадолго задерживался в то-рафе. Снова оставлял жену и детей, гонял упряжку от стойбища к стойбищу, возвращался уже по насту.
Измученный долгими, бесполезными поездками старейший отвечал на немой вопрос жены виноватым взглядом. И в такой миг этот своевольный, властный человек казался жалким, беспомощным. Талгук ничего не спрашивала, только жалела мужа тихо, ненавязчиво, как умеют жалеть нивхские женщины.
В дальних своих поездках Касказик понял, что смерть грозит не только его роду. В некоторых стойбищах ему рассказывали: в таком-то роду еще несколько ань назад было двадцать человек. А теперь только шестеро. В другом же роду всего трое. Касказик ужаснулся: нивхи, похоже, вымирают!
Они чувствовали беду, как птицы изменение погоды, и по-своему принимали спасительные меры. Едва появится у кого дочь, тут же совершают обряд чныр-юпт, а некоторые имели по две или даже по три жены. Но это доступно лишь людям крупных родов: за женщин теперь так много заламывают, что только могущественный род может собрать требуемый выкуп.
Узнав, что Касказик из маленького рода, с ним и вовсе прекращали разговор: кому интересно иметь слабых и бедных ымхи!
Так жестоко время расправилось с планами старейшего Кевонга. Четыре ань назад, когда он узнал, что Ланьгук уже могла бы родить, сказал жене, что поедет рыбачить на дальнюю тоню, а сам примчался в А-во. Между старейшими состоялся разговор. И по сей день Касказик помнит каждое слово. Он (умоляюще): «Нгафкка, я затеял обряд чныр-юпт, я и нарушу его. Отдай мне свою дочь: она станет женой Наукуна». Эмрайн (настороженно): «Где это видано, чтобы нарушался кровный обряд?» Он (упавшим голосом, настойчиво): «Это нужно, чтобы мой несчастный род быстрее окреп». Эмрайн (пугливо и неуверенно): «Курнг может возгневаться». Он (все так же умоляюще): «Курнг не щадил мой род. Сколько бед натерпелись! Теперь мы достойны его жалости». Эмрайн (так же пугливо, но решительно): «Нет! Я не ищу гнева Курнга! Ты хочешь, чтобы и мой род постигла твоя участь».
Касказик вернулся назад сам не свой. Домашние сочли, что рыба не пошла в ловушки. Вот так и случилось, что Ланьгук окончательно должна стать женой младшего сына при живом и неженатом старшем.
…Касказик сидел на сложенной дохе, откинувшись назад и прислонившись к краю нар. Такую же позу принял и его сын. Старик ждал, когда ему подадут табак. Эмрайн протянул кисет младшему своему сыну Лидяйну и тот положил его на колени гостю. Касказику не понравилось, что хозяева заставляют его ждать. Закон гостеприимства требует, чтобы кисет положили перед гостями сразу же, как те поедят. Касказик пошарил рукой под халатом, где-то под мышкой нащупал трубку, вытащил, набил листовым табаком. Передал кисет сыну. Ыкилак тоже набил трубку, подошел к очагу, нашел сучок с тлеющим концом, подал отцу. «Что же это такое? – возмущался про себя Касказик. – Разве так обращаются с людьми из рода ымхи! Что все-таки произошло?»
Женщины у очага молча чинили одежду. Женщинам света белого не хватает на их нескончаемые большие и малые заботы. Мужчины медленно курили. На их угловатых скулах играло пламя очага. Чем больше тянулось молчание, тем явственнее ощущалось напряжение.
Неуверенность тяготила Ыкилака. Он целиком полагался на отца и бросал изредка на него вопрошающий взгляд. Ланьгук, та самая Ланьгук, при одном воспоминании о которой будто головой зарываешься в благоухающий багульник, сидела спиной к нему и, склонив маленькую головку на грудь, рассматривала узоры на полах халата, теребила кончики толстых кос, спускавшихся к бедрам, и по-детски шмыгала носом. Как самый младший член семьи, она не была обременена заботами…
Ыкилак смотрел на Ланьгук, и во всех подробностях встала перед ним их встреча у Вороньей ели.
…Это птенчик, это птенчик
выклюнулся из яйца.
Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.
А гнездо мое качают
ветры злые, и пугает
темь ночная. Только крики
страшных духов слышу я…
Упадет на землю птенчик —
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек…
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти,
и от крыльев, и от крыльев
пух и перья полетят.
Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?
Неужели ты забыла, когда родилась эта песня? Прошлая осень выдалась теплая, солнечная. Природа будто перепутала времена года, и вместо осени пришло весеннее тепло. Воздух был наполнен земными запахами, травы благоухали терпко, по-весеннему. Птицы сытно и беззаботно цвиркали в воздухе, кустах, траве. Будто им не надо сбиваться в стайки, чтобы покинуть наши края, куда скоро придут холода. В воздухе висели утренние паутинки. Они сверкали, переливаясь на солнце.
В тот год был большой ход кеты. Едешь по Тыми, и на каждом мысу – возведенные на скорую руку вешала. Они отдавали белизной свежей рубки, но были сплошь завешаны гирляндами красной распластанной рыбы. В мире ничего нет красивее увешанных юколой вешалов! Юкола обильно вбирала в себя солнце, становилась частью солнца, чтобы в самую стужу съел ее человек – и стало ему сытно и тепло. Когда у нивха солнечная юкола, его обходят болезни и неудачи…
Тогда и вы, люди А-во, и мы, люди Ке-во, набили свои амбары под самое корье плотными душистыми связками отлично провяленной юколы. А потом вы приехали к нам на лодке. Мужчины – чтобы в Пила-Тайхуре ловить осетра, а ты за брусникой. Ее, брусники, в ту осень уродилось как никогда. Все сопки вокруг были осыпаны крупной, темной, как сгустки крови, длинноветвистой таежной ягодой.
Вечером мы вытащили из Пила-Тайхура огромного, в полтора моих роста, жирного осетра, и все, кто находился в стойбище, вышли на берег каждый со своим ножом и вдоволь наелись. Ты подошла ко мне и подала маленький, узорчатый туес, полный брусники. Потом взглянула на меня. Сердце мое забилось совсем по-другому. А ты повернулась и, глядя на меня, медленно пошла из стойбища к Вороньей ели. Твои глаза тянули меня за собой. Ты обвила меня своими тоненькими руками и так прижала к себе, что заломило в спине. А я стоял, как пень. Ты смотрела в мои глаза, а я, теленок-первогодок, от смущения не знал, как поступить. Твои глаза просили, умоляли. Шея и щеки горели. Я почувствовал на губах что-то тонкое, упругое. Это волос твой, или паутинка? В ту осень было много ее, паутинки. Надо было целовать тебя, а я перебирал губами паутину. Ты сказала: «Послушай» и тесно прижалась ко мне. Я не понял, что должен услышать. Ты взяла мою ладонь, прижала к своей груди и сказала: «Вот тут слушай». Ладонь ловила частые, сильные удары сердца. А ты тихо и печально пела:
Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.
Посмотрела на меня – в глазах мольба. Но в следующий миг я заметил: ты сердишься.
Упадет на землю птенчик
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек.
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти,
и от крыльев, и от крыльев
пух и перья полетят.
Ты пела вполголоса. Я напрягал слух, чтобы не пропустить ни слова – так они были складны и красивы. Потом будто по голове меня ударило: о чем сказала эта песня? Я глянул в твои глаза. В них – мольба и… отчаяние.
Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?
Что ты этим сказала?
Ты резко повернулась и побежала в стойбище. А я остался.
На другое утро вы уехали, увезли с собой большую рыбину – ночью Пила-Тайхур подарил еще одного осетра…
Ланьгук, Ланьгук… Где тот взгляд, которым ты смотрела на меня у Вороньей ели? Что случилось?
– Офы! Офы!
Это прокашлялся отец. Что-то хочет сказать?
В то-рафе полумрак. Лишь огонь очага пляшет красной лисой.
– Офы! Офы! – еще раз прокашлялся отец и резко передернул плечами. Окружающие поняли: нет, не уйти от разговора. Двое старейших должны объясниться.
Касказик мудр! От того, как начнет он, будет во многом зависеть, удастся ли ему взять свое.
– Ы-ы-ы! – тянет Касказик. Как талая ледниковая вода нащупывает себе русло, так и Касказик ищет путь к сердцу ахмалка.
– Ы-ы-ы-ы! Сколько память людская живет, столько живут два добрых соседа – два древних рода: Авонгов и Кевонгов.
Кажется, ручей пробил себе русло и помчался уверенней. Касказик перевел дыхание. Голос старейшего Кевонга звучал ровно:
Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы!
С тех пор, как солнце восходит в небо,
с тех пор, как травы усеяли землю,
с тех пор, как сопки покрылись деревьями
и в реки Тайхнад посылает лосося,
живут два рода, два древних рода.
Живут два рода, два древних рода,
собой оживляя долины и сопки,
тайгу оживляя делами и речью,
собой украшая великую землю,
живут два рода, два древних рода.
Касказик перевел дыхание, обратился к старейшему Авонгу:
Волею Курнга – Всевышнего духа
род твоих предков стал родом ахмалков.
Был он могуч и цветущ, как долина
в теплые дни бестуманного лета.
Волею Курнга – Всевышнего духа,
род моих предков в ымхи превратился.
Добрые наши соседи ахмалки
в род наш своих дочерей отдавали.
Брали мы женщин и в стойбищах дальних,
но лучшие жены – из Нижнего стойбища.
Род наш Кевонгов окреп и разросся,
деревом стал он с ветвистою кроной.
Быть бы всегда нам могучими, сильными.
Нет, отвернулися добрые духи.
Видишь ты сам – здесь не нужен глаз юноши —
дерево гибнет, остались две ветви.
Ветви без сока усохнут однажды,
дерево черви съедят.
Касказик сейчас не тот, каким его знали – властолюбивый, гордый. Он согнулся, голова свисает на грудь, глаза закрыты, голос печален и глух.
Сердце дорогу свою не забудет,
травы всегда будут к солнцу тянуться,
сопки всегда будут лесом покрыты —
рода Кевонгов не будет…
Вокруг напряженная тишина. Ланьгук потихоньку смахивает слезы. Псулк, жена Эмрайна, сердито дергает иголку, нитка рвется, и женщина долго мучается, пока дрожащей рукой проденет нитку.
Эмрайн нервно теребит бороденку, подслеповато мигает, ссутулясь перед очагом, молчит. Чуть поодаль, в тени, полулежат на нарах братья: Хиркун задумчив и хмур, Лидяйн поглядывает на отца с усмешкой.
Ланьгук всхлипнула. Опять тишина, напряженная, мучительная.
Эмрайн подкинул дров в огонь, и снова тишина. Наконец он выпрямился, словно сбросил какую-то тяжесть.
– Вы, как снег в ясный день. Мы и принять-то как следует не смогли. А Ланьгук, какая из нее жена: плачет и плачет. Дитя совсем.
– Подождем, – сказал Лидяйн. Сказал так, будто его слово решающее.
«Ах ты, сучий выродок, – выругался про себя Касказик. – Совсем обнаглел. Будь ты моим сыном, я бы показал, как лезть не в свое дело». Потом старейший Кевонг поймал себя на тоскливой мысли: «Будь у меня третий сын, как бы я благодарил Курнга. Пусть бы даже такой выродок – все равно».
– Какой из Ыкилака муж – он и мясо-то не знает, как добыть.
«Опять этот негодяй. У-у-у… Скажи спасибо, что не мой сын…»
– У него жена на второй же день помрет с голоду.
– Заткнись!
Это уже гневается Хиркун. Он – второе лицо в то-рафе. Уж он-то может прикрикнуть на младшего.
– Пусть докажет, что он мужчина, – обиженно говорит Лидяйн. – Пусть докажет.