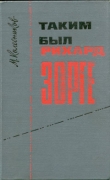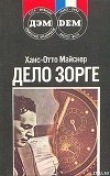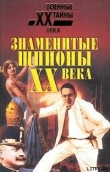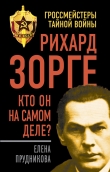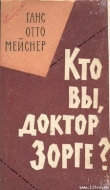Текст книги "Рихард Зорге - заметки на полях легенды"
Автор книги: Владимир Чунихин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
N 2294/М
18 июня 1941 года
Совершенно секретно
По имеющимся в НКГБ СССР данным, за последние дни среди сотрудников германского посольства в Москве наблюдаются большая нервозность и беспокойство в связи с тем, что, по общему убеждению этих сотрудников, взаимоотношения между Германией и СССР настолько обострились, что в ближайшие дни должна начаться война между ними.
Наблюдается массовый отъезд в Германию сотрудников посольства, их жен и детей с вещами.
Так, за время с 10 по 17 июня в Германию выехало 34 человека:
10 июня с. г.
1. Шлиффен – жена пом. авиационного атташе.
2. Хобуд – секретарь авиационного атташе.
3. Госстах – сотрудник германского консульства в Ленинграде.
12 июня с. г.
1. Рейхенау – секретарь военного атташе.
2. Заамфельд – сотрудница посольства с дочерью.
13 июня с. г.
1. Нейман – помощник военного атташе.
2. Эрдтман – машинистка посольства.
3. Гильгер – сотрудница военного атташата.
4. Латус – машинистка посольства.
5. Базенер – секретарь пресс-атташе Штарке.
6. Арнсвальд – лесной атташе с женой и сыном.
14 июня с. г.
1. Вальтер – советник посольства.
2. Ашенбреннер – авиационный атташе.
3. Рихтер – машинистка посольства.
4. Ангерсбах – стенографистка посольства.
5. Кирстейн – жена шофера посла Шуленбурга.
6. Ритцель – мать сотрудника посольства.
15 июня с. г.
1. Бенедикс – инспектор военно-морского атташата.
16 июня с. г.
1. Нагель – пом. военного атташе с женой.
2. Швиндт – помощник канцлера посольства.
3. Шуле – представитель германского информационного бюро.
4. Штарке – жена пресс-атташе.
5. Кейтингер – сотрудник посольства.
6. Ангерсбах – зав. школой при посольстве.
7. Кемпфе – жена референта посольства. 385
17 июня с. г.
1. Бретшнейдер – жена сотрудника посольства.
2. Пача – дочь сотрудника посольства.
3. Аурих – жена секретаря консульского отдела.
4. Харрен – жена сотрудника посольства.
Получили визы и заказали на 18 июня с. г. билеты на выезд в Германию:
1. Бауэр – сотрудница посольства.
2. Фишер – жена сотрудника посольства.
3. Штреккер – секретарь консульства в Ленинграде с женой.
Среди низшего персонала посольства из числа германских подданных проявлялось открытое недовольство тем обстоятельством, что ответственные сотрудники посольства отправляют свои семьи и имущество в Германию, но не дают указаний низшим служащим, как должны поступить последние.
В связи с этим 12 июня с. г. состоялось собрание обслуживающего персонала, на котором было объявлено о необходимости приготовиться к отъезду.
Сообщение ТАСС от 13 июня с. г. было встречено многими сотрудниками посольства с удовлетворением и расценивалось как признак урегулирования взаимоотношений между СССР и Германией. Однако наступившее кратковременное успокоение 14 июня с. г. вновь сменилось возбужденностью и растерянностью и поспешными сборами к отъезду в Германию.
14 июня с. г. в Германию выехал германский авиационный атташе Ашенбреннер, забрав с собой все имущество, в том числе легковой автомобиль.
В тот же день в Берлин выехал советник посольства Вальтер с каким-то специальным поручением.
Наряду со сборами к отъезду сотрудников посольства производятся спешная отправка в Германию служебных бумаг и сжигание части их на месте.
15 июня с. г. германский военный атташе Кестринг и его помощник Шубут в течение всего дня разбирали свои дела и сжигали документы. Сжиганием документов уже в течение нескольких дней заняты инспектор авиационного атташата Тадтке и секретарь этого атташата Радазевская.
10 июня с. г. НКГБ СССР ____________________ следующие разговоры между ____________________ и
____________________: Эти дела подлежат уничтожению?
____________________: Нет, в них говорится только о погоде. Они смогут спокойно оставаться здесь. Шеф сказал, что эти дела известны русским. Их мы оставили лежать в этой папке.
13 июля с. г. ____________________ следующие разговоры между ____________________ и его помощником ____________________:
____________________ А вообще-то вы сожгли все вещи?
____________________ Конечно.
____________________ Значит, у вас больше ничего нет?
____________________ Да.
16 июня с. г. всем сотрудникам военного, авиационного и военно-морского атташатов было объявлено распоряжение быть на своих квартирах не позднее 2 часов ночи.
Народный комиссар
государственной безопасности Союза ССР Меркулов
ЦА ФСБ. Ф.Зос. Оп.8. Д.58. Лл.1945-1948. В тексте имеются пропуски. 386"
Взято из сборника документов «1941 год», т.2.
Документ N 573.
Ничего не сделал пребывающий в благодушии безопасности Сталин с Меркуловым. Когда тот прямым текстом заявил ему 18 июня, что «…в ближайшие дни должна начаться война между ними…», имея в виду Германию и СССР. И подобострастный Меркулов, прекрасно зная отношение к теме кровавого Сталина, вполне себе вольготно направил в его адрес этакую бяку. Не опасаясь ни за свою голову. Ни за свою должность.
Нет объяснений у господина Вайманта?
Так откуда они у него возьмутся – у объективного историка.
Зато у него есть вот это.
Еще один отрывок из его «Сталинского разведчика».
"…Леонид Треппер, агент разведки Красной Армии в оккупированной Франции, передал в Москву уточнение даты вторжения, первоначально намеченного на 15 июня. Он сообщил своим контроллерам, что оно произойдет 22 июня. Шульце-Бойзен, руководивший разведывательной сетью в Берлине, 21 июня получил подтверждение, что нападение произойдет на следующий день, и передал его. См.: Trepper, The Great Game…
…Более раннее предупреждение от Зорге – послание от 19 мая, указывавшее, что немцы могут начать наступление в конце этого месяца, вызвало, как говорили, взрыв негодования у Сталина, охарактеризовавшего его как «дерьмо, засевшее в японских борделях и окружившее себя мелкими фабриками»[64]."
Сноска 64 отсылает нас к следующему источнику, из которого стало известно об этом высказывании Сталина:
"…[64] Andrew and Gordievsky, KGB, The Inside Story…"
Нет, вы чувствуете всю прелесть обрисованной Ваймантом ситуации?
Представьте себе. Разведка – дело деликатное. Можно сказать, интимное. Доклады с использованием агентурных данных обычно происходят в очень ограниченном кругу. Чаще всего, один на один.
А господа Ваймант и Гордиевский представляют дело таким образом, что начальник военной разведки выступал перед каким-нибудь переполненным концертным залом. Где и получилось великое множество свидетелей, которые потом, как выразился Роберт Ваймант, "говорили" и даже цитировали (слова даны в прямой речи) точные слова Сталина.
Которые г-н Гордиевский, конечно же, слышал.
Браво, господа Ваймант и Гордиевский.
И, заметим непринуждённый оборот, который применил здесь Роберт Ваймант: «…вызвало, КАК ГОВОРИЛИ, взрыв негодования…»
Маститый ученый попытался доказать свою точку зрения аргументом, сходным с бородатым анекдотом: "Кто говорит? – Все говорят."
Теперь о солидности доказательств Гордиевского.
Гордиевский, по идее, не мог иметь доступа к информации в закрытых архивах центрального аппарата КГБ СССР кануна войны. Просто потому что в СССР в отношении режима секретности существовало железное правило. Выражалось оно в следующем. Если это тебе не надо для конкретной работы, тебе этого знать не полагается. И тебе этого никогда не откроют.
Гордиевскому сведения по предвоенной деятельности советской разведки в практической работе были не нужны. Так как человек он сравнительно молодой, «послевоенный», во всяком случае. Да и невелика птица была – допускать его в святая святых тайных архивов.
Это же только непосвященным кажется, что, раз у тебя есть соответствующий допуск, ты можешь знакомиться с любыми материалами, какими тебе захочется.
Но даже. Даже, если бы Гордиевский каким-то образом такой доступ и получил, то в архивах КГБ этих сведений все равно не нашел бы. По той простой причине, что все документы, связанные с разведывательной деятельностью Рихарда Зорге, хранятся совсем в другом ведомстве. Конкурирующей с разведкой КГБ конторе – Главном Разведывательном Управлении Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР.
Так что по Зорге Гордиевский источник, мягко говоря, никакой.
Но куда же о Зорге – да вдруг без "свидетельства" Гордиевского? Непорядок получается.
Треппер – ну о Треппере я уже упоминал.
Раз Треппер в своих мемуарах сказал, что предупредил про 22 июня – так какие могут быть сомнения?
То, что господин Яковлев А.Н. сотоварищи, при всей мощной поддержке госаппарата, этой радиограммы Треппера про 22 июня тоже не нашли, это не беда.
Потому что у господина Вайманта имеется главный принцип объективного исследования. Заключается он в следующем.
Гордиевский и Треппер – "свои".
Айно Куусинен – "своя".
Потому что они "выбрали свободу".
Потому что они ненавидели и ненавидят "эту страну".
Естественно, их слова не подлежат сомнению.
Действительно. Если мы уж и «своим» не будем верить – какая же это будет объективность?
КОЕ ЧТО О РЕЗОЛЮЦИИ СТАЛИНА
Вот, например, некоторые исследователи особенно любят предъявлять одно из давно известных и ярчайших доказательств правоты этой истины. Его часто и с удовольствием воспроизводят вполне объективные и беспристрастные исследователи, обсуждая то трагическое время.
Накануне войны Сталин получил от советской разведки в Германии следующее сообщение:
"Источник, работающий в штабе германской авиации сообщает:
Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время."
На этом донесении, полученном всего за несколько дней до немецкого нападения, Сталин наложил следующую резолюцию:
«Товарищу Меркулову. Можете послать ваш „источник“ из штаба германской авиации к еб-ной матери. Это не „источник“, а дезинформатор. И. Сталин».
Как говорится, к сказанному добавить нечего. Поскольку документ говорит сам за себя.
Объективно? Вполне. Что здесь, действительно, можно добавить?
Ну, разве что, можно еще добавить ненависть к проклятому и безмысленному тирану – если вспомнить, что автор этого донесения, немецкий патриот Шульце – Бойзен, был позднее казнен нацистами.
Так что, наверное, и правда. Существует на самом деле объективные доказательства всем и давно известных истин.
С этим, правда, не совсем согласуются некоторые другие доказательства. Не такие, правда, убийственные, как вышеприведенное. Но и о них надо бы помнить.
Ежели мы с вами желаем объективности.
Тем более, что, если они не вписываются в давно и беспристрастно сложенную картину, их ведь совсем нетрудно опровергнуть.
Не правда, ли?
Итак.
Давайте начнем с одного события. В августе 1942 года британский премьер Уинстон Черчилль находился с визитом в Москве. В ходе переговоров состоялся у него со Сталиным один примечательный разговор. Вот как сам Черчилль вспоминал о нём в своих мемуарах:
"…Во время одной из моих последних бесед со Сталиным я сказал:
"Лорд Бивербрук сообщил мне, что во время его поездки в Москву в октябре 1941 года вы спросили его: «Что имел в виду Черчилль, когда заявил в парламенте, что он предупредил меня о готовящемся германском нападении?»
«Да, я действительно заявил это, – сказал я, – имея в виду телеграмму, которую я отправил вам в апреле 1941 года».
И я достал телеграмму, которую сэр Стаффорд Криппс доставил с запозданием.
Когда телеграмма была прочтена и переведена Сталину, тот пожал плечами:
«Я помню ее. Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого»…"
Немного иначе по форме, но одинаково по смыслу звучат слова Сталина в протокольной записи советской стороны:
Из записи беседы И. В. Сталина с У.Черчиллем
15 августа 1942 г.
"…Он (Черчилль) предупреждал Сталина о предстоящем нападении на СССР. Первое его сообщение по этому поводу было весьма кратким и имело в качестве своей основы события в Югославии весной 1941 г. В тот день, когда Павел подписал с Гитлером пакт о нейтралитете, немцы издали приказ об отправке трех из пяти танковых дивизий, находившихся на Балканах, в Краков. Немцы начали немедленную погрузку этих дивизий в железнодорожные вагоны. Через десять дней в Югославии произошел переворот и три танковых дивизии были возвращены для действий против Югославии. Когда он, Черчилль, узнал об этой переброске танковых дивизий с Балкан в Краков, он был уверен в том, что Германия нападет на СССР.
Тов. Сталин отвечает, что мы никогда в этом не сомневались и что он хотел получить еще шесть месяцев для подготовки к этому нападению".
АП РФ. Ф.45. Оп. 1. Д.282. Л.57. Машинопись, заверенная копия.
Взято из сборника документов «1941 год», т.2.
Документ N 358.
Так что, как это ни странно, имеется все-таки свидетельство самого Сталина о его отношении к этому вопросу тогда, накануне войны. Сталин в 1942 году сказал, что ещё в апреле 1941 года он не сомневался в том, что Германия нападет на СССР.
При этом, обратите внимание, на следующее обстоятельство. Речь идет не о том, что Сталин был уверен, что немцы нападут, самое раннее, через полгода (как в этом убеждают нас объективные исследователи). Речь идет о том, что Сталин был уверен в немецком нападении. Но прилагал усилия и надеялся на то, чтобы переиграть немцев и выиграть эти самые полгода. Отодвинуть войну.
Семантическая тонкость – а как разительно меняется смысл всей этой ситуации…
Можно, конечно, предположить, что в 1942 году Сталин решил покрасоваться перед Черчиллем. И соврал, что он-де не сомневался в немецком нападении.
Тем более, что, все мы прекрасно знаем, что дело обстоит как раз в обратном.
А именно.
Сталин не верил в немецкое нападение.
Сталин жестоко карал за саму постановку вопроса о немецком нападении. Его замордованное, забитое окружение старалось перед ним этот вопрос не поднимать, опасаясь за свою жизнь.
Это все знают. С этим все согласны. Это одна из аксиом общественного сознания на протяжении вот уже целого полувека.
Между тем.
После крушения в России коммунистического режима несколько приоткрылся доступ в ранее напрочь засекреченные архивы. И стали выясняться поистине удивительные вещи.
И выясняться, кстати, самым неожиданным образом.
Что я имею в виду?
Естественно, пришедшие к власти после 1991 года люди вовсе не были настроены искать какие-то документы, противоречащие этой основополагающей аксиоме.
Наоборот. Получив в свои руки всю совокупность секретных архивов, они стали искать подтверждения ей.
Ярким примером этого явилась публикация документов о периоде, предшествовавшем Великой Отечественной войне.
Я имею в виду знаменитый двухтомный сборник документов «1941 год» (иначе называемый, в просторечии, «Малиновка»). Этот капитальный труд был издан в 1998 году международным фондом «Демократия», под общей редакцией академика (и бывшего члена Политбюро) А.Н. Яковлева.
Впрочем, издание, действительно, весьма ценное. Хотя бы в силу огромного количества важнейших документов, впервые представленных на обозрение читающей публики.
Так вот.
Представленное в этом сборнике обилие документов советской разведки и должно было показать – вот сколько раз Сталина предупреждали.
А он, тупица, все равно этому не поверил.
Но, вместе с тем, вся совокупность опубликованного обилия развединформации, докладывавшейся тогда Сталину, неожиданно показала внимательному читателю нечто совсем другое. Обратное утверждаемому (утверждаемому между строк, естественно, поскольку это сборник документов, а не исследование).
Она показала, что данные о готовящемся немецком нападении докладывались Сталину регулярно. И он, как это ни странно, никого и никогда по поводу представленных ему сведений не наказывал. Не обрывал (как нас уверяли) «провокационные домыслы». Не заставлял замолчать по этому поводу раз и навсегда.
Другими словами, молча (как минимум, молча) поощрял докладывать ему по этому поводу снова и снова.
Откуда это известно?
А вот, из самого этого обилия регулярно докладываемой ему информации. Оно же существует. Значит, никто его, это обилие, не прерывал?
Посмотрите, что получается.
Докладываемые ему сведения противоречат его взгляду на обстановку. Значит, какими он их должен считать? Правильно, ложными. Провокационными, если угодно.
Кстати, как раз об этом и говорят нам в один голос объективные исследователи.
Сталин не верил героическим советским разведчикам. И считал их донесения ложными и провокационными.
Только имеется в этом некоторая странность. Которую объективные исследователи старательно не замечают.
Сделаем это за них. Заметим эту странность.
Ведь как должен был поступить неограниченный тиран, уверенный, что ему докладывают ложные и провокационные данные?
Неограниченный тиран должен был однажды поставить начальника разведки по стойке «смирно» и спросить его тихим бесцветным голосом:
"Товарищ Голиков, вы все время докладываете нам ложные разведывательные данные. Ни одному из донесений, доложенныму вами, верить нельзя. И мы им не верим. Нас не так легко обвести вокруг пальца. Но вы упорно продолжаете нам их докладывать. Скажите, почему вы это делаете? Зачем вам надо вводить в заблуждение партию и правительство? В чем заключен ваш личный интерес? Поскольку интересам советского государства ваши доклады конечно же противоречат?"
Но не спросил об этом Сталин у генерала Голикова.
Потому что, если бы спросил, доклады такого рода прекратились бы моментально. Никто не сомневается?
Между тем, сведения эти продолжали исправно Сталину докладываться.
Но, если он этого не сделал, то получается совсем другой вывод.
Получается, что он эти донесения, как минимум, читал. И принимал к сведению (поскольку не запрещал "докладывать ему эту чушь").
То есть, считал эти сведения достойными внимания главы государства.
Тогда что же интересовало его в этих донесениях?
И откуда вообще появилось мнение, что он им "не верил"?
Думаю, что, когда имелась в виду реакция Сталина на некоторые документы, доложенные ему по линии разведки, произошла подмена понятий.
О, ну конечно же, совсем не сама собой произошла, но этой темы мы касаться здесь и сейчас не будем.
Говоря о реакции Сталина на сообщения разведки (в частности, его знаменитые резолюции на документах), авторы, высказавшиеся по этому поводу, имели в виду то общеупотребимое мнение, что именно так Сталин реагировал на саму постановку вопроса о возможности нападения Германии на СССР.
Дескать, Сталин до последнего не верил в саму возможность немецкого нападения. Отсюда и его реакция. Тот, кто утверждает, что Германия готовит нападение на СССР, тот пошел «к еб-ной матери».
Между тем, сегодня мы знаем обстоятельство, прямо опровергающее это утверждение.
Я имею в виду массовую переброску советских войск к западным границам СССР накануне войны.
Переброску такого масштаба, что без войск остались почти все внутренние военные округа Советского Союза.
Первым на это обратил внимание небезызвестный Резун (пишущий под псевдонимом Виктор Суворов).
Его теория общеизвестна – Сталин готовил нападение на Германию, которое должно было начаться на рассвете 7 июля 1941 года.
Я думаю, что надо отдать ему должное в самой постановке вопроса о переброске советских войск на Запад. По крайней мере, в том, что получил он такой огромный общественный резонанс.
Однако, сегодня, в общем-то, очевидно (для политически неангажированных людей, естественно), что эта теория не состоятельна. Поскольку построена на совокупности великого множества фактических ошибок, логических нестыковок, а где-то, и откровенных подтасовок.
Чувствуется, что уж очень хотелось ему обосновать именно этот, так привлекающий его вывод.
Вместе с тем, его адепты обычно приводят один, самый последний, неотразимый, по их мнению, довод, защищающий его теорию. Последний, так сказать, рубеж обороны.
Заключается этот довод в следующем.
Хорошо, вы все время ловите Суворова на мелочах. Хорошо, вы поймали его на нескольких ошибках (нестыковках, подтасовках). Но это не отменяет в его теории самого главного – факта массовой переброски войск. А раз так, что он прав в главном. Раз войска перебрасывались в таких масштабах, значит, Сталин готовил нападение.
Иначе, если эта переброска войск не была связана с планами нападения СССР на Германию в июле 1941 года, значит, она не имеет логического объяснения вообще.
Вот именно здесь-то и сложилась забавная ситуация. Ситуация, связанная с логической слепотой.
Потому что ответ-то, на самом деле, лежит на поверхности.
Да, войска, действительно, перебрасывались.
Да, они перебрасывались в масштабах, подразумевающих исполнение какого-то масштабного решения.
И, если решение это не предусматривало немедленного нападения на Германию, то объяснение может быть совершенно другим. Я понимаю, что невероятным для определенного рода людей. Но от этого не перестающим быть очевидным.
Анализ опубликованных до сегодняшнего дня документов дает основание полагать, что Сталин вовсе не исключал возможность немецкого нападения. Да, он не считал его, видимо, до определенного момента, неизбежным. Но и не исключал такую возможность напрочь.
Вот, посмотрим, например, всего один документ.
"ДИРЕКТИВА НКГБ СССР НАРКОМУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР МЕШИКУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЗВЕДДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯМИ ГЕРМАНИИ
N 2177/м
9 июня 1941 г.
Сов. секретно
Условия современной обстановки выдвигают перед всеми разведывательными органами Советского Союза, в качестве главнейшей задачи, выяснение всех вопросов, связанных с подготовкой войны против СССР и в первую очередь со стороны Германии.
Поэтому в Вашей разведывательной работе, в качестве задачи на ближайшее время, должно быть выяснение следующих вопросов:
1. Общая численность взятого в германскую армию контингента и его возрастной состав с распределением по сухопутным войскам, войскам СС и СА, воздушным силам, резервной сухопутной армии и морскому флоту.
2. Организационно-штатная структура отдельных германских войсковых соединений: пехотных дивизий, танковых дивизий, тяжелых танковых дивизий, моторизованных дивизий, горнострелковых дивизий, дивизий воздушной пехоты, парашютных дивизий, корпусной артиллерии, артчастей резерва главного командования, зенитных корпусов и зенитных дивизий, авиационных корпусов и авиационных дивизий, химических частей.
3. Среднемесячная производительность и производственная мощность отдельных германских заводов, выпускающих танки, броневики, боевые самолеты, орудия (по типам – полевые, противотанковые, тяжелые и зенитные), пулеметы (ручные, станковые и для ВВС), порох, взрывчатые и отравляющие вещества.
4. Какие новые образцы приняты за вторую половину 1940 г. и в 1941 году на вооружение в германской армии; танки, авиационное и артиллерийское вооружение. Особенно важно выявить по танкам: максимальную толщину и силу сопротивления брони, типы танков с максимальным весом и вооружением и количество танков весом от 45 тонн и выше.
По ВВС особенно важно выяснить: максимальную скорость новых и модернизированных истребителей и бомбардировщиков, максимальные мощности моторов, максимальные дальности истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов, максимальную бомбовую нагрузку и самолеты с наиболее мощным пушечным вооружением.
5. Дислокация штабов немецких армий и штабов армейских групп на всех театрах военных действий Германии против СССР, в частности проверить наличие штабов армий и их нумерацию в Варшаве, Люблине; в районе Замостье – Красностав – Янов; в районе Тарнов – Лембица, Бохня; в районе 336 Закопане – южнее Кракова 75 км; в районе Лодзь – Спала (быв. резиденция Мосдицкого), Краков.
6. Установить количество немецких дивизий и корпусов к востоку от реки Одер, т.е. от линии Моравская – Острава – Бреслау – Штеттин. При этом особенно важно выявить состав войск в районах Ченстохов, Катовице, Краков, Лодзь, Познань, Бреслау; Познань, Франкфурт (на Одере), Бреслау.
7. Детальные данные по строительству укрепленных районов против СССР и аэродромных узлов, особенно подземных ангаров к востоку от реки Одер до нашей границы, на территории Словакии, Венгрии и Румынии. При этом особенно важно получить данные по состоянию укрепленных районов в пограничной полосе по реке Висле (Варшавский УР, Демблинский УР) и по рекам Прут и Серет (Молдавия).
8. Планы военных операций против СССР (в любой форме: документальной, в высказываниях и т.д.).
9. Суточная пропускная способность железных дорог к востоку от р. Одер до нашей границы от Мемеля до Карпатской Украины.
При даче заданий агентуре необходимо учитывать район, в который агент направляется или находится и его возможности по сбору разведданных.
Во избежание провала агентуры и расшифровки нашего интереса к упомянутым вопросам, следует избегать давать одновременно одинаковые задания нескольким агентам.
Все добытые разведывательные данные, по этим вопросам, направлять в 1-е Управление НКГБ СССР.
Зам. народного комиссара
государственной безопасности СССР Кобулов
ЦА ФСБ РФ. Ф.З. Оп.8. Пор.373. Лл. 133-135. Машинопись, незаверенная копия. Имеются пометы."
Взято из сборника документов «1941 год», т.2.
Документ N 531
Отвожу заранее возражения, заключенные в том, что эти-де меры предпринималось для подготовки нападения на Германию.
Потому что, если бы такое нападение действительно планировалось, тем более на июль 1941 года, подобный круг вопросов разведка должна была начать освещать значительно раньше. За полгода, а то и год. А не 9 июня, фактически в пожарном порядке.
Начать изучать организационно-штатную структуру германских войсковых соединений (как и прочие интересные вещи) за месяц до ДАВНО планируемого нашего вторжения, это несколько поздновато получается.
Направленность изложенного в документе круга вопросов говорит сама за себя – выявить признаки и любые подробности готовящегося нападения Германии.
Понятно также, что такие масштабные задачи советской разведке не могли ставиться без ведома Сталина. Не уровень это был Кобулова, говорить за «все разведывательные органы Советского Союза». В СССР этих разведок было, как насчитал М. Мельтюхов, аж не менее пяти штук.
И задачи эти ставились, исходя из соображений, изложенных в преамбуле.
Повторю.
"Условия современной обстановки выдвигают перед всеми разведывательными органами Советского Союза, в качестве ГЛАВНЕЙШЕЙ задачи, выяснение всех вопросов, связанных с ПОДГОТОВКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ". (выделено мной – В.Ч.)
Я думаю, нет необходимости гадать, кто персонально имел право (и возможность) ставить задачи «перед всеми разведывательными органами Советского Союза»?
Так что, даже из одного этого документа непредубежденный читатель увидит, что высшее советское руководство вовсе не исключало возможности немецкого нападения.
И не просто не исключало.
Но и реагировало. Самым масштабным образом реагировало.
Совершенно очевидно, что массовая переброска войск к западным границам и была реакцией Сталина на наращивание немецкой группировки против СССР.
О которой, в том числе, предупреждала его наша разведка.
Такой же мерой была мобилизация (под видом краткосрочных сборов приписного состава запаса) накануне войны 800 тыс. человек. И все они были направлены только в западные военные округа. А это, не много, ни мало – двадцать процентов общей численности РККА накануне войны. Не шутки.
Поэтому, когда сегодня мы слышим сетования о том, что Сталин не верил нашей разведке, когда она сообщала ему о намерениях Германии, можно ответить так.
Уважаемые, протрите глаза.
Как же он не верил, если чуть ли не всю Красную Армию двинул ближе к западным границам СССР?
Другое дело, что делал он это, как писал об этом впоследствии фельдмаршал Манштейн, «на всякий случай». Поскольку, все еще не знал тогда окончательно, блефует Гитлер или нет. Если нет, то до какой степени обострения отношений с СССР он готов пойти? Готов ли он на полномасштабную войну? Или речь идет о демонстрации силы? О попытке путем ультиматумов добиться у Сталина уступок?
Например, возврата Бессарабии Румынии? Вывода советских войск из Литвы? Присоединения к державам Оси, наконец?
О такой возможности, кстати, его тоже предупреждали некоторые донесения советской разведки.
Во всем этом Сталину нужна была точная информация по самому главному вопросу.
Этот вопрос заключается в следующем.
Если Гитлер все же решился на нападение, то должна была быть определена его точная дата.
Знание ее ведь нужно не только (и даже, не столько) для того, чтобы быть готовым к отпору на военном уровне.
Одно только знание того факта, что эта дата точно определена, уже дает руководству государства сигнал о том, что противник действительно решился на полномасштабную войну.
Оно дает осознание неизбежности нападения.
Однако, надо признать, что немцы в 1941 году провели совершенно уникальную по масштабам операцию по дезориентации своего противника.
Дезинформацию целенаправленно Зорге (как и другим разведчикам) никто не подсовывал. Немецкое командование рассуждало и действовало просто. Оно понимало, что выявить всю советскую агентуру (чтобы подсовывать каждому конкретному агенту «дезу») невозможно. Поэтому они поступили просто. И гениально.
Они провели массированную и долговременную акцию слива этой дезинформации как можно более широкому кругу германских ответственных и не очень государственных служащих, чиновников и, главное, офицеров.
Пусть эти самые неизвестные советские агенты сами, в поте лица добывают у них эту дезинформацию.
Они и добывали.
Классический вброс дезинформации предусматривает разбавление подбрасываемой неправды полуправдой и – обязательно – правдивой информацией. Иначе, кто этой неправде поверит?
Эта истина ведома, естественно, не только нам с вами. Намного лучше нас о ней знают профессионалы.
Поэтому, когда в сообщении, наряду с правдивой информацией встречается очевидная несуразица, профессионал обязательно насторожится. По крайней мере, он просто обязан отнестись в таком случае ко всей информации, заключенном в этом сообщении, с подозрением.
На этом-то и сыграла немецкая разведка.
Попадающиеся в разведдонесениях по-настоящему ценные сведения были погребены под массой откровенного вымысла. Кстати, зачастую легко проверяемого. Как и было задумано.
Игра эта была проведена виртуозно и, безусловно, талантливо. Думаю, она еще не совсем и не всеми до конца оценена сегодня.
Именно отсюда происходит нервная реакция Сталина на донесения советской разведки. Не на то, что Гитлер вот-вот нападет. Это он уже знал и принимал во внимание, передвигая войска к границе.
Его реакция, судя по всему, была вызвана донесениями, полными противоречий о сроках немецкого нападения. Поскольку, действительно, сама эта разноголосица, когда назывались множество разных сроков (которые не сбывались), наводила на мысль о тонкой работе чьей-то разведки по вбросу дезинформации.