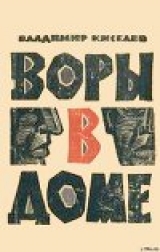
Текст книги "Воры в доме"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Глава сорок восьмая,
которая называется «Если увидишь гадину…»
Мой отец, да помилует его аллах, говорил мне: «Всякую хорошую вещь, какого бы то ни было рода, можно оценить известным количеством дурных вещей такого же рода. Например, одна хорошая лошадь стоит сто динаров, а пять скверных лошадей стоят вместе сто динаров. Это относится и к верблюдам и к разным одеждам, но не к сынам Адама, так как тысяча негодных людей не стоит и одного хорошего человека». И он был прав, да помилует его аллах.
Усама ибн Мункыз
– Вот мы, наконец, и встретились, – спокойно и негромко сказал генерал Коваль, вставая навстречу мулло Махмуду. – Прошу. – Он показал рукой на круглый столик со стеклянной крышкой, проводил к нему мулло Махмуда и сам сел против него, откинувшись на спинку кресла.
Вот он и сидел перед ним, этот Причардс, граф Глуховский, мулло Махмуд. Тихий, усталый, старый человек.
«Это страх сделал его таким, – думал Степан Кириллович. – Постоянный страх, который он переживал эти годы, надел на него эту личину, постоянная боязнь попасться сделала его таким смиренным. Мне знакомо это спокойствие. Спокойствие человека, который всегда боялся, что попадется, и, наконец, попался. Когда человек очень долго ждет плохого, он часто испытывает облегчение, если это плохое совершается. Это страх сделал его таким».
«Знает ли этот человек, что он опасно болен? – думал мулло Махмуд. – Что у него плохо с сердцем. А возможно, и с почками. Что такие мешки под глазами, и такая дряблая кожа, и такая одышка бывают у людей, когда никто уже не может поручиться, что завтра утром они поднимутся с постели. Что ему нельзя работать. Трудно, видимо, ему жилось, если он стал таким. Я видел это когда-то и у наших контрразведчиков. Очевидно, все то же постоянное чувство страха – кого-то пропустил, чего-то не успел, кому-то не угодил. И высокое начальство, которого такие люди боятся больше, чем врага. Это все страх».
– Как ваше здоровье? – спросил Степан Кириллович.
– Благодарю вас, – едва заметно усмехнулся мулло Махмуд. – Трудно ожидать хорошего здоровья в моем возрасте и моем положении.
– Я пригласил вас для предварительной беседы, – сказал Степан Кириллович. – Это не допрос. Мне просто хотелось поговорить с вами для того, чтобы понять не столько степень вашей вины, сколько степень нашей вины – почему мы так не скоро встретились.
Все в этих словах было неправдой. Он не приглашал мулло Махмуда. Его просто привел конвоир. И каким бы словом ни называть разговор между чекистом и схваченным им разведчиком – «беседой», «аудиенцией» или еще каким-нибудь, – это всегда допрос. Но Степан Кириллович проводил мулло Махмуда не к своему письменному столу, а к круглому столику со стеклянной крышкой. Он не собирался включать звукозаписывающее устройство.
– Я ничего не собираюсь скрывать, – ответил мулло Махмуд. – Я готов ответить на любой ваш вопрос независимо от того, будет ли сразу или только впоследствии записан мой ответ.
Лицо его оставалось неподвижным, спокойным, усталым, но он улыбнулся про себя, соображая, где в этом кабинете может находиться магнитофон, который сейчас фиксирует каждое его слово.
– Так вот, – сказал Степан Кириллович, подвигая папиросы и пепельницу мулло Махмуду, – нашу беседу я хотел бы начать с вопроса о том, почему вы решили добровольно сообщить о себе и своей деятельности органам контрразведки.
Степан Кириллович опустил глаза на стол, чтобы не вспугнуть эту старую лису, чтобы не показать, как заинтересован он в ответе, от которого зависело очень многое. Если Причардс согласится с тем, что хотел сдаться добровольно… Если не сознается, что был вынужден так поступить, потому что почувствовал, что попал в капкан, – значит он будет отпираться до конца…
– Благодарю вас, но я не курю, – ответил мулло. – Я сознаюсь, что, хотя и ждал этого вопроса, ответить на него мне трудно… Полтора века назад честный и добрый американец Томас Джефферсон говорил о своей стране: «Наше правительство никогда не имело у себя на службе ни одного шпиона». Очевидно, нравы людей с тех пор очень переменились. Очень переменились, если шпионы стали чуть ли не одной из Крупнейших статей правительственных расходов… Долгое время мне казалось, что без этого не обойтись, что это такая же неизбежная особенность современного общества, как парламент, как автомобили и футбольные состязания. И только впоследствии я понял, что ошибался…
Степан Кириллович подтверждающе кивнул головой и поднял глаза от стола.
– Я с вами совершенно согласен, – сказал он мягко и любезно.
Ему предстояла продолжительная, трудная и ответственная работа. Он уже не сомневался в том, что человек этот будет запираться до конца, будет хитрить и изворачиваться. А впрочем, чего можно было ожидать от шпиона, способного в таком возрасте точным и сильным ударом ножа по затылку убить своего сообщника и сбросить труп в речку… Теперь уже не имели значения ни вопросы, какие он задаст, ни ответы, какие получит. Больше того, неосторожный вопрос мог только повредить…
С видом крайнего простодушия, с грубоватой генеральской прямотой Степан Кириллович спросил:
– Желанием исправить эту ошибку и следует считать ваши письма о самонаводящихся ракетах?
На лице мулло Махмуда не дрогнула ни одна черточка.
«Значит, этот человек знал, куда попадут его письма», – подумал Степан Кириллович.
– Для меня большая неожиданность, что письма попали к вам, – сказал мулло Махмуд. – Я не думал, что их содержание может заинтересовать вас… Но, во всяком случае, писал я их с искренним желанием помочь по мере моих сил удержать то равновесие, которое установилось в соотношении между военной мощью держав двух противоположных лагерей.
«О майн готт, варум зо гросс ист дайн тиргартен?» – произнес про себя Степан Кириллович фразу, которую часто повторял его шофер в Испании, немец со странной фамилией Карои. – «О господи, почему так велик твой зверинец?..» Если даже платный агент пытается выдать себя за спасителя.
Ему страшно хотелось спросить у этого «спасителя»: «А с какой целью вы убили своего сообщника?» Тоже во имя того, чтобы на земле воцарился мир и в человецех благоволение? Но этого нельзя было сейчас делать, прежде всего нужно было прочесть, что он сам напишет об этом. Степан Кириллович привычно удержал себя от мстительного чувства и неосторожного вопроса.
– Спасибо, – сказал он, поднимаясь с кресла. – Я признателен вам за искренность. Теперь вам дадут бумагу и перо, и вам придется написать свою биографию. Пусть вас не смущают подробности – все они нас интересуют. Чем подробнее вы расскажете о своей деятельности на нашей территории, тем полезнее это будет прежде всего для вас…
– … Еще раз от души поздравляю вас, – сказал Степан Кириллович, выходя из-за стола и пожимая руку Шарипову. На этом и закончилась официальная часть беседы. – Прошу, – Степан Кириллович показал рукой на низенькое кресло перед столиком со стеклянной крышкой, – выпьем же за подполковника Шарипова, – он налил полный бокал Шарипову и плеснул немного вина на дно своего бокала. – Курите, курите, хоть сам я, как вы знаете, давно не курю, а люблю запах табачного дыма в кабинете… Как-то уютней.
Шарипов опустился в кресло, приподнял бокал: «Ваше здоровье!» – отпил глоток «Гурджаани» и закурил.
– Горько, что Ведин не дожил, – продолжал Степан Кириллович, – он бы порадовался вместе с нами. Он спрашивал у меня, скоро ли вы получите подполковника.
– Ведин не успел порадоваться даже своему званию подполковника, – ответил Шарипов.
– Да, не успел. Он не успел. И никогда не забывайте о том, кто и за что его убил. Не смейте забывать! – Степан Кириллович смотрел на Шарипова пронзительно и зло. – Память человеческая так устроена, что она очень многое отбрасывает. Но мы обязаны знать, что именно следует твердо помнить…
Степан Кириллович отпил глоток вина и откинулся в кресле, вытянув ноги вперед.
– Помнить – мстить, – негромко возразил Шарипов. – А мы не можем унижаться до мести.
– До мести не всегда унижаются. До мести иногда возвышаются. И мы ничего не простим. Нет у меня – видит бог – мстительного чувства к этому Причардсу – мулло Махмуду. Но человек этот, каким бы благеньким он сейчас ни представлялся, – мой враг. А человек, которого убили его сообщники, – Ведин – мой друг. И Ведина ничем не заменить.
«Ведина ничем не заменить, – думал Шарипов, возвращаясь в свой кабинет. – Но и никого другого нельзя заменить. Потому что каждый неповторим. Ведина никем не заменить.
Я, которого поставили на его место, на этом месте, может быть, его и заменю. В чем-то я буду хуже. А в чем-то и лучше… Ну, а в жизни?.. А для Зины?..»
Он сел за свой стол, пустой, свободный, крытый зеленым сукном, похожий на поле аэродрома, – ни одной бумажки, только высокая лампа, как аэродромный маяк.
Степан Кириллович предложил ему перейти в кабинет Ведина. И, не дав возразить, жестко добавил: «Это не пожелание. Это распоряжение».
Он последний раз сидел в своем кабинете. В конечном итоге он всегда делал то, что хотел Степан Кириллович. Во всем, даже с Ольгой. За эти годы тысячи раз – на каждом шагу – он убеждался, что думают он и Степан Кириллович по-разному. А поступают одинаково.
«Но ведь в последнее время Степан Кириллович очень переменился, – думал Шарипов. – Это несомненно. Но не только он. Переменился и я. И все вокруг. Но не во всем. В чем-то главном, в чем-то основном мы остались прежними. А он еще больше, чем другие. Потому что он яснее, четче, жестче, чем многие другие, определил для себя, что следует помнить. А о чем можно и забыть. И это, вероятно, и лежит в основе теории поведения, теории поступков…»
Глава сорок девятая,
которая называется «И снится страшный сон Татьяне…»
Кто не помнит прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вторично.
Джордж Сантаяна
Тане приснился странный сон, будто бы Володя Неслюдов, совсем как гора, толстый и громадный, в генеральском мундире с такими эполетами и кистями, какие она видела на картинах, изображавших царских генералов, сидит за каким-то столом с блестящей крышкой, словно сделанной из полированного металла, и записывает что-то в толстую книгу с пергаментными листами. Он один за этим столом. Один. Но Таня видит, что он записывает в книгу и знает, что с того времени, когда она жила, прошла уже тысяча лет. Слово за словом возникало перед ней в этой книге, как титры кинофильма: «… а так как люди тогда воевали и убивали друг друга, а между тем лично друг к другу воевавшие никакой вражды не испытывали, то из этого следует логический вывод, что они были людоедами и питались, пожирая убитых, о чем также свидетельствуют кости, найденные при раскопках…»
Ей хотелось сказать, что это не так, но она никак не могла вспомнить во сне, для чего же люди действительно убивали друг друга. Она проснулась с тяжелым чувством человека, который ночью не отдохнул, – ломило в висках, и почему-то болели икры, как бывает, когда проведешь целый день на ногах.
«Какая глупая чушь», – подумала она о своем сне и повернулась к окну. Существовала такая примета, которую она усвоила от своей няни еще в детстве, – если снился плохой сон, нужно было посмотреть на окно, на свет, и сказать: «Куда ночь, туда и сон». И сон сразу забывался. Она много раз убеждалась в действенности этого способа, и, когда уже стала взрослой, даже пыталась расспросить о том, почему так получается, у видного физиолога профессора Сироткина, который был однажды у них в гостях. Но тот только развел руками и сказал, что никогда об этом не слышал.
Но сейчас сон не забывался, и вспоминались все новые подробности, и ломило в висках. Очевидно, она слишком поздно сказала «куда ночь, туда и сон».
Таня вспомнила и без того небольшие, уменьшенные стеклами очков, голубовато-серые, умные и добрые глаза Володи, его необыкновенную деликатность, из-за которой он даже часы носил на внутренней стороне руки, чтобы всегда можно было незаметно, так, чтобы нечаянно не обидеть этим жестом собеседника, посмотреть на них, и подумала о том, как не вяжется приснившийся ей судья с генеральскими эполетами с образом живого Володи.
«И все-таки при всей своей скромности и деликатности именно Володя и является судьей», – думала Таня.
«История – память человечества», – говорил Володя. Когда Таня была маленькой, отец ее часто повторял: «Никогда не лги, и тебе не придется ничего запоминать». Этот принцип, действительно очень хороший в быту, в отношениях людей между собой, мог бы оказаться необыкновенно плодотворным и в области исторической науки. Но, к сожалению, как заметил Володя, самая значительная, самая основная часть работы историка состояла именно в том, чтобы отделить правду от лжи, а сделать это подчас бывало не только трудно, но и почти невозможно.
Через несколько дней после смерти Ведина – Ольга плакала, и, как показалось тогда Тане, не только потому, что так трагически погиб ее знакомый Ведин, но и потому, что между Шариповым и Ольгой произошла какая-то размолвка, – Шарипов навестил их. Он был, как всегда, сдержан, улыбался, и все же в его словах часто прорывалась какая-то прежде незаметная в нем раздражительность и недоверчивость.
И вот тогда-то между Володей и Шариповым и произошел этот спор о том, могут ли историки отделить правду от лжи.
– Никто не знает и не узнает никогда, что же в самом деле думал Бабек перед смертью, – сказал Шарипов. – Никто. И когда вы говорите, что он думал так-то, то вы ставите себя на его место и думаете как вы, а не как он.
– Но ведь речь идет не о мыслях, а о поступках, – возразил Володя. – О том, чтобы отделить поступки, которые он совершал в действительности, от тех, которые ему приписывались.
– Не столько о поступках, сколько об их истолковании, – подчеркнул Шарипов. – А это далеко не одно и то же.
– Но истолкование может базироваться только на достоверном знании поступков, – ответил Володя. – Можно привести множество примеров, когда историческим личностям приписывали, а еще чаще они приписывали себе поступки, которых не совершали…
И Володя рассказал о том, как более трех тысяч лет историки считали победителем в знаменитом сражении при крепости Кадеж египетского фараона Рамсеса Второго. И только к середине столетия историкам удалось доказать, что исходом этой битвы в действительности было поражение Рамсеса. Рамсес, как, впрочем, и многие другие правители-деспоты, которые с древнейших времен обыкновенно сами определяли, что считать правдой, безмерно восхвалялся в надписях, высеченных на скале, сделанных на стенах храмов и на папирусах, надписи эти пели ему хвалу как победителю. Он очень заботился о культе своей личности. Но, как доказали современные ученые, инспирированные им сообщения являлись чистейшей фальсификацией истории.
– И все-таки как бы ни заставляли людей из тех или других соображений запоминать неправду, а правда становится известной, – с неожиданной торжественностью заключил Володя.
– Становится, – отрезал Шарипов. – Но чаще всего слишком поздно.
– Для истории никогда не бывает «слишком поздно» узнать правду. Да и для отдельного человека, пожалуй, тоже, – задумчиво добавил Володя. – А что до истории, то правда всегда перевесит любую, самую мощную ложь. Как это было с Прокопием Кессарийским…
И он стал рассказывать о Прокопии Кессарийском – историке Византии шестого века нашей эры, который написал классический труд в восьми книгах об истории войн Юстианиана с персами, вандалами и готами. Но в конце жизни он оставил еще одну маленькую рукопись, получившую название «Тайная история». Он начал ее такими словами: «… Описывать все как следует раньше было мне совершенно невозможно, пока были еще живы вершители всех этих дел. Ведь сделать это незаметно при том множестве шпионов, какое тогда было, для меня не представлялось возможным, а уличенный, я неизбежно должен был погибнуть самой жалкой смертью: ведь в этом случае я не мог полагаться даже на самых близких своих родных». И эта маленькая рукопись перевесила все восемь книг прославленного исторического сочинения.
«Никогда не лги, и тебе ничего не придется запоминать», – вспомнила Таня. – Но людям нужно знать, что именно следует помнить. Знать, что именно нужно помнить из огромного, состоящего из бесчисленных подробностей свода истории человечества. И это должны сказать историки. Но при этом, – думала Таня, – необходимо, чтобы историки не боялись говорить правду, чтобы они никогда не думали, что «в этом случае я не мог полагаться даже на самых близких своих родных». И не только историки, – думала Таня. – Все люди».
Ей снова вспомнился странный ее сон, Володя в генеральском мундире, и она подумала, что так удивительно перевоплотился Володя в ее сне, возможно, из-за этих своих слов, которыми он закончил спор с Шариповым, слов, которые звучали тогда в его устах с несвойственной ему горячностью и силой.
«Володя, – подумала Таня. – Володя. Если только действительно существует передача мыслей на расстоянии и она зависит от силы чувства, он сегодня вернется…»
Никогда в жизни и никого в жизни не хотелось ей так страстно увидеть, как Володю, никогда и ни с кем не переносила она так тяжело и нетерпеливо разлуки. Он был ей нужен. Он был ей очень нужен. И не только ей. Машеньке. Машенька вечером спросила нетерпеливо и строго: «Когда же приедет дядя Володя?» Анне Тимофеевне. «Нужно будет обязательно спросить об этом у Владимира Владимировича», – сказала мама о чем-то таком, что легко можно было бы выяснить и без Володи. И даже Ольга, которая, как думалось Тане, вела себя в последнее время очень странно, в разговоре часто вспоминала об Аксенове и, кажется, виделась с ним, сняла и скатала ковер, подаренный Шариповым, а вчера спросила у Тани, скоро ли вернется Володя, – она хотела посоветоваться с ним по какому-то делу.
Сегодня в театре был свободный день – Таня не спеша оделась, выбрав платье поскромнее, и снова поймала себя на странном бабьем чувстве, когда не хочется надевать нового платья без него. И когда все интересное, чтобы ты ни увидела, жалко смотреть без него.
С удивлением она поняла, что уже всю жизнь, когда Володя уйдет в библиотеку, она будет ощущать разлуку и будет волноваться, если он задержится, и, когда она будет играть в спектакле, все равно она будет ощущать разлуку, и что покойно ей будет только тогда, когда Володя будет рядом с ней. Совсем рядом. На расстоянии вытянутой руки. А иногда еще ближе…
Они вернулись в город вечером, в сумерки. Они очень устали, потому что последнюю часть пути, не сговариваясь, проехали без отдыха, и Володя удивлялся про себя тому, что настроение ослов удивительным образом совпадало с настроением их хозяев, – он прежде даже не предполагал, что ослы без всякого понукания могут бежать так быстро и неутомимо. «Дело в том, – думал Володя, – что все мы возвращаемся домой».
Он знал, что поездка эта была для него очень важной, что она принесла ему много пользы и что еще много раз он будет уезжать от Тани и в экспедиции и на научные конференции, но ему всегда нужно будет, чтобы она его ждала. Чтобы она всегда его ждала.
Они ехали по тихой окраинной улочке вдоль Душанбинки, затем повернули к центру. Ишаки – один за другим, впереди Кафир с Николаем Ивановичем, а за ним Дон-Жуан с Володей – бежали вдоль тротуара, и Володя подумал, что самым опасным этапом их путешествия были, очевидно, не горы, а город: мимо проносились автомашины, и Володя все время опасался, как бы коварный Дон-Жуан не понес его вдруг под самосвал. Но Дон-Жуан, по-видимому, был полон тех же опасений и жался к арыку, отделяющему тротуар от проезжей части.
На перекрестке их задержал милиционер-регулировщик – молодой высокий русский парень, в голубой рубашке с темным галстуком. Он поднял руку: «Стой!» И когда они с трудом удержали ишаков и спешились, подошел и не слишком любезно спросил:
– Куда едете?
– Домой, – добродушно усмехнулся Николай Иванович.
– Почему вы это… – милиционер не сразу сумел объяснить, что побудило его задержать странных всадников. – Почему вы верхом, на ослах…
– Так нам удобнее, чем пешком, – сказал Володя.
– Предъявите документы! – решительно потребовал милиционер.
Николай Иванович сразу достал из кармана свои документы, а Володе пришлось еще некоторое время их искать.
– Извините, граждане, – сказал милиционер, просмотрев их бумаги. И, не глядя на них, добавил: – В центральной части города вечером лучше на ишаках не ездить. Движение большое. – Слова его звучали не очень убедительно.
Николай Иванович и Володя переглянулись и продолжали путь.
«Неужели, – думал Володя, – это в самом деле результат истории с мулло Махмудом, которая успела уже докатиться и до этого милиционера и сразу же вызвала повышенную подозрительность? Может быть. Может быть, потому, что ничто не проходит бесследно. Как не прошла бесследно и для меня встреча с мулло Махмудом. Я тоже стал недоверчивее, чем был до этого… Но все равно те, кто посылал к нам мулло Махмуда, как бы они ни старались, уже не смогут снова превратить нашу эпоху в эру недоверия. Потому что недоверие всегда зиждется не столько на внешних причинах, сколько на внутренних. И милиционер этот, который, возможно, действительно слышал о мулло Махмуде и стал подозрительнее, чем был прежде, проверив наши документы, почувствовал неловкость за свое недоверие… И в этом признак времени».
Они подъехали к дому, спешились и ввели ослов во двор. Они хотели сперва поставить животных в сарай, а потом уже объявить о своем приезде, но дверь на веранду широко распахнулась, и во двор выбежала Таня, а за ней поспешила и Анна Тимофеевна с Машенькой.
Володя шагнул навстречу Тане. Ничего не нужно было скрывать. Он вернулся домой. И он обнял и крепко поцеловал Таню, а Анна Тимофеевна сначала поцеловала мужа, а потом его. Затем он поднял и прижал к себе Машеньку. Он возвратился в свой дом.







