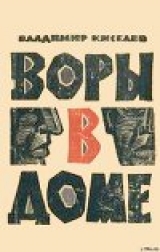
Текст книги "Воры в доме"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Глава двадцатая,
повествующая об ангелах в белых свитерах и с членистыми крыльями
Что бы там ни говорили, а добрых дураков на свете нет… Если и не все дураки злы (в чем я сильно сомневаюсь), то зато все злые – дураки.
Э. Лабулэ
«Ну и пусть, – подумал лейтенант Аксенов, когда увидел, как толстый и усатый полковник медицинской службы, одетый в короткий и узкий, расстегнутый на животе халат, переглянулся с их палатным врачом Ксенией Ивановной. – Ну и пусть».
– Платифилин! И побыстрей, – фыркнул полковник.
Ему было хорошо вот так лежать и не сопротивляться, было спокойно и немножко горько. Ему хотелось спросить, скоро ли он умрет, но он знал, что ему все равно не ответят, что полковник фыркнет: «Глупости, глупости, от воспаления легких еще никто не умирал», но он-то знал, почему полковник так сердит, а медсестра Наташа так взволнована, и ему было немножко жалко их и немножко грустно за себя.
Вчера он написал Ольге письмо – вчера ему хотелось, чтобы она знала, как он болен, как ему плохо, чтоб ее мучила совесть, чтоб она поняла – это она виновница всех его несчастий, чтоб ей было стыдно за сильных людей, которые всегда отнимают все у слабых. Да, он не был сильным и умным, как Шарипов или Ведин. Он обыкновенный, неумелый человек. Но он хороший человек, он никогда и никому не причинил зла. Разве он виноват, что все получалось у него не так, как он хотел? Даже в госпиталь он попал не так, как хотелось бы – не после ранения, полученного в единоборстве с матерым агентом иностранной разведки, а после гриппа, на который он не обратил внимания. И вот – воспаление легких. Тяжелое воспаление легких.
Раньше ему хотелось быть таким, как Степан Кириллович, как Шарипов или еще лучше Ведин, – сильным и умным, целеустремленным человеком. Но сейчас он думал о том, что это совсем не нужно. Разве только сильные и целеустремленные люди должны жить на земле? И разве обязательно человеку нужны слава, или известность, или даже авторитет? А если просто жить – любоваться закатами и слушать, как ветер шевелит ветви деревьев, и ходить по улицам, ощущая, как мягко погружается каблук в разогретый асфальт, и вдыхать запах бензина, остающийся за проезжающим автомобилем, запах, который так не нравится некоторым людям и который так приятен.
Еще недавно ему хотелось совершить какой-нибудь подвиг, чтоб о нем все говорили, чтоб Ольга жалела и раскаялась в том, что сразу его не поняла. Или чтоб Шарипов оказался просто подлецом и оставил Ольгу, чтоб она в слезах пришла к нему и чтоб он ей гордо ответил: «К прошлому нет возврата». Но сейчас он жалел Ольгу, и желал ей счастья, и впервые понял слова Пушкина, прежде казавшиеся ему такими необъяснимыми: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим». Дай бог, чтобы этот Шарипов с его маленькими, бантиком губами и неестественно правильным русским языком в самом деле полюбил так, как любил он, Аксенов… Дай бог…
На слове «бог» он задремал. И ему привиделись ангелы в белых свитерах, с металлическими членистыми крыльями – такими, как были у этого… Столярова, что ли?.. из кинофильма «Цирк», когда этот красивый, сильный, плечистый парень, расправив крылья, в белом свитере взлетает под купол.
Эти ангелы были сильными, и красивыми, и мужественными, и они сталкивались один с другим в воздухе, и пинали друг друга ногами, и били мускулистыми и красивыми руками, и свергали друг друга вниз, и снова взмывали вверх.
Сильные люди… умные люди, думал Аксенов, рассматривая ангелов. Но ведь это они, сильные и умные, придумали атомную бомбу и решили сбросить ее на японский город Хиросиму, и сбросили, и сожгли столько тысяч ни в чем не повинных людей. Это сделали ученые и умные люди. А слабые и глупые никогда бы до этого не додумались. И еще неизвестно, что принесло людям больше вреда, кто принес людям больше вреда – все эти сильные и умные, как Шарипов, люди или такие слабые, как он, Аксенов.
Он рассматривал роящихся в воздухе, как мошкара, сталкивающихся, падающих и взмывающих ангелов в белых свитерах, с металлическими крыльями, и думал о том, что не хочет принадлежать к числу этих сильных людей.
Ночью ему было жарко и плохо – он метался и стонал, а ему делали уколы, и он услышал, как кто-то сказал: «Кризис». Но он знал, что кризис – это в капиталистических государствах, когда жгут хлопок и пшеницу ссыпают в море, но «кризис» значило еще что-то очень важное, очень связанное с ним, и он никак не мог вспомнить, что именно, и только повторял:
– Да, да, в море… пшеницу в море… И хлопок… В море и в огонь… А преимущества социалистического… Плановость… И еще есть слово… Я забыл какое… Плановость и… Я потом скажу… Я хочу спать… Я обязательно скажу… Но я хочу спать…
И он заснул.
Он проснулся под утро, когда серый свет из окна, смешиваясь с желтым светом электрической лампы, загороженной газетой, окрасил белый потолок в ту непонятную краску, о которой нельзя сказать – то ли она розовая, то ли голубая. У своей щеки и у губ он чувствовал что-то очень живое, очень хорошее, очень мягкое и душистое. И еще он чувствовал, что совсем здоров, что ему весело и хорошо, только в руках какая-то слабость.
Он осторожно повернул голову и увидел, что на подушке рядом с ним лежит медсестра с нежным именем Наташа. Она дежурила возле него и заснула на стуле, согнувшись, упав вперед лицом на подушку. Когда он попал в госпиталь, он сразу узнал Наташу. Она училась в одной школе с ним и Ольгой. Только младше тремя классами. Она очень переменилась – стала старше, лучше.
Он отодвинулся, посмотрел на девушку и ощутил захлестывающую, беспричинную радость – оттого, что все так замечательно в этом мире, и оттого, что есть этот мир. Только жалко было эту Наташу. Что она заснула, согнувшись на стуле и положив голову на подушку. Но он не стал ее будить, а осторожно погрузил пальцы в ее нежные волосы и снова прижался к ним щекой, чтобы восстановить ощущение, с которым он проснулся.
«Что же это было? – думал он. – Какие-то ангелы… Но при чем здесь ангелы? Это все мне снилось. А я здоров и сделаю что-то очень хорошее. Что-то просто замечательное. Чтобы всем было хорошо. И особенно этой Наташе…»
Он снова заснул и снова проснулся с тем же ощущением полного и цельного счастья, но Наташи рядом с ним уже не было. Она пришла позже, перед сдачей дежурства, и смотрела на него так радостно и благодарно, словно он уже совершил этот свой главный подвиг в жизни.
«Ах, как хорошо, как славно! – думал Аксенов, когда Наташа ушла. – Что я уже здоров. Что выздоравливаю. Когда я выйду из госпиталя, я буду жить совсем по-другому. Я начну новую жизнь. Буду раньше вставать. Обязательно делать зарядку. И не под радио, а большую зарядку, как рассказывал майор Ведин, с эспандером. И обливаться холодной водой – для закалки. Брошу курить. Как генерал-майор Коваль. Буду работать над собой. Учиться. Каждый день. Сдам экзамены в академию. И я еще докажу… Я всем еще докажу, что я умею работать не хуже майора Шарипова. Даже лучше. Вот только Ольга… Как стыдно, что я написал ей это глупое письмо… – он сморщился от стыда. – Но это неважно. Я ей все объясню… А сейчас я позавтракаю и опять засну. Мне нужно побольше есть и спать: ведь я выздоравливаю… Но это славно и хорошо… И эта Наташа, и эти ее душистые волосы, и то, как она спала на моей подушке… Очень славно и чисто… Славно и хорошо…»
Он никогда не видел Ольгу в халате, и она показалась ему какой-то бесформенной, особенно в сравнении с Наташей, которой белый халат был удивительно к лицу, но врожденное чувство справедливости заставило его подумать: Наташа надевает свой халат, а Ольге дали чужой.
– Ты получила мое письмо? – спросил он, после того как Ольга рассказала, что говорила с палатным врачом о его здоровье и что нет никаких сомнений – скоро он будет совсем здоров.
– Нет. Мне сказали… что ты в госпитале.
Она не назвала, кто именно «сказал», но Аксенов это и так понял.
– Ты его и не читай. Просто порви. Я просто тогда, понимаешь, плохо себя чувствовал. Температура и всякое такое… Ты его порви. Порвешь?
– Хорошо, – охотно согласилась Ольга.
– А в самом деле я думаю совсем по-другому. Я думаю, что нужно разговаривать прямо и откровенно. И я хочу тебе сказать…
– Может, мы поговорим обо всем этом, когда ты выздоровеешь?
– Нет, я себя совсем хорошо чувствую, – сказал Аксенов, приподнимаясь на локте. – И ты не обижайся, но я буду говорить обо всем прямо…
Ольга молчала.
– Некоторые люди говорят, – продолжал Аксенов с новыми жесткими нотками в голосе, – что связывает не бумажка, не брачное свидетельство. И это верно. Я очень много думал над этим. Не бумажка и не то, что люди – извини меня – живут друг с другом как муж и жена. А совсем другое. То, как они относятся друг к другу, дружат ли, любят ли друг друга… То, как долго это продолжается и насколько это важно для них. И вот если так посмотреть на то, что мы с тобой дружили и любили друг друга многие годы, еще со школы, то выйдет, что мы самые близкие люди. Но потом ты встретилась с майором Шариповым и полюбила его. Ты решила, что он лучше меня. Может быть, он и в самом деле привлекательнее, чем я, – он старше в звании, пользуется авторитетом, Герой Советского Союза, а я пока лейтенант. Но если ты согласна с тем, что я говорил до сих пор, то что же получается?.. Ну подумай сама: если все будут делать, как ты, тогда даже замужние женщины начнут оставлять мужей, чтобы выходить за тех, кто покажется им лучше. И не будет ни верности, ни любви. Потому что после этого лучшего ей кто-то может понравиться еще больше. Раз ты после меня полюбила майора Шарипова, так и он не может быть уверен в тебе. А вдруг ты после него тоже полюбишь еще кого-нибудь. А я не ищу лучшей. Я все равно отношусь к тебе почти по-прежнему. Хоть я и встретил очень хорошую девушку. Как человека и вообще… И я хочу, чтоб ты мне сказала прямо и честно: могут быть между нами прежние отношения? Или нет?
– Нет, – ответила Ольга. – Ведь ты это сам знаешь. Может быть, ты и прав. Я часто думаю о тебе и вспоминаю… И понимаю, что я перед тобой виновата. Но мне бы хотелось, чтобы мы остались друзьями. Хорошими, настоящими друзьями.
– Так не бывает, – ответил Аксенов, спокойно и строго глядя ей прямо в глаза. – Я не могу дружить с человеком, которого не уважаю.
Когда Ольга ушла, он не жалел о ее уходе. Он ее вычеркнул. Впервые он вычеркнул из своей жизни близкого человека и понял, что ему это придется делать еще не раз.
«Ничего, – думал он. – Это не так трудно. Я с этим справлюсь. Нужно только так думать, чтоб одно вытекало из другого, а другое из третьего. Нужно думать одной головой. Так, чтоб душа в этом не участвовала. Словно ее нет. И тогда очень спокойно и просто все становится…»
И он сейчас же забыл об уходе Ольги и о своем с ней разговоре, а стал снова радоваться тому, что он выздоровел и придумал так правильно и разумно устроить свою жизнь.
Глава двадцать первая,
из которой становится известно, как бы хотел умереть майор Ведин
И сказал господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва окажется углубленною в кожу тела его, то это язва проказы; священник, осмотрев его, объявит его нечистым… У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист! нечист!»
Библия, «Левит» XIII
Ведин не верил в удачу. Он много раз слышал, что бывают случаи, когда агент иностранной разведки попадается на какой-нибудь чепухе. Ну, например, на том, что начинает убегать от милиционера, который хотел указать ему, что он не там перешел улицу. Или что карманный воришка вытащил у резидента бумажник с шифрами и тому подобными аксессуарами шпионских романов и передал этот бумажник органам государственной безопасности.
Шарипов любил распевать одну песенку с разухабистой мелодией на эту тему. Как к жулику подошел «подозрительный граждан» и предложил ему «деньги-франки», чтобы он для него добыл военный план. Жулик взял у него «деньги-франки» и даже отнял чемодан, после чего передал властям НКВД, «с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня ласкали власти, жал руку прокурор, а после посадили под усиленный надзор…».
В песенке все это выглядело смешно и приятно. Но в жизни он к удачам такого рода относился подозрительно, с недоверием, считая, что, если только случайность могла выявить и задержать агента, значит в нормальных условиях, без нее, он мог бы продолжать свою деятельность, из чего следовало, что чекисты плохо справляются с порученным им делом. Случайности, интуиция – все это, конечно, очень хорошо. Но главное – постоянная, настойчивая, неутомимая работа. В конечном итоге серьезные результаты может дать только она.
Даже в игре на бильярде… Конечно, Шарипов может дать подставку, может промазать шар, считающийся верным даже не у такого классного игрока, как Шарипов. Но рассчитывать приходится не на это. Рассчитывать приходится на другое. Нужно как можно лучше прицелиться, как можно точнее ударить, а если смазал, постараться понять причину и не повторять ошибки. В этом и состояли правила игры.
Конь звонко и весело постукивал подковами по каменистой дороге, и ему нравилось вот так ехать одному в горах, потому что поездка тоже была работой – частью нужного, осмысленного дела, а в горах хорошо дышалось и думалось.
Глубокая, выбитая поколениями лошадей и ишаков горная дорога вилась по самой вершине горного хребта. Горы – издали серо-коричневые, со снежными, словно прозрачными вершинами – вблизи были разного цвета: местами красными от глины, изрезанной сверху вниз глубокими замысловатыми промоинами, местами бурыми: камни, рассыпавшиеся под воздействием солнца и ветра на прямоугольные, словно обрубленные куски разных размеров – от песчинки до скалы. Прямо среди камней бегали, перекликаясь, горные куропатки – кеклики.
На склонах – заросли фисташки, кое-где корявая смолистая арча – древовидный можжевельник – темно-зеленая и низкая. Внезапно вблизи, в зарослях арчи грохнул выстрел, настолько гулкий, что по звуку напомнил противотанковое ружье. Конь, гнедой, энглизированный текинец, дернулся, сбился с аллюра и запрядал ушами. Ведин свернул с тропы к зарослям.
Старик в гиджуванском, толстом, мелкой стежки старом халате, с полами, подоткнутыми за пояс, перезаряжал мультык – старинное ружье с двумя деревянными сошками, которые при стрельбе упирались в землю.
– Салам алейкум! – Мир вам! – поздоровался Ведин. – Куда это вы стреляли?
– Алейкум ас-салам! – И вам мир! – с любопытством поглядывая на Ведина, ответил старик. – Кеклики…
Ведин увидел неподалеку в траве куропатку. Старик не спешил ее подобрать. Наблюдая за тем, с какой скоростью и сноровкой охотник перезаряжает свое оружие, Ведин впервые понял, что это старинное ружье действительно применялось и на войне.
А перезарядить его было совсем непросто. Для этого нужно было пересыпать из висевшей на поясе роговой пороховницы немного пороха в жестяной наперсток – мерку. Высыпать порох в ствол поставленного вертикально ружья. Вырвать из полы халата клок ваты и забить ее в ствол деревянным, толстым, как трость, шомполом. Вынуть из кожаной сумочки, тоже подвешенной к поясу, круглую свинцовую пулю, оторвать от висевшей на поясе тряпки небольшой кусочек, поплевать на тряпку, обмотать ею пулю и забить ее шомполом в ствол. Вытряхнуть из бутылочки из-под лекарства пистон и надеть его на коротенькую брандтрубку. И лишь после этого двумя руками взвести курок… И все-таки все это не заняло и минуты.
– Покажите мне ваше ружье, – спешиваясь, попросил Ведин старика. Тот неохотно подал ему свой мультык.
Приклад, грубый и тяжелый, был сделан, очевидно, значительно позже, чем ствол. Но ствол был таким, что ружье не хотелось выпускать из рук, – из великолепной стали, с золотой насечкой арабской, стилизованной вязью. Судя по виду, ковали его в Сулеймании – столице курдов в Ираке, – славившейся в старину своими ружьями.
– Давно оно у вас? – спросил Ведин.
– Очень давно. Я его приобрел в год тигра.
– А сколько тигров?
– Не помню, или три, или четыре.
Старинный таджикский календарь состоял из двенадцати лет: мышь, бык, тигр, заяц, рыба, змея, лошадь, баран, обезьяна, курица, собака, свинья. 1961 год выпадал на год быка, и Ведин высчитал, что ружье у старика не то сорок один, а не то и все пятьдесят пять лет.
– А почему вы не купите себе нового ружья?
– Привык, – ответил охотник. – Хорошее ружье. К вашему ружью нужны патроны, а мое заряжается просто так.
– Послушайте, – предложил Ведин, – давайте меняться…
Он снял с плеча и протянул старику свою дорогую ижевскую бескурковку шестнадцатого калибра.
Старик внимательно осмотрел ружье Ведина.
– Вы собираетесь сдать мой мультык в дом, где хранятся старинные предметы?
– Нет, я просто сам люблю старое оружие.
– Что ж, тогда поменяемся.
Ведин отдал охотнику еще и патронташ с патронами, а старик ему свои припасы. Прощаясь, охотник провел обеими ладонями по лицу сверху вниз – как это делают в знак особого почтения.
«Этот древний мультык мне еще очень пригодится. Он мне уже пригодился, – думал Ведин, снова выезжая на тропу. – Но об этом я потом… А сейчас в лепрозорий».
Ему было чуждо особое любопытство, побуждающее иных людей посещать лечебницы для душевнобольных, морги или операционные. И, несмотря на то, что он еще прежде слыхал о расположенном в горах, на берегу реки лепрозории, он заинтересовался тем, что же представляет собой это необычное учреждение, только теперь, когда это было связано с интересами его службы.
Собираясь в лепрозорий, Ведин сумел подавить в себе чувство брезгливости и страха перед проказой. Он мог бы, правда, направить сюда кого-нибудь из подчиненных ему сотрудников отдела, но разобраться сначала самому, составить сначала собственное впечатление и, наконец, выполнить самому то, что ему казалось самым трудным и неприятным, было его давним принципом.
Главный врач лепрозория, толстый, мрачный грек, по фамилии Маскараки, и не скрывал того, как он недоволен и озабочен приездом Ведина.
– Я не могу разрешить вам это свидание, – сказал он, глядя в угол. – Человек очень болен. Это запрещено нашими правилами. Эта встреча не поможет, а только повредит больному.
– Судя по тому, что вы говорили перед этим, – возразил Ведин, – ему уже ничто не может особенно повредить. Но увидеться с ним мне необходимо. И при этом наедине.
– Ну, как хотите, – решил Маскараки. – Но я снимаю с себя всякую ответственность.
– Да, вот еще что, – нерешительно сказал Ведин. – Я не очень разбираюсь в этой штуке… Так как мне?.. На каком расстоянии надо держаться? И можно ли здороваться за руку?
Маскараки дико посмотрел на Ведина, со свистом втянул в себя воздух и выпучил глаза.
– Ну, знаете, – сказал он наконец. – Вам известно, как распространяется проказа?
– Нет, – ответил Ведин.
– И мне не известно. Хотя я занимаюсь этой болезнью тридцать лет и имею научные труды. Ни в коем случае не здороваться за руку. Ни в коем случае не допускать непосредственного контакта.
– А разговаривать на каком расстоянии?
– Что значит – на каком расстоянии? На обычном, как мы с вами говорим. Или вы считаете, что раз хотите поговорить по секрету, так должны шептать ему на ухо?
– Нет, – сказал Ведин спокойно. – Я так не считаю.
– Его приведут сюда, в мой кабинет. А я уйду из своего кабинета… Вас это устроит?
– Я могу пойти к нему… – сказал Ведин.
– Нет, это не нужно. Он придет сюда.
– Товарищ Седых? – спросил Ведин, протягивая руку вошедшему. – Майор Ведин.
Он так растерялся, что силился и не мог улыбнуться. Перед ним был человек в сером фланелевом халате со странным и страшным лицом, напоминавшим морду льва.
– Я не здороваюсь за руку… Боюсь заразиться гриппом, – ответил Седых ненатуральным, сиплым и лающим голосом, который уже не удивил Ведина, так как такой или похожий голос и должен был быть у такого человека.
Седых убрал руку за спину.
– Что вам нужно? Зачем вы меня вызвали?
– Сядем, – предложил Ведин.
И они сели на стулья по обе стороны директорского стола.
– В чем дело? – повторил Седых.
– Вы служили в органах государственной безопасности? – с трудом заставил себя перейти к делу Ведин.
– Служил. И что же там – выявили недостаток полбутылки чернил и восьми скрепок для бумаги?.. И вы теперь приехали потребовать с меня это имущество? – лающе рассмеялся Седых.
– Нет, у меня дело попроще, – серьезно ответил Ведин. Он так и не смог заставить себя улыбнуться. – Я хотел спросить у вас… Не встречали ли вы в последнее время в районе лепрозория каких-нибудь посторонних людей?.. А если встречали, то кто эти люди? Как они выглядели?
– Вы считаете, что я до сих пор состою на работе в органах?
– Да, – жестко сказал Ведин, – мы так считаем. Во всяком случае, что вы до сих пор состоите в партии.
– Не понимаю, – закашлявшись и придерживая грудь руками, сказал Седых. – С тех пор как я заболел, меня никто не навещал. Ни родные, ни товарищи. Считается, что сюда трудно попасть. Хотя, как видите, вокруг нет никаких заборов или загородок. Но как только я понадобился, меня сразу нашли.
– Мне нечего вам на это ответить, – сказал Ведин, заставляя себя смотреть прямо в лицо Седых. – Я понимаю, что вам тяжело. Скажу по правде: я никогда не предполагал даже, что настолько тяжело. И если вы не можете нам помочь – не нужно. Я вас понимаю, и у меня нет к вам никаких претензий.
– Чепуха, – сказал Седых, и Ведин понял, что Седых улыбается, хотя лицо его не изменилось, оно все время было неподвижно, как страшная и нелепая маска, это лицо. – Я расскажу вам, что знаю. Я получаю газеты. Слушаю радио. И не хуже вас понимаю, что людям грозят вещи пострашнее, чем моя болезнь. Здесь нас немного. Очко. Двадцать один больной. И еще медперсонал. Каждый человек на виду. Из посторонних тут бывает молодой узбек – Каримов… – он помолчал. – Хороший человек. Очень хороший человек… Он недавно женился. Жена заболела. Ее поместили к нам. Он был преподавателем в техникуме. Он оставил все и поехал за женой. Как ни гнали его отсюда, а он возвращался. Теперь работает у нас садовником. Он совершенно здоров, хотя все время проводит с женой, как это было и до ее болезни. Этот человек, я уверен, вне всяких подозрений. Но вот километрах в шести отсюда вверх по реке есть небольшой кишлак, а в нем живут люди, прежде считавшиеся больными. Там может быть все, что угодно.
– Что значит «прежде считавшиеся больными»?
Седых рассказал, что лепрозорий этот был организован в первые годы советской власти. Со всей Средней Азии, с базаров и горных кишлаков собрали сюда несчастных людей, годами не знавших врачебной помощи и живших подаянием. Однако больных проказой среди них оказалось не так уж много. Прокаженным считался всякий, у кого на теле пятна и язвы, а мало ли от чего могли появляться пятна и язвы при том уровне санитарии и гигиены. Больных проказой поселили в трех больших двухэтажных каменных домах, выстроенных на берегу, а остальных – отторгнутых обществом, но фактически здоровых людей – в отдельном поселке. Многие из них, их дети и внуки живут там по сию пору.
– А какое отношение имеют теперь эти люди к вашему… к вашей больнице? – спросил Ведин.
– Считается, что это наше подсобное хозяйство.
– Спасибо. Большое вам спасибо, – сказал Ведин. – Я не умею говорить всякие слова… Но я удивляюсь вашему мужеству и, скажу по правде, не знаю, хватило ли мне бы его, чтобы… Окажите, не могу ли я или наше управление что-нибудь сделать для вас?
– Нет, – ответил Седых. – Если можно найти что-нибудь хорошее в моем состоянии, то это единственное; мне ничего и ни от кого не нужно.
Он поднялся, медленно заковылял к выходу, остановился у двери, сказал «прощайте» и вышел.
Главный врач не возвращался. Ведин посидел несколько минут, сосредоточенно глядя в одну точку, а затем вышел на улицу. Под большим ореховым деревом, на деревянной скамье, сбитой из узких планок, сидели Маскараки и молодая женщина. Он говорил ей что-то вполголоса, шевеля густыми черными бровями, а она слушала его, грустно покачивая головой. Лицо женщины, с матовой кожей, с темными глазами и маленьким ртом, было редкостно красивым и напомнило Ведину полузабытое им лицо девушки, которая была ему дороже всех на свете.
– Вы извините меня, – громче сказал Маскараки женщине, встал и направился навстречу Ведину, а женщина ушла.
– Кто это? – спросил Ведин.
– Понравилась? – с гордостью вскинул голову Маскараки. – Но берегитесь – у нее здесь муж. – И серьезно продолжал: – Это наша больная, Каримова…
– Больная? У нее ведь не видно никаких следов болезни?
– Вам не видно. Они, к несчастью, есть, эти следы. И все-таки мы ее вылечим. И надеюсь, скоро. Лечение у нас пока, чтоб, как говорится, не сглазить, проходит хорошо. Очень хорошо.
– А Седых?
– С Седых труднее. При такой форме лепры случаи выздоровления исключительно редки.
– Это, конечно, не относится к делу, по которому я приехал, – сказал Ведин. – Но почему вы взялись за такую работу? Ну, я имею в виду, за лечение таких людей?
– Это было так давно, что я уже не вспомню, – смешливо прищурил выпуклые умные глаза и развел руками Маскараки. – Но у нас есть и молодые медицинские работники. Наверное, по тем же причинам, что и они. Потому, что дело врача – лечить. А по какому, собственно, делу вы приехали?
– Я хотел расспросить у вас кое о чем. И в частности, о том, не сможете ли вы рассказать, что представляют собою люди, занятые в вашем подсобном хозяйстве. Кто они такие? Меняется ли их состав?
– Отчего же? Смогу. Только для этого лучше взять в руки список. Пройдемте ко мне в кабинет.
Этот список легко умещался на одной страничке.
– А остальные? – спросил Ведин. – Ведь там целое селение.
– Остальные работают в соседнем колхозе… Вернее, считается, что работают. С этими людьми довольно сложное положение.
– А почему вы считаете его сложным?
– Дело в том, что на Востоке, как, впрочем, и везде, проказа считалась особенно страшной, мистической, я бы сказал, болезнью. Опасность заражения ею сильно преувеличивалась. А отличать проказу – лепру от других болезней здесь научились сравнительно недавно, и многие люди в народе до сих пор не отличают…
Маскараки вынул из ящика стола и протянул Ведину наклеенный на картон прямоугольный кусок шелка красивого, яркого розово-коричневого цвета.
– Таким обычно бывает первое пятно на теле больного проказой. Как правило, оно появляется около поясницы.
Ведин посмотрел на шелковый лоскут – у жены было похожее платье – и повернул лист картона так, чтобы он лежал шелком вниз, к столу.
– В старину считалось, что проказа может быть не только у человека, но и на ткани, и на камне, и на дереве, и любого человека с любыми язвами на теле признавали прокаженным. Многие века и иудейская, и христианская, и мусульманская религии изгоняли такого человека из общества, он скитался по дорогам, выпрашивая милостыню. Здоровых, но считавшихся больными людей собрали здесь, недалеко от лепрозория. Среди них никогда не было больных, но вместе с тем поселок сохранил за собой славу селения прокаженных. Он в особом положении. Еще Калининым был подписан указ, по которому люди, живущие в этом поселке, как занятые обслуживанием прокаженных – а их в те времена было у нас значительно больше, чем теперь, – не подлежат никаким налогам и могут возделывать для себя большие земельные участки. Фактически, даже люди, занятые в нашем подсобном хозяйстве, не обслуживают больных непосредственно, но в селении до сих пор живет немало хитрых бездельников. И они умеют ловко пользоваться своим необыкновенным положением.
– А каких-нибудь новых людей вы там не замечали?
– Мне трудно сказать. Туда постоянно приезжают какие-то люди, что-то покупают, что-то продают.
– Встречаются среди них и русские?
– Нет. Русских я не припомню. Все больше из местного населения.
– А милиция районная никогда не интересовалась: что за люди приезжают в этот поселок, чем торгуют?
– Почему же? Интересовалась. Там даже кого-то судили. Какой-то человек из Ура-Тюбе убил жену из ревности или еще почему-то и прятался здесь у родственников. Вот его и арестовали.
«Черт его знает что делается, – подумал Ведин. – Черт его знает о чем здесь думают. И все-таки в этот поселок я никого посылать не буду. Чтоб не вспугнуть… Нужно найти кого-нибудь на месте».
Он долго расспрашивал у Маскараки о каждом человеке, работавшем в подсобном хозяйстве, записал несколько фамилий в блокнот, предупредил главного врача лепрозория, чтоб тот никому не говорил о его приезде, попрощался и вышел за дверь. Затем вдруг возвратился, еще раз пожал руку Маскараки и попросил, если случится приехать в Душанбе, обязательно зайти к нему в гости. Вот адрес. Будем очень рады…
Отдохнувший, хорошо накормленный конь его все стремился перейти в рысь – возвращались домой! – и Ведин натягивал повод, сдерживая аллюр.
Все, что вызывало в нем чувство внутреннего неодобрения, Степан Кириллович называл экзотикой. И словечко это звучало у него весьма иронически.
– А, наслышан, наслышан, – сказал он, когда Ведин доложил, что едет в лепрозорий. – Снова экзотика…
«Но какая же, к черту, экзотика? Где берет в себе силы продолжать жизнь этот человек, Седых? Я понимаю, – думал Ведин, – можно прожить, и нормально прожить, как все люди, много лет, если жизнь сложилась не так, если образовался какой-то душевный надлом. Но чувствовать, как ты распадаешься от страшной, от чудовищной болезни, как меняется твое тело и лицо превращается в маску, – для этого нужна какая-то особенная стойкость. Или, может быть, какое-то особое безволие?.. Нет, – думал Ведин, – я бы хотел умереть сразу. В одно мгновение, во сне. Или от вражеской пули».







