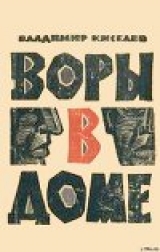
Текст книги "Воры в доме"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Глава тридцатая,
в которой снова появляется загадочный граф Глуховский
Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни –
Как проведешь ее, так и пройдет она.
Гиясад-Дин Абу-л-фатх Омарибн Ибрахим, называвшийся Хайямом (палаточником)
«Сколько же ему лет? – думал Степан Кириллович. – Сколько ему лет?.. Очевидно, не меньше, чем мне… Он тогда не выглядел здоровым человеком… Интересно все-таки, какой он сейчас? Трудно думать, что ему жилось легче, чем мне. Хотя, вероятно, легко живется не тем, кто хорошо живет, а тем, кто легко относится к жизни…»
Он встал из-за своего места за письменным столом, перешел к круглому столику и улегся в низком кресле, расставив ноги и вытянув их вперед. Все чаще и чаще сидел он здесь в такой позе. А ведь совсем недавно он сел в это кресло, отбросившись на спинку, расставив ноги и вытянув их вперед в первый раз в жизни.
Он зашел тогда в архив, чтобы пересмотреть одно из старых, давно законченных дел, связанных со спекуляцией лампами к радиоприемникам. В нем косвенно упоминалась фамилия Ибрагимова. Он собирался дать задание проверить, где теперь находятся люди, замешанные в этом деле, но предварительно хотел сам выяснить все его обстоятельства.
Он слышал где-то, что крупные ученые-биологи сами моют для себя пробирки – потому что в сложных экспериментальных работах нет незначительных операций. Этот пример он часто приводил своим сотрудникам. Не гнушаться черновой работой. В ней много такого, что даст вам в руки ключ к открытию. Сам он ею никогда не гнушался.
Он сидел за столом с лампой дневного света, горевшей здесь и днем: в архиве было темновато. За соседними столами с такими же лампами работали сотрудники управления, два командированных из Москвы подполковника и ленинградский профессор, специалист по новой истории – пожилая женщина со спущенными чулками на бесформенных ногах – ей был разрешен доступ к некоторой части их архива в связи с ее научной работой. В то утро не было никаких особенных причин для волнений. Во всяком случае, не больше, чем всегда. Ночью он хорошо спал. В общем день этот ничем и ни в чем не отличался от всех других дней. И вдруг…
И вдруг он почувствовал, как что-то острое и зазубренное погрузилось в сердце – он даже ясно представил, что именно; конец металлического костыля, который вбивают в каменные стены. У него обмякли руки и тело, он хотел вдохнуть воздух, но не смог, и что-то, видимо, было в его лице или в его поведении такое, что люди вокруг него испуганно заметались, кто-то подал ему воды, кто-то проводил к стоявшему у стены дивану (как ни дико это совпадение, но он недавно предложил убрать диван из архива, так как считал, что мебель такого рода совершенно излишня в служебном помещении, но этого не успели сделать).
Боль усилилась. Она уже заполняла все сердце и всю грудь, и он подумал, что умирает. И было очень неловко и противно умирать при посторонних людях, собравшихся вокруг него. Он молча поднялся, вернулся к себе в кабинет, приказав дежурному: «Никого не пускать!» – и улегся в кресле, вытянув вперед и раздвинув ноги.
Ему показалось, что сейчас, сию минуту сердце не выдержит этой боли и разорвется. «Это и будет «разрыв сердца», как говорили в старину, – подумал он, вынуждая себя улыбнуться. – А сейчас говорят – инфаркт».
И вдруг он услышал собственный голос, негромкий, испуганный и стыдливый:
– Ой, не надо… Не надо…
Прежде, когда ему грозила смерть на войне, смерть по воле людей, по воле врагов, он никогда не просил… Но сейчас он был наедине с н е ю… Только он и о н а. И о н а медленно отошла.
Так он пролежал полчаса или час, и не умер, и боль утихла. И он снова занялся делами и не пошел наутро к врачу, как собирался, а сделал это лишь через неделю после того приступа, когда снова почувствовал боль в сердце, на этот раз менее острую, но все же боль…
Стенокардия. Грудная жаба, как проще и выразительнее говорили в старину.
– И не удивительно, – сказал полковник медицинской службы, главный терапевт Эйхенбаум, румяный, усатый и бородатый, похожий на деда-мороза. – При вашей работе. Можно считать, что это у вас профессиональное заболевание.
Ну, а как же при е г о работе? Чем должен заболеть человек, столько лет скрывавшийся, живший под чужим именем в окружении людей, которые ему враги и которым он враг?
Все дело в чувстве ответственности. Ответственность – вот что тяжелым грузом ложится на сердце, давит на него, мнет и превращает из знакомой фигуры, изображение которой, пронзенное стрелой, можно увидеть на многих садовых скамейках, в злобную и капризную жабу. В грудную жабу, готовую в любую минуту подпрыгнуть на всех своих четырех лапах туда, к горлу, сдавить его и выжать из глаз слезы, когда по радио исполняют «Закувала та й сыва зозуля» или когда показывают киножурнал, где хирург спасает детскую жизнь.
«Хирург спасает жизнь» – так и назывался этот фильм о работе Волынского. Хорошо все-таки, что в кинотеатре гасят свет. Как бы выглядел он, генерал органов безопасности, с распухшими, заплаканными глазами. Неужели то, что делает этот Волынский, – только техника, только мастерство? Неужели сам он не переживает всего этого?.. И неужели мои слезы – это только «жаба»?..
«Но о чем же я?.. Ах, да, об ответственности. Разная мера. Я отвечаю за безопасность своего государства, значит, за безопасность людей, которые – и это правда! – мне дороже жизни. Я это доказывал на деле. И не раз. А у него другая мера. Он отвечает за себя. Ну, может быть, еще за несколько человек. Хотя трудно думать, что он когда-либо уважал этих своих людей. Или дорожил ими… Другая мера. Совсем другая мера».
Но где он был все эти годы?.. Для чего написал эти дурацкие письма?.. Почему допустил такой глупый промах?..
Разведка и контрразведка. Они всегда шагали рядом. Как рядом всегда шагали наступление и оборона, меч и щит, стрела и панцирь, винтовка и окоп, снаряд и дот. Они шагали рядом до тех пор, пока не появились такие мощные средства войны, как ракетные снаряды и атомные головки к ним. После этого оборона начала неудержимо отставать от наступления. «Спутника-шпиона» не допросишь, как рядового агента. Электронно-счетная машина расшифрует любой код… И все равно, если у него под носом столько лет жил и работал такой человек, система контрразведки тут ни при чем. Это он, генерал Коваль, виноват. Это он плохо справлялся с порученными ему обязанностями. Это он не сумел обеспечить надлежащую безопасность своего государства.
Шарипов позвонил ему домой поздно вечером и попросил разрешения немедленно приехать. Голос его звучал совсем как у Левитана, читавшего приказ Верховного командования. Ну что же, у него было из-за чего торжествовать. Степан Кириллович всегда насмехался над этой «экзотикой», над всеми этими почерпнутыми из учебников криминалистики или даже из детективных романов исследованиями табачного пепла, шерстяных ниток и отпечатков пальцев. Ну какой резидент, скажите на милость, оставит отпечатки пальцев?
И вот оставил.
Шарипов приехал вместе с Вединым. Сдержанно, подчеркнуто-официально Шарипов доложил, что им установлено, кто же автор трех писем о самонаводящихся ракетах. Граф Глуховский. Английский агент, след которого был ими потерян зимой с 1941 на 1942 год. Шарипов положил на стол рядом две фотографии размером с открытку – отпечаток большого пальца правой руки Глуховского, полученный в 1942 году с изразца, подобранного у тамерлановского Ак-Сарая, и неполный – самый край – отпечатка этого же пальца, оставленный на клейстере, которым был склеен один из самодельных конвертов.
Захлебываясь, забыв о своем сдержанном, официальном тоне, Шарипов рассказал, как ему не давала покоя мысль: почему конверты самодельные, кто мог в наши дни пользоваться такими конвертами. Он решил провести анализ и определить, каким клеем они склеены. Анализ показал, что это клейстер из ячменной муки грубого помола. Тогда он решил собрать побольше этого клейстера, чтобы попробовать, возможно, в муку попали частицы песка с жернова, и по этим частицам, возможно, удастся установить, на какой мельнице мололи эту муку. Осторожно расклеивая конверт, он обратил внимание на то, что в одном месте вмятина, будто бы похожая на отпечаток пальца. Он посмотрел в лупу и убедился, что прав. Эксперты из их лаборатории усилили и проявили этот отпечаток, а затем увеличили его. Но частиц жернова не было найдено даже при микроскопическом исследовании. Слишком малую порцию муки удалось собрать с конвертов.
Ну что ж, Шарипов еще раз доказал, что недаром Степан Кириллович считал его одним из самых талантливых чекистов, каких он когда-либо встречал за свою жизнь. И стоило посмотреть, с каким восхищением, с какой радостью слушал уже, наверное, во второй раз этот рассказ друг и начальник Шарипова – Ведин. Как без малейшей зависти – Степан Кириллович хорошо умел отличить даже скрытую зависть – любовался он Шариповым. Друзья! – покачал головой Степан Кириллович.
Это следовало отметить. Люба быстро накрыла стол. Выпили «Гурджаани» и вспомнили Шахрисябз, армию Андерса, похороны графа Глуховского и то, что, когда значительно позже гроб был осмотрен, в нем в самом деле обнаружили покойника. Видимо, похоронили одного из польских солдат.
И вдруг Шарипов, глядя в стол, сказал, что хочет повиниться в служебном преступлении. Ведин поперхнулся вином. Оказалось – даже он не знал, – что в том, что Глуховский сумел скрыться, виноват был не один Садыков.
– А если бы вы сейчас не нащупали следа Глуховского? – спросил Степан Кириллович. – Вы бы и дальше молчали об этом?
– Не знаю, – откровенно ответил Шарипов.
– Вот это и плохо, – первым вставая из-за стола, сказал Степан Кириллович. – Плохо, что вы это так долго носили в себе. Это опасно, это всегда создает предпосылку для следующей уступки. В нашем деле это недопустимо.
– Но ведь дело это давнее, да и не так велика вина – он случайно оказался на чердаке, не на дежурстве, и мог вообще не обратить внимания на старика, подвозившего дрова, – сказал Ведин.
– Я говорю не об этом, а о молчании, – отрезал Коваль.
«Ничто не проходит даром, – думал Степан Кириллович. – Ничто не проходит бесследно. Конечно, все эти интеллигентские раздумья и раскаяния Шарипова – чепуха. То, что я выгнал Садыкова, не имеет никакого отношения к тому, что его теперь посадили за воровство, а Шарипова, если бы даже дежурил он, а не Садыков, я бы оставил. Я уже тогда понимал, что может из него получиться… Как же мне не хотелось отпускать этих ребят в действующую армию. А Шарипов и до сих пор не знает, по чьему настоянию он попал в школу командиров этих самых «катюш». Но все-таки ничто не проходит даром… Врач говорит: сердце – профессиональное заболевание… А как же Глуховский?..»
Степан Кириллович медленно, тяжело поднялся из низенького кресла, подошел к сейфу, вынул из него папку с письмами и двумя фотографиями отпечатков пальцев.
Да, думал он, это Глуховский. Эксперты в заключении указывали, что это он. Значит, и письма эти отправил граф Глуховский – вернее, человек, который скрывался под этим именем. Писал их, очевидно, тоже он. Следовательно, он каким-то образом связан с Ибрагимовым… Но каким? Для чего написаны эти письма? Ему случалось в жизни не раз встречаться с загадочными, на первый взгляд алогичными действиями агентов иностранных разведок. Но такая нелепость… Нет, это первый раз в жизни.
Конечно, проще всего было арестовать, наконец, этого нахального красавчика Ибрагимова и спросить его об этом. Но Ибрагимова нельзя было трогать. Ни в коем случае. На Ибрагимова и его связи пока была вся надежда. Нужно было только как можно тщательнее проследить за всеми этими связями. Нужно было ждать. Как всегда, нужно было ждать. Раньше он был терпеливее. Может быть, потому, что всегда верил, что дождется? Что не сидела в груди эта жаба?
«Но где же сейчас граф Глуховский? – думал Степан Кириллович. – Как он к нам попал? Не может быть, чтобы он столько лет находился под боком, чтобы действовал, чтобы вредил и остался незамеченным. Все эти годы он был по ту сторону. И сейчас, только сейчас заброшен к нам. А если это не так, если действительно был здесь и работал, а мы не могли его заметить, значит, я ни к черту не гожусь. Значит, нужно уходить. Значит, нужно уступить место другому. Значит, лучше поскорее околеть от этой чертовой стенокардии».
Глава тридцать первая,
в которой Владимир Неслюдов тоже конструирует и изготовляет оружие
Полу взаимных отношений подобрал и ковер обоюдных увеселений свернул.
Джами
Володя поступил весьма обстоятельно. В магазине, торговавшем спортивными товарами, он купил метр ниппельной резины. Затем он почистил туфли у чистильщика и, заплатив вдвое против указанной цены, попросил кусочек кожи. После этого он приобрел в писчебумажном магазине перочинный нож и этим тупым, малоприспособленным для такой цели орудием потихоньку, оглядываясь, срезал в самой глубине городского сада тополевую ветку.
Все эти предприятия заняли у него почти полдня, а вторую половину он провел на скамейке перед домом, обрезая у ветки концы так, чтобы она превратилась в рогачик, и приделывая к нему резину и кожицу.
Ему нужно было во что бы то ни стало превзойти соседского мальчишку Павлика. У Павлика была рогатка, и ничему и никогда, вероятно, Машенька не завидовала так, как этой рогатке и умению Павлика запускать из нее камни «выше самого высокого дерева».
Володя закончил изготовление своего грозного оружия и приступил к испытаниям. Он вложил в кожицу обломок кирпича, оттянул резину и сразу же убедился, что рогатка обладает свойствами неожиданными и опасными. На веранде стоял горшок с большим, очень изысканным, похожим на готический собор кактусом, и этот горшок с треском раскололся и упал на землю.
Машенька запрыгала от радости. Даже Павлику не удавались такие меткие выстрелы. Володя не решился признаться, что он собирался запустить камешек просто вверх, да так, чтобы он улетел за дом, никому не повредив.
Из дому вышла Анна Тимофеевна, не без опасений наблюдавшая в окно за Володиной затеей, и серьезно спросила:
– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?
– Нет, – сказал Володя. – Спасибо. Я вот только случайно…
– Не следует двум женщинам, да еще в присутствии обеих, – сказала Анна Тимофеевна, – по-разному объяснять свой поступок. Но давайте все-таки пересадим этот злосчастный кактус в другой горшок. Я сейчас вынесу.
Они пересадили кактус, и, забирая его на всякий случай домой, Анна Тимофеевна сказала:
– Я очень рассчитываю на то, что вы не поубиваете друг друга этой вашей штукой.
– Мы будем очень осторожны, бабушка, – ответила Машенька за Володю.
Оказалось, что у Машеньки был больший, чем у Володи, опыт владения рогаткой. Она запускала в воздух один за другим камешки, которые ей подавал Володя, и смеялась при этом так радостно, так звонко и заразительно, как не смеялась еще ни разу за время, проведенное Володей в этом доме.
Ему было беспокойно и хорошо, так хорошо, что звонкий смех Машеньки находил ясный и точный отклик где-то в груди: это был его собственный смех, его собственная радость. Он думал, что встреча с Таней – самая главная и самая большая удача в его жизни, что он больше не сможет жить без нее, без Машеньки, без Николая Ивановича и Анны Тимофеевны, и еще думал, что он со своими слабостями и недостатками, он, толстый и некрасивый, ничем не заслужил такого хорошего отношения этих замечательных людей, он изо всех сил постарается стать лучше, умнее, постарается больше знать, глубже разбираться в своем деле.
Он думал о том, что любви посвятили лучшие свои произведения поэты всех времен и народов и музыканты всех времен и народов, да и в конце концов каждый человек появляется на свет в результате любви, но вместе с тем он понимал, что, как, наверное, и другим людям, ему недостаточно того, что сказали об этом все поэты и композиторы мира, потому что все, все, что он переживает, это совсем не похоже на то, что переживали другие, это совсем особое, совсем необыкновенное.
Он прежде никогда не испытывал потребности рассказывать кому-либо о своих чувствах. Обычно беседы его с товарищами сводились к вопросам, ограниченным тематикой их научной работы. Но сейчас он очень жалел, что нет у него близкого друга, которому он мог бы рассказать о своих переживаниях, с которым мог бы поделиться своей радостью и своими опасениями.
– Машенька, – неожиданно для себя самого спросил он у девочки, искавшей на земле подходящий камешек, – ты была бы рада, если бы я не уезжал в Москву, а совсем остался здесь?
– Разве вы уедете? – удивилась и встревожилась Машенька.
– Нет, Машенька, очевидно, уже не уеду, – сказал Володя, растроганный и взволнованный ее ответом.
Вскоре к ним присоединился Павлик, и труды Володи были оценены по заслугам: Павлик сказал, что ни у кого на улице нет такой рогатки. Польщенный Володя отдал ему остатки ниппельной резины и кожи. Этот Павлик был занятным человеком. Он был старше Машеньки – осенью он должен был поступить в школу в первый класс, но к Машеньке он относился, как к равной, и точно так же относился, как к равному, и к Володе, и к Николаю Ивановичу, которому он носил пойманных им жуков, бабочек, гусениц. И в этом ровном и свободном, без искательности, но и без малейшего панибратства в обращении со всеми было, как казалось Володе, что-то такое, чего не хватало ему самому, Володе. И он думал, как было бы хорошо, если бы можно было забрать к себе не только Машеньку, а и этого чудесного Павлика и, может быть, того карапуза, которого он видел сегодня в городском саду. Этот толстый, чем-то похожий на Володю увалень, очевидно, только недавно начал ходить, и чувствовалось, что он боится остановиться, – а вдруг упадет. И он шагал и шагал по аллее с нянькой, которая поддерживала его за воротничок белой и пушистой кофточки.
Если существовал человек, которого Володе особенно не хотелось видеть в эту минуту, то это был именно он, Евгений Ильич Волынский. Он вышел из дому и, как всегда, легко и стремительно направился к ним.
«Раз он мне не отвечает – сегодня не поздороваюсь», – решил Володя и сказал:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, – ответил Волынский. – Очень рад, что застал вас. Мне необходимо с вами поговорить, но перед этим… Машук, – привлек он к себе и поцеловал в лоб девочку.
И Володя с ревностью отметил про себя, что она прижалась к отцу.
– Пора домой, ты ведь еще не ужинала. Бабушка покажет, какую штуку я тебе принес.
Не попрощавшись с Володей и Павликом, Машенька побежала в дом.
– До свидания, – независимо сказал Павлик, поднял со скамьи забытую Машенькой рогатку, дал ее Володе и ушел, стройный, уверенный в себе, с головой, посаженной так гордо и красиво, как это бывает только у военных моряков.
– Так вот, – сказал Волынский медленно и раздельно, – выходит, что темперамента Тани хватает на нас обоих?
– То есть как?.. – растерялся и не понял Володя.
– Фактически. Я избегаю фигуральных выражений.
– Вы жирная свинья! – неожиданно выпалил Володя.
Впоследствии он никак не мог понять, почему он назвал худощавого и легкого Волынского жирным, и решил, что, очевидно, из-за его жирного, обволакивающего голоса.
– Я не думаю, что нам следует разговаривать в таком тоне, – спокойно ответил Волынский. – Тем более что я здесь, вероятно, не самый жирный. А что до животного, которое вы любезно вспомнили… Ну что ж, мне действительно случалось быть близким с вашей любовницей. Но ведь вы бывали близки с моей женой. И трудно, мне кажется, определить, какой из этих поступков более свинский…
Володя молчал, превозмогая желание топать ногами и кричать: «Молчите! Молчите!.. Я убью вас, если вы не замолчите!..»
– Вам, как историку, возможно, известно, что бывали времена, когда этот вопрос решался дуэлью. В наш век мирного сосуществования, к сожалению, не существует иного пути, как путь переговоров со взаимными уступками договаривающихся сторон. Такой уступкой и является то, что я заставил себя вести с вами беседу. Поверьте, что и мне она не доставляет никакого удовольствия.
Володя молчал, все так же мучительно сморщившись и глядя в землю.
– Неужели вы не понимаете, – сказал Волынский с неожиданно проникновенной и теплой интонацией, – что вас используют для того, чтобы вызвать мою ревность? Хотя – поверьте – и без этого я приехал сюда, чтобы наладить отношения в своей семье. Чтобы Таня не жила без мужа, а Маша без отца… Поймите же, я старше вас и мне трудно и стыдно говорить с вами об этом, но поймите же, что у меня… у меня, кроме них… ничего не осталось в жизни…
Володя молчал совершенно потерянный.
– Я не знал этого, – хрипло сказал он наконец. – Не знал, что вы для этого приехали… Я не могу говорить с вами об этом… Я не знаю, как относится к этому Татьяна Николаевна… Мы ни разу с ней об этом не говорили, – добавил он наивно.
– Мне непонятно и то, для чего вам это знать, – с горечью ответил Волынский. – На вашем месте всякий уважающий себя человек немедленно уехал бы из дома, куда он попал случайно и не принес ничего, кроме огорчений. Вы думаете, Николаю Ивановичу или Анне Тимофеевне будет приятно узнать о ваших отношениях с их дочерью?
– Нет, – сказал Володя, снимая очки и близоруко щурясь. – Я знаю это… Я думал… я надеялся, что Таня выйдет за меня замуж. Но я не понимаю, как вы можете…
– А я такой, что в отличие от вас могу, – перебил его Волынский. – Я многое могу.
– Мне необходимо знать, откуда вам известно о моих отношениях с Татьяной Николаевной, – с трудом выталкивая слова, спросил Володя.
– Как вы знаете, я живу в гостинице. И там иногда, как это вы, возможно, тоже знаете, встречаюсь с моей женой. Думаю, теперь не трудно догадаться, откуда у меня сведения о ваших «отношениях».
Володе никогда прежде не случалось ограничивать себя в расходах. Бывало, правда, так, что хотелось купить какую-нибудь книгу, а денег не хватало. Тогда он вздыхал и брал эту книгу в библиотеке.
Но вообще в деньгах он никогда не нуждался, а значительную часть стипендии одалживал товарищам, так как жил дома на всем готовом, и все расходы сводились к поездкам в метро и троллейбусе да покупкам раз в два года готового костюма, раз в год обуви и почаще рубах, белья и особенно носков, которые рвались.
Однако в последнее время он ощущал настолько острый недостаток денег, что очень жалел о том, что не защитил еще кандидатской диссертации, – это значительно увеличило бы его заработок. Основной статьей его расходов стали цветы. Ему доставляло огромную радость посылать Тане на сцену цветы, а стоило это уйму денег. «Никогда я раньше не представлял себе, – думал он еще сегодня утром, – что корзины цветов, которые подносят артистам на всех концертах, влетают в копеечку…»
Но сейчас ему прежде всего нужны были деньги. Чтоб уехать. Не только из этого дома. Из этого города. Навсегда, Придется дать телеграмму отцу, думал Володя. Чтоб телеграфом же и выслал. Нужно будет только начать телеграмму словами: здоров, чувствую себя хорошо. Потому что отец будет удивлен. Он никогда не просил у него денег.
Вечером Володя раньше, чем обычно, вернулся в свою комнату. Таня была в театре. С мрачным и решительным видом Володя несколько раз обошел комнату вокруг, а затем закрыл двери изнутри на ключ и погасил свет.
Он сидел на койке, наклонившись вниз, обхватив руками колени и покачиваясь из стороны в сторону в тупом, бессильном отчаянии.
«Актриса, – думал он. – Я всегда с недоверием относился к этому занятию, к этой способности перевоплощаться. Если человек умеет сыграть роль на сцене, ему, наверное, еще легче сыграть ее в жизни».
Он услышал, как пришла Таня, как стучали в столовой тарелками, как разговаривала она о чем-то с Николаем Ивановичем. Затем все затихло. Спустя некоторое время он снова услышал ее осторожные шаги, затем со скрипом повернулась ручка в двери. Она подергала дверь и снова повернула ручку, но он лег на койку и накрыл голову подушкой.
«Ааззаху, – думал он. Арабы знали такое слово, такой коротенький глагол, в переводе на русский значивший: «он убеждал его быть терпеливым в несчастье». – Ааззаху, – уговаривал он сам себя, – ааззаху…»
Ему казалось, что он не заснет всю ночь, но он сразу же заснул и проснулся на рассвете от того, что сначала что-то стукнуло будто бы по подушке, а затем по животу. Заспанный, с тяжелой головой, он сел на койке и увидел за окном Таню. Она бросала в него камешки.
– Доброе утро, – сказал Володя, натягивая повыше простыню, которой укрывался, взял со стула очки и надел их.
– Вставай, – сказал Таня. – Разве ты не видишь, что тебя ждет дама.
Набросив на плечи простыню, Володя захватил одежду и отошел в угол, к стене, в которой было окно, так, чтобы он не был виден Тане. Там он наспех надел штаны и рубашку и босиком подошел к окну.
– Что случилось? – спросила Таня, всовываясь глубже в окно и держась руками за раму. – Ты разговаривал с Евгением Ильичом? Он тебе что-то говорил?
– Да, – сказал Володя, немного отступив от окна в глубь комнаты.
– И ты ему поверил?
– Да, – сказал Володя. – Ему известно то… то, что он мог узнать только от тебя.
– Мне бы следовало обидеться и уйти, – сказала Таня. – Навсегда, – добавила она жестко. – Ты должен… ты на всю жизнь должен не верить ничему плохому обо мне. Если это тебе не я сама сказала. Но я не хочу тебя терять. Я ни за что не хочу тебя терять. Что бы он ни говорил, это все неправда.
– Откуда же он узнал о наших отношениях? – спросил Володя, поправляя очки.
– Глупый, – сказала Таня. – Ведь у тебя на лице все написано. По-моему, об этом вся улица знает. И все театральное население нашего города. Во всяком случае, все, кто встречал тебя в театре… Помоги же мне взобраться. А завтра скажем родителям, что я буду твоей женой.







