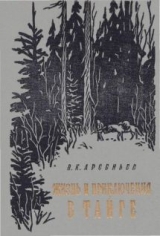
Текст книги "Жизнь и приключение в тайге"
Автор книги: Владимир Арсеньев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
5
Приведенные в предыдущих главах наблюдения и замечания, конечно, не охватывают всех сторон таланта В. К. Арсеньева и особенностей его стиля; такая задача должна составить предмет особого специального исследования. Данные же замечания имели целью показать ряд ярких и характерные примеров, как органически сочетались в творчестве В. К. Арсеньева ученый-натуралист и художник. Выдающийся писатель, мастер художественного слова, В. К. Арсеньев прежде всего превосходный и тонкий наблюдатель естествоиспытатель, сочетающий внимательность и зоркость ученого с чуткостью художника. Поэтому совершенно очевидно, как глубоко неправильно отнесение арсеньевских «Путешествий» к литературно-художественным или беллетристическим произведениям. Книги В. К. Арсеньева, так же как и книги его великого предшественника Н. М. Пржевальского, являются безусловно памятниками научной литературы и как таковые должны рассматриваться и изучаться.
«Путешествия» В. К. Арсеньева уже потому не могут рассматриваться как произведения исключительно (или хотя бы даже преимущественно) литературно-художественные и беллетристические, что в них нет основного признака беллетристической литературы – свободного вымысла. Следует глубже вдуматься в то определение таланта В. К. Арсеньева, которое сделал A. М. Горький. Как нужно понимать его замечание, что B. К. Арсеньеву «удалось объединить в себе Брэма и Купера»? Не означает ли названное в этой связи имя знаменитого американского романиста подчеркивания в творчестве Арсеньева именно беллетристического начала. Нам кажется, для такого вывода нет достаточных оснований. Брэм упомянут Горьким как один из самых замечательных изобразителей мира природы, но А. М. Горький не сумел найти аналогичное имя писателя-этнографа. Действительно, среди этнографов всего мира нельзя назвать писателя, который в этнографической литературе занимал бы такое же место, как Брэм в естественно-исторической. Таких писателей нет. Поэтому Горький привел имя писателя, в романах которого большое место занимают этнографические моменты. Имя Купера естественно возникало рядом с именем Арсеньева и потому, что вполне закономерно сближались и имена основных героев повествований того и другого: Дерсу Узала у Арсеньева и Натаниэль Бумбо («Следопыт») у Купера. Да Арсеньев и сам назвал это имя, характеризуя Дерсу. Но Горький тут же делает знаменательную ого
ворку: «Гольд написан Вами отлично, – пишет он, – для меня он более живая фигура, чем «Следопыт», более художественная» [84]. Смысл этих слов вполне понятен: Горький указывает на иное качество образа Дерсу, делающее для него этот образ живее, а потому и «художественнее» соответственного образа американского романиста. Алексей Максимович отчетливо понял реальную основу образа Дерсу, что и подчеркнул своим
противопоставлением. Куперовского «Следопыта» как таково го, то есть как реального человека, которого звали Натаниэлем и который совершил все те поступки, которые описаны в романе, и сказал все те слова, которые вложил в его уста автор, никогда не существовало. То, что рассказывает о своем герое Купер, не адекватно подлинной действительности, но является художественным обобщением ее. Не было именно этого «Следопыта», но существовал кто-то похожий на него, существовали другие, сходные с ним по характеру и образу жизни люди, которые и послужили писателю материалом для создания того привлекательного образа, которым он обессмертил свое имя. Но Дерсу Арсеньева – фигура не выдуманная, а конкретная; в повествовании о нем нет вымысла и фантастики; речи Дерсу – его подлинные речи и совершенные им поступки – действительно существовавшие факты. Горький, кстати, никогда не именовал Арсеньева «русским Фенимором Купером», как, якобы по Горькому, иногда «величают» писателя. Наоборот, Горький очень настойчиво подчеркивает документальность книг В. К. Арсеньева: их «несомненную и крупную» «научную ценность»; он был восхищен и увлечен не какими-то беллетристическими качествами книг Арсеньева, по их живой правдой и «изобразительной силой» их автора. Дерсу написан с таким мастерством и силой, что производит впечатление обобщенного художественного образа. Поэтому в мировой литературе образ Дерсу действительно занял место рядом с куперовским «Следопытом», значительно превосходя его, однако, жизненной правдой изображения. Оба эти образа обладают огромной впечатляющей силой, оба служат замечательными художественными обобщениями, но Купер достиг этой цели средствами писателя-романиста, Арсеньев – средствами писателя-этнографа. И в этом сущность того исключительного – единственного и неповторимого – положения, какое занимает в этнографической литературе В. К. Арсеньев.
Нет никаких оснований и для романтической стилизации самого Арсеньева, которая, к сожалению, нередко встречается в различных критических очерках и мемуарной литературе о нем. Таким мечтателем-романтиком изображает В. К. Арсеньева писатель В. Лидин, книги же его характеризует как «романтические мечты о тайге». В нарочито романтической интерпретации воспроизводит он и свою беседу с путешественником. «Видите ли, – сказал В. К. Арсеньев, – мне в моей работе, то есть работе писателя, всегда помогало то, что я по обязанности должен был вести дневник экспедиции. А дневник, – он слегка улыбнулся, как бы извиняясь в слабости своей романтической натуры, – это и облака, и природа, и облик тайги… ведь, в ней каждое растение особенное. Ну, а из всех этих наблюдений потом при обработке оказывается сложилась книга» [85].
Таким образом, оказывается (по прямому смыслу данного воспоминания), что первое и основное условие работы каждого путешественника – ведение путевого дневника – являлось для Арсеньева лишь вынужденной необходимостью, а разносторонность этого дневника – романтической «слабостью», которой автор его даже немного «стыдился». Так искажается реальный облик писателя-путешественника. Глубоко неправильно суждение об его книгах, как «романтических мечтаниях о тайге».
В. К. Арсеньев никогда не был поклонником «таежного экзотизма», он сумел как никто изобразить и передать суровую и дикую красоту тайги, ее величественное и пленительное обаяние, но «мечтал» он и о другом: он неизменно мечтал о победе над ее неприступностью и суровостью, мечтал о будущем оживлении края и о приобщении огромных таежных районов и их обитателей к общей культуре страны.
Романтические стилизации облика писателя-путешественника отражаются и на оценке его произведений, которые также представляются вследствие этого в ложном свете. Впрочем, в последнее время как будто уже вполне прочно устанавливается более верный взгляд на творчество В. К. Арсеньева, вытекающий из правильно понятой оценки, данной А. М. Горьким. Примером таких суждений можно привести рецензии и очерки Ю. Шестаковой. В одном из них очень верно и тонко отмечено «ощущение тесной связи с автором», которое всегда «неизбежно возникает при чтении книг Арсеньева». «Это ощущение – г, самом материале арсеньевских книг, в его строгой и доступной форме повествования, не оставляющей места для вымысла» [86].
Все сказанное относится всецело к основному труду В. К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» (который, напомним еще раз, составился из двух книг: «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала»), относительно же книги о путешествии 1908–1910 гг. («В горах Сихотэ-Алиня») необходимо сделать ряд ограничительных замечаний. М. М. Пришвин приводит слова В. К. Арсеньева о том, как было трудно ему вносить ради художественной цельности произведения какие-либо изменения в фактическую сторону: например, переносить событие на другой день и т. п. [87] На первый взгляд может казаться, что эти слова В. К. Арсеньева следует рассматривать как исходящее от самого автора свидетельство о беллетризации своих произведений. Однако это не совсем так. Во-первых, данное признание относится лишь к позднейшим произведениям В. К. Арсеньева, главным образом к очеркам и этюдам, предназначавшимся им не для научной печати, а для литературных альманахов и журналов, преимущественно для юношества. Во-вторых, даже и в этих случаях речь идет не о каких-либо элементах вымысла или изобретательства, а исключительно лишь о тех или иных частичных изменениях, продиктованных, главным образом, композиционными соображениями, то есть лишь о некоторых элементах беллетризации, не разрушающих фактической основы повествования.
Беллетризирующие моменты имеют место и в книге «В горах Сихотэ-Алиня». Но вместе с тем благодаря наличию перепечатываемых в настоящем издании первичных очерков легко убедиться, как незначительны и малосущественны такого рода случаи. Они касаются лишь отдельных частностей, совершенно не затрагивая самого существа описываемых фактов. Нужно иметь в виду еще и то обстоятельство, что эта книга осталась незавершенной, не доведенной до конца; и трудно сказать, какую форму приняла бы она при окончательной редакции. Но все же должно констатировать, что В. К. Арсеньев пытался применить в ней метод, несколько отличный от того, каким создавал он книги о путешествиях с Дерсу. Характерно, что уже в последующей книге «Сквозь тайгу» не замечается таких элементов беллетризации.
Сопоставление книги «В горах Сихотэ-Алиня» с путевыми очерками, печатавшимися в «Приамурье», дает некоторую возможность установить характер тех изменений, которые вносились В. К. Арсеньевым в его первоначальные записи. Соответственные материалы подобраны в печатаемых ниже примечаниях. Однако не всегда можно с уверенностью сказать, имеем ли мы дело действительно с изменениями или с дополнительными подробностями. Смысл и цель некоторых изменений не всегда представляются понятными. В одном из очерков упоминается о недовольстве орочей, вызванном небрежным отношением экспедиции к костям жертвенного животного. По тексту книги кости тронул Чжан-Бао, по тексту газетных очерков – кто-то из стрелков, участников экспедиции, что представляется более вероятным. Зачем понадобилось такое изменение непонятно: едва ли оно может быть объяснено какими-либо композиционными соображениями или стремлением к большей выразительности. Так как книга «В горах Сихотэ-Алиня» осталась (что уже было отмечено нами) неоконченной, то есть не вполне проверенной и уточненной, возможно, что в данном случае перед нами лишь случайная неточность. Гораздо сложнее для объяснения те расхождения, которые имеются между газетными очерками и книгой в описании голодовки на Хуту. Наиболее значительным из них является рассказ о встрече с принесшим спасение отрядом штабс-капитана Николаева. По редакции газетных очерков, Чжан-Бао покинул экспедиционный отряд, отделившись от него, и ему первому удалось встретить лодки Николаева, по тексту же книги: Чжан-Бао все время оставался в отряде; между тем в «Очерках» подробно рассказывается, как Чжан-Бао заболел и решил покинуть отряд, что и сделал. Он ушел вперед и ему первому удалось встретить группу Николаева, которому он указал точное местопребывание лагеря экспедиции. Точность и правильность газетной редакции подтверждается в полной мере рассказом И. А. Дзюля. Значение и смысл этого изменения – непонятны. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не дают возможности найти удовлетворительное объяснение данного расхождения двух редакций. Но каковы бы ни были соображения Арсеньева в данном случае, сам по себе этот факт является малосущественным и не затрагивает основного содержания как рассказа о голодовке, так и всей книги в целом. Приведенные примеры позволяют судить и о характере других, остающихся неучтенными и необнаруженными, изменений. Несомненно, и они также касаются лишь каких-то отдельных мелких частностей, а не затрагивают сути излагаемых событий и характеристик.
6
Чтобы правильнее оценить целостное значение книг Арсеньева и уяснить их сильные и слабые стороны, необходимо рассматривать их не только в связи с современной им научной литературой, но и на фоне настоящего. Почти полвека отделяет нас от экспедиций В. К. Арсеньева и его первых книг и очерков, но когда сопоставляешь ту жизнь, которая описана в его книгах, с той, участниками которой мы являемся теперь, кажется, что промежуток между ними определяется столетиями. Очень выразительно описывает эти перемены один из современных писателей Дальнего Востока и биограф В. К. Арсеньева Н. М. Рогаль: «За всю историю человечества не было отмечено столь быстрого превращения огромной мало обжитой территории в район современной передовой индустрии, транспорта и сельского хозяйства. Строительство на Дальнем Востоке не прекращалось и в годы Великой Отечественной войны. Новый, невиданный еще размах приобрело оно в послевоенные пятилетки…» «На пустынном прежде побережье от Посьета до мыса Поворотного выросли десятки первоклассных предприятий рыбной промышленности, созданы питомники пушных зверей и пятнистых оленей; развернуты крупные заготовки леса»… [88] «Близ рек, где когда-то выслеживал тигров Арсеньев, построены новые механизированные шахты, работают врубовые машины, отбойные молотки, электрифицированные подъемники подают на-гора превосходный сучанский уголь. Ярко светятся огни новой Артемовской государственной электростанции». Приханкайская низменность стала житницей Приморского края. Проложены новые железнодорожные пути, строятся новые порты, создаются крупнейшие индустриальные предприятия: «строятся корабли, производятся станки, транспортные машины, электрооборудование, высококачественный бензин и, наконец, свой дальневосточный металл» [89]. На месте жалких стойбищ выросли просторные колхозные селения, построены школы, больницы, клубы и т. д. Арсеньев всю жизнь мечтал о новой жизни в тайге и пытался представить себе те изменения, которые должны совершенно преобразить лик ее, но какими бледными представляются эти мечтания при сопоставлении с тем, что создано там теперь силой и волей советского народа. Во многом представляются устарелыми и сочинения Арсеньева; немало в них и прямых ошибок, порой весьма крупных и значительных. Частично эти ошибки обусловлены состоянием науки того времени, но главным образом они являются результатом общественного положения Арсеньева – офицера и чиновника – и неизбежно ограниченного его общественного мировоззрения. Особенно неправильными кажутся его рассуждения по вопросам социально-экономического характера, поэтому неправильно он решал и многие вопросы, касающиеся устройства края. Так, например, он с величайшей опаской относился к проекту железной дороги между Амуром и бывш. Императорской Гаванью (ныне Советская Гавань). Проектировавшийся железнодорожный путь, по его мнению, неминуемо ослабил бы обороноспособность края, так как – полагал он – в случае новой войны Гавань была бы неминуемо захвачена японцами, и железнодорожный путь дал бы им ключ к сердцу края [90]. Это опасение, которое кажется сейчас столь наивным, было вызвано его законным неверием в силы правительства, только что проигравшего военную кампанию и несумевшего отстоять Порт-Артур. Впрочем, на долю В. К. Арсеньева выпало огромное счастье: возможность убедиться в своей ошибке; впоследствии он принимал живейшее участие в обсуждении железнодорожных вариантов, прекрасно поняв их значение и роль в новых политических и социальных условиях. Неправильно решал В. К. Арсеньев и вопрос о колонизационных возможностях края, опять-таки исходя всецело из организационных возможностей и способностей царского правительственного аппарата, и совершенно упуская из вида творческую мощь народного характера. Нельзя не преклоняться перед страстной и настойчивой защитой Арсеньевым прав малых народностей, но меры, которые он предлагал, формы помощи, которые он мыслил, кажутся нам сейчас также наивными и бесполезными.
Все эти ошибки вполне понятны: он умел мыслить лишь в пределах определенного социально-политического строя и не догадывался о тех возможностях, которые откроет всем народам России грядущая революция, неизбежность которой он смутно предчувствовал. Не мог он, конечно, понять и того, что судьба малых народностей может решительно измениться лишь на путях некапиталистического развития.
Февральскую революцию Арсеньев радостно приветствовал: он принял пост «комиссара по делам туземного населения», но очень быстро убедился в абсолютном бессилии буржуазного правительства изменить что-либо в жизни малых народностей и, не видя никакой возможности принести им действительную пользу и не желая тем самым «обманывать их» (его подлинные слова), подал в отставку и снова «ушел в тайгу». Только с установлением советской власти В. К. Арсеньев вновь вернулся к административным и общественным обязанностям. В новой власти он оценил прежде всего подлинную готовность создать новые условия для тех, кого он всегда называл «обездоленными судьбой людьми»; он сердцем понял смысл и правду ленинской национальной политики и явился ее проводником среди малых народностей. Писатель Семен Бытовой воспроизводит знаменательную беседу В. К. Арсеньева с орочами, о которой поведали ему сами участники этой беседы: «Все будет, все будет! – говорил Арсеньев. – Советская власть, новый закон Ленина все дадут орочам…» «Наши экспедиции не зря через перевал ходили. Придет время, и там, где шумела тайга, где были скалистые сопки, вырастут новые города и села. Проложат железную дорогу. На Тумнин пойдут поезда»… «Все будет! Советская власть не только пробудит край, она даст жизнь новым народностям, живущим в нем. Русские люди помогут орочам, удэхейцам, нанайцам подняться из тьмы к свету. Они поведут их за собой по новому, счастливому пути» [91]. Быть может, в этом пересказе не совсем точно приведены слова В; К. Арсеньева, но мысли его переданы совершенно правильно. Таков был действительно строй его мысли в последние годы его жизни, и ими он неоднократно делился с многими из своих друзей.
В настоящее время накопилась уже значительная литература, дающая возможность в конкретных очертаниях представить себе эти новые формы жизни и все те изменения, которые так разительно изменили весь уклад жизни малых народностей. Таковы статьи М. А. Сергеева, А. М. Золотарева, очерки С. Быстового, Ю. Шестаковой, Н. Рогаля, К. Майбогова, рассказы С. Холодного и др. М. А. Сергеев очень четко подводит итоги этой новой жизни и нового культурного строительства в Уссурийской тайге: «Таежные типичные охотники, не знавшие ни пашни, ни домашних животных (кроме собаки), в колхозе завели посевы, фруктовые сады, коров. Исчезли навсегда постоянные лишения и нужда, возникла уверенность в завтрашнем дне. Прочно вошли в жизнь такие непонятные еще недавно явления, как школа и клуб, больница и ясли; с ростом культуры и зажиточности изменился и весь домашний уклад народа. Забила ключом общественная жизнь» [92].
Новые производственные отношения, сложившиеся в Уссурийской тайге, в корне изменили весь строй жизни, повлияв буквально на все ее формы. Нет ни одной стороны в быту народа, которая бы не подверглась глубочайшим изменениям. Ушло в прошлое кочевание, сложились новые формы расселения, изменился семейный уклад, изменились взаимоотношения с другими народностями и в первую очередь с русским народом; изменения коснулись типа жилищ, формы одежды, характера пищи; появились культурные навыки, но более всего изменилось мировоззрение народа: вчерашние кочевники, стоящие на уровне первобытной культуры, ныне стали активными строителями социалистической культуры.
В свете этих новых форм жизни отчетливо выясняются и основные ошибки Арсеньева, о которых частично мы уже говорили выше. Арсеньев скептически относился к мысли и возможности приучения орочей к земледелию и скотоводству. Охоту и рыболовство он считал для них извечными занятиями, главную задачу улучшения быта этих народов видел в создании таких условий, при которых наиболее процветали бы эти основные их занятия. Современная действительность показывает, как глубоко он ошибался.
К земледельческим занятиям малые народности Приморья были приведены самой жизнью. Уже во время гражданской войны отдельные стойбища робко и неуверенно приступали к усвоению земледелия. Этот момент нашел отражение и в художественной литературе. Герою романа Фадеева Сарлу удалось понудить женщин возделывать землю, но предложить это занятие мужчинам он не решился. Ныне сельское хозяйство прочно вошло в быт уссурийских и амурских малых народностей. «Никогда не знавшие сельского хозяйства удэхейцы, – пишет Ю. Шестакова, – научились обрабатывать землю. Теперь в лесной глуши поселился украинский подсолнух, растут помидоры, кавказская фасоль, муромские огурцы. Удэхейцы знают, как обращаться с домашними животными. А ведь еще не так давно доярка в их представлении была смелой женщиной, потому что не боялась рогатого зверя…» [93] Целый ряд удэхейских колхозов славится своим сельским хозяйством: «Сихотэ-Алинь-ский колхозник» (селение Акша, у устья Самарги), «Красный удэхеец» (селение Санчихеза на Бикине), «Ударный охотник» (селение Гвасюги на реке Хор) – все это арсеньевские места. Особенно успешно развилось земледелие в колхозе «Ороч» (селение Уська-Орочская). По сообщению К. Майбогова, здесь в 1946 г. колхозом было засеяно 30 гектаров овощных культур, имелось 67 голов крупного рогатого скота, 23 лошади и 40 оленей [94]. И в то же время орочские колхозники продолжали успешно заниматься и своими прежними промыслами. В том же году членами колхоза было выловлено 3200 центнеров рыбы [95]. А еще в 1939 г., то есть менее чем через 10 лет после смерти Арсеньева, гвасюгинские колхозники приняли участие в борьбе за рекордный урожай картофеля и получили право принять участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке [96].
В. К. Арсеньев, как и почти все современные ему этнографы, был убежден, что для малых народностей переход в русские избы был бы вреден и даже губителен; не представлял он себе возможности возникновения в уссурийской тайге и на побережье Амура больших национальных селений. Теперь расселение этих народностей приняло иные формы. Ушли в безвозвратное прошлое раскиданные на громадных пространствах ничтожные убогие стойбища. Ныне по всему Амуру протянулись колхозные селения нанайцев с прекрасными русскими избами. Орочи дали замечательный пример объединения в одном колхозе целого народа. Стянулись в колхозные селения и удэхейцы.
Все хорские удэ стянулись в селение Гвасюги, ангоиские – в поселок Бира и т. д. Эти селения являются в полной мере очагами новой культуры: в них имеются школы, клубы, больницы, библиотеки, кино, звучит радио и горит электрический свет. Давно уже нет и прежних корьевых шалашей. Орочи и удэхейцы живут в русских рубленых домах, – лишь некоторые упорные старики не желают признавать новых жилищ, и кое-где рядом с новыми домами как своеобразные памятники старого ушедшего быта стоят ветхие шалаши, в которых коротают свои дни представители старейшего поколения. Изменились и формы организации труда: вместо примитивной простой кооперации появились правильно организованные бригады и распространились социалистические формы труда. В быт малых народностей прочно вошли ударничество, социалистическое соревнование [97].
В романе Фадеева темный и забитый крестьянин-переселенец, не освободившийся еще из-под власти кулацкой идеологии, Иосиф Шпак требует, чтобы партизанский штаб издал приказ о выселении из тайги инородов. Этот эпизод художественно отображает один из самых тяжелых и трагических моментов старой таежной жизни. Встречи орочей и удэхейцев с русскими крестьянами-переселенцами были не всегда дружественными. Арсеньев подробно рассказывает об этом в своих книгах, но разобраться в причинах этих столкновений он не сумел и принимал за национальный антагонизм то, что являлось следствием причин социально-экономических. Его отношение к староверческому, по преимуществу кулацкому, населению было двойственно. Его подкупали трудолюбие староверов, уменье настойчиво и упорно работать, предприимчивая инициативность, заслонявшие в его глазах их хищническую сущность. Но вместе с тем он с глубоким негодованием относился к их эгоистической черствости, самомнению, ханжеству и особенно не мог им простить презрительно-пренебрежительного отношения к малым народностям. Любопытен эпизод, о котором он рассказывает в книге «Дерсу Узала». Однажды он разговорился с одним старовером, приятелем Дерсу:
– Хороший он человек, правдивый, – говорил старовер. – Одно только плохо – нехристь он, азиат, в бога не верует, а вот, поди-ка, живет на земле все равно так же, как и я. Чудно, право! И что с ним только на том свете будет?…
– Да то же, что со мной и с тобой, – ответил я ему.
– Оборони, царица небесная, – сказал старовер и перекрестился. Я истинный христианин по церкви апостольской, а он что? Нехристь. У него и души-то нет, а пар.
Старовер с пренебрежением плюнул и стал укладываться на ночь. Я распрощался с ним и пошел к своему биваку. У огня с солдатами сидел Дерсу. Взглянув на него, я сразу увидел, что он куда-то собирается.
– Ты куда? – спросил я его.
– На охоту, – отвечал он. – Моя хочу один косуля убей, надо староверу помогай, у него детей много. Моя считал – шесть есть.
«Не душа, а пар», – вспомнились мне слова старовера. Хотелось мне отговорить Дерсу ходить на охоту для этого «истинного христианина по церкви апостольской», но этим я доставил бы ему только огорчение и воздержался» (II, стр. 11–12).
Не понимая сущности сложившихся отношений, В. К. Арсеньев не мог найти и правильного выхода из создавшегося положения. Этим и объясняются некоторые его проекты устройства малых народностей.
Свою ошибку Арсеньев сумел осознать. В последние годы жизни он уже не сомневался в возможности дружной совместной работы всех народностей, обитающих в крае. Это содружество – основной признак и основная, характерная черта строительства новой жизни, созидаемой в былых таежных дебрях. Многочисленные факты свидетельствуют об огромной помощи, которую оказывают русские люди малым народностям Приморья. А. Г. Абрамов подробно рассказывает, как украинцы-переселенцы помогали налаживать новый быт удэхейцам на санчихедской поляне: «…кипела работа. Семья Ловляги, переселившаяся в Санчихеду из Кортуна, заправляла всеми работами. Удэхейцы повиновались распоряжениям исконных хлеборобов – украинцев Ловляг. Вот Нюра Инсан, подавая к молотилке снопы, ловко перехватывает их из рук Дуни Сигдэ. Она, запыленная, с растрепанными черными волосами, что-то громко говорит, стараясь перекричать шум молотилки, дородной украинке Василисе, заправлявшей снопы в молотилку.
Конным приводом управляли двое – Максим Ловляга и Федя Уксумин. Работа шла дружно» [98]. Успешное развитие молочного хозяйства среди орочей и удэхейцев обязано в значительной степени огромной помощи, оказанной русскими женщинами. И совершенно исключительной, граничащей иногда с подвигом, была в этом процессе организации форм новой жизни роль русской советской интеллигенции. Имена русских учителей Николая Павловича Сидорова у орочей и Анатолия Масликова у удэхейцев стали почти легендарными [99]. Сейчас уже возникла и выросла своя национальная интеллигенция, работающая в тесном содружестве с русскими врачами, учителями, агрономами…
Да, В. К. Арсеньев многого не предвидел и многого не учел, но по большей части эти ошибки были свойственны всему поколению ученых, к которому принадлежал В. К. Арсеньев. И, конечно, не ими определяется целостное значение книг и всего жизненного дела В. К. Арсеньева. Каковы бы ни были отдельные ошибки в его трудах, в целом они входят в золотой фонд литературы о народностях Приморья, составляя неотъемлемую часть их духовной культуры, ибо именно в них с необычайной полнотой и выразительной силой раскрыты основные черты национального характера этих народностей. Во всех своих книгах В. К. Арсеньев выступал неустанным горячим пропагандистом высоких нравственных качеств этих «лесных людей» – именно он первый открыл, какие богатые творческие силы таят они в себе. Один пример особенно характерен и поучителен. Вопреки мнениям, господствовавшим в старой военной среде, В. К. Арсеньев всегда утверждал, что малые приморские народности обладают высокими воинскими качествами». Немало найдется орочей и удэхейцев, – писал он, – которые сделают честь самым лучшим стрелкам в армии»; он утверждал, что в будущей войне они могут сыграть важную и значительную роль «в качестве великолепных лоцманов, проводников, разведчиков» [100].
Этот прогноз, продиктованный верой в великую духовную силу народа, блестяще подтвердился во время Великой Отечественной войны. Из среды орочей, удэхейцев, нанайцев, тазов действительно вышли великолепные воины, стойкие и мужественные защитники социалистической родины. Имена некоторых из них стали известны всему Советскому Союзу, как, например, имя погибшего в боях с фашистскими ордами замечательного снайпера ороча Кирилла Батума, к которому обращался с приветственным письмом И. Эренбург. Это письмо, появившееся первоначально во фронтовой газете, перепечатано в книге С. Бытового [101]. Как первоклассный снайпер прославился удэхеец Дункай из селения Сяин. Дункай окончил Ленинградский институт народов Севера и ныне работает учителем в родном селе [102]. Другой удэхеец Василий Кялундзюга был известен как выдающийся разведчик. Он участвовал во взятии Берлина, побывал в Румынии. На фронте ему, между прочим, пришлось встретиться и беседовать с Вандой Василевской, и он был назначен для ее сопровождения [103]. Как знаменитый снайпер прославился и нанаец Максим Пассар из селения Джари (на Амуре). Когда он был убит, на фронт в качестве добровольцев отправились «заменить Максима» его братья Иван и Павел [104].
Можно назвать и еще немало имен. Мы привели только наиболее выдающиеся примеры, но их достаточно, чтобы оценить вдумчивое предвидение Арсеньева. Подтверждением суждений В. К. Арсеньева о нравственных качествах и великих способностях орочей и удэхейцев (а также, конечно, нанайцев и других приморских народностей) служат и возникшие кадры национальной интеллигенции и пышный расцвет национального искусства. Песни Джанси Кимонко (удэхейца) стали народным достоянием, а его повесть прочно вошла в советскую литературу [105].
Арсеньев не знал и не представлял себе тех путей, какими пойдет народное развитие; он не мог еще понять, что всестороннее и полнокровное раскрытие заложенных в народе сил возможно лишь после социальной революции при победе социализма и демократии, – но в том, что такое раскрытие духовных сил свершится, он никогда не сомневался. Этой верой и теплой любовью овеяны все его книги и этими чувствами они заражают своих читателей. Великие художники Возрождения утверждали, что для того, чтобы стать подлинным мастером, недостаточно иметь точный глаз и уверенную руку. Нужно еще обладать чутким и отзывчивым сердцем. Это требование может быть полностью перенесено в мир науки, которая занимается. изучением человека. Этнограф не может и не имеет права быть бесстрастным наблюдателем. Таким этнографом с великим сердцем был замечательный путешественник и писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев[106].








