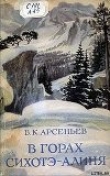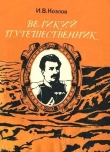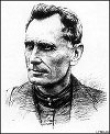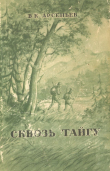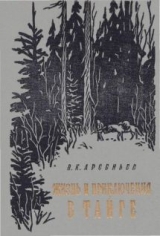
Текст книги "Жизнь и приключение в тайге"
Автор книги: Владимир Арсеньев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В. К. Арсеньев в отличие от Пржевальского и его ближайших учеников был теснейшим образом связан с местным краем. Он был не только путешественником по Дальнему Востоку, но и постоянным жителем последнего. Уроженец столицы, он именовал себя сибиряком-дальневосточником. Путешествуя по Уссурийскому краю, который был частью родной страны, Пржевальский, естественно, не мог не вмешаться как-то в его жизнь и остаться равнодушным свидетелем тех безобразных условий жизни, в которых находилось основное местное русское население – уссурийские казаки. После статей Завалишина об Амуре в печати не появлялось столь резких статей, клеймящих позорное поведение русской администрации на Дальнем Востоке, как путевые очерки Пржевальского. Статьи эти, как известно, вызвали большой шум и были сочувственно встречены всей прогрессивной печатью во главе с некрасовскими «Отечественными Записками» [22]. Но вмешательство Пржевальского в местные дела, его горячая защита русских насельников края и протест против бездушной и гибельной для края административной политики были все же до некоторой степени случайными эпизодами его биографии. И после, покинув Сибирь, Пржевальский уже более не возвращался к этому вопросу – ни в печати ни в переписке. Его влекли и манили иные, более грандиозные задачи, которые он так смело ставил и так блестяще разрешал. Для В. К. Арсеньева на первом плане стояли неизменно местные задачи, с которыми его исследования и путешествия были связаны неразрывно и органически. Он прокладывал и описывал новые пути, изучал рельеф гор и очертания берегов, устанавливал состав и характер местных лесов, изучал местную флору и фауну, наконец, с особой тщательностью изучал быт коренных насельников края и его историческое прошлое. И одновременно он разрешал важнейшие задачи, связанные с общегосударственными проблемами, главным образом с вопросами обороны края и его роли в возможной будущей войне с Японией. В центре его работ и исследований стояли проблемы стратегического характера, в свете которых он разрешал и вопросы местной экономики, и вопросы колонизации, и вопросы о формах более тесной связи Уссурийского края с жизнью всей страны, и вопросы о мерах для поднятия благосостояния обитателей края. Не все эти вопросы В. К. Арсеньев решал правильно, да ему в силу неизбежной ограниченности его политического мировоззрения в то время и не удалось бы их правильно решить, но он в отличие от многих своих современников и ближайших сотоварищей четко понимал невозможность изолированного разрешения военно-стратегических проблем без увязки их со всем комплексом вопросов жизни местного населения. Его горячая и энергичная деятельность в защиту малых народностей была вызвана и его гуманистическим мировоззрением и сознанием государственной важности правильной политики по отношению к этим народностям. Утилитарный в лучшем смысле этого слова характер имели и все его исследования в целом: он изучал условия плавания по омывающему берега Уссурийского края морю, выискивал способы упорядочения внутренних путей сообщения через суровые горные хребты и бурные горные реки и думал при этом о будущих железнодорожных и шоссейных путях, которые пересекут со временем этот суровый и великолепный край. В этом понимании своих задач основная особенность В. К. Арсеньева как путешественника. Н. Е. Кабанов с полным правом, подводя в своей монографии о В. К. Арсеньеве итоги многолетних и длительных исследований последнего, трактует их как преимущественно краеведческие [23]. Это отнюдь не лишает их общенаучного значения; его вклад в познание края является вместе с тем и крупным вкладом в общую географию, ботанику, зоологию, орнитологию, ихтиологию и особенно в этнографию. Над собранными же им коллекциями трудился ряд выдающихся ученых страны: Л. С. Берг работал над его ихтиологическими коллекциями, С. А. Бутурлин – над орнитологическими, И. В. Палибин обрабатывал ботанические сборы В. К. Арсеньева; работали над его коллекциями и другие исследователи.
Специфика арсеньевских изучений особенно наглядно проявилась в его знаменитых описаниях уссурийских лесов. Эти описания принадлежат к лучшим страницам дальневосточной краеведческой литературы, они замечательны и художественностью изображения и тщательностью естественно-исторического описания, особенно описания акатника, бархатного (пробкового) дерева, амурского винограда или папоротников [24]. «Не будучи ни ботаником ни лесоводом, – пишет более поздний исследователь, – В. К. Арсеньев тщательно отмечал общий характер растительности, границы распространения некоторых характерных растений и типов леса, не говоря уже о том, что им дана для многих диких местностей основа всякого изучения – рекогносцировочная карта» [25]. Н. Е. Кабанов также отмечает уменье В. К. Арсеньева тонко разбираться в географическом
распространении отдельных растений и важнейших для Приморья типов лесов. Границы распространения многих дальневосточных древесных и кустарниковых пород были впервые установлены лишь В. К. Арсеньевым [26].
Краеведческий характер его исследований обусловил и преобладание в них этнографических интересов, что также отличает его от Пржевальского. Впрочем, не следует чрезмерно преувеличивать этого различия, тем более что первые критики Пржевальского несправедливо и пристрастно упрекали его в полном равнодушии и даже пренебрежении к этнографическим особенностям исследуемых им стран и вообще к их населению. В отзыве Академии наук было даже особо подчеркнуто, что Пржевальский был «первым исследователем Центральной Азии, но отнюдь не оседлых обитателей ее городов и культурных оазисов». В противовес этому П. П. Семенов-Тян-Шанский в «Истории» полувековой деятельности Русского географического общества» убедительно показал, как «много обязана этнография наблюдениям Пржевальского над бытом кочевых и горных племен Средней Азии» [27]. Книга Пржевальского «Монголия и страна тангутов» входит в число важнейших источников для изучения старой Монголии и уклада жизни кочевников. Неправильны и обвинения в пренебрежении к племенам Центральной Азии, которым якобы пронизаны сочинения Пржевальского. Он действительно, как отметил П. П. Семенов-Тян-Шанский, «старался обходить» культурные центры с их китайской администрацией, но это «только потому, что наученный опытом, он не хотел приходить ни в какие соприкосновения с лицемерными китайскими властями», кроме того, «не обладая знанием туземных языков, он не мог ожидать никаких важных для науки результатов от сношений с жителями городов Центральной Азии». Отмечает П. П. Семенов-Тян-Шанский и не раз звучавшие по адресу Пржевальского обвинения в пренебрежительном отношении к китайской цивилизации и китайской исторической и географической литературе. Он возмущался лишь лживыми и продажными китайскими администраторами и очень ярко и красочно описывал их приемы грабежа населения и издевательства над ним. Сочувствие Пржевальского всегда на стороне последнего. «Гуманным был Пржевальский, – особо подчеркивает П. П. Семенов-Тян-Шанский, – и по отношению к туземцам, в которых он видел безыскусственных детей природы, которую он так любил и понимал, перенося эту любовь и на своих инородных братьев по человечеству» [28]. Суровые меры он применял лишь к тем племенам (например егра-ям), которые занимались разбоями и грабежами, подобно хунхузам в Уссурийском крае, с которыми пришлось позже столкнуться Арсеньеву, или к обманщикам-проводникам, из-за недостойного и подлого поведения которых не раз ставилась под угрозу судьба экспедиции и самая жизнь ее участников.
Подробно освещен вопрос о взаимоотношениях Пржевальского с местным населением в очерке современного исследователя Э. М. Мурзаева. «У Пржевальского нет заносчивости колонизатора, нет спеси культуртрегера. Советским читателям его произведений всегда следует помнить, что печатались они 60–70 лет тому назад, когда господствовали совсем иные общественные отношения. Пржевальский выступает всегда как друг простого народа. Дружба Пржевальского с населением Нань-Шаня просто трогательна, десятки лет хранили в одном из монастырей его портрет и почитали как святыню эту драгоценность, неизменно с любовью и уважением вспоминали храброго путешественника. Он с симпатией пишет о цельном и открытом характере монголов Халхи, он находит порицающие слова для характеристики вредного влияния представителей китайского торгового капитала и насквозь продажного китайского чиновничества в Куку-Норе, Ганьсу, Внутренней Монголии» [29].
Таким образом, нет оснований утверждать, что Пржевальский оставлял в стороне вопросы, касающиеся жизни тех народностей, с которыми он встречался во время своих путешествий, но верно то, что эти вопросы никогда не стояли в центре его внимания, для Арсеньева же они были преобладающими. Правда, в известных четырех книгах Арсеньева, посвященных описанию его путешествий, нет нигде полной и исчерпывающей картины жизни племен, населяющих Уссурийский край. Описания форм и типов семьи, особенностей материальной культуры, фольклора, верований и пр. и пр. нигде не представлены в законченной цельности, но как-то вкраплены отдельными кусками, иногда более, иногда менее подробно, но всегда лишь попутно и вне заботы и стремления дать исчерпывающее изложение затронутой темы. Но это не означало, что В. К. Арсеньев не располагал такого рода материалами или не обращал на них внимания во время своих экспедиций. Наоборот, его осведомленность в этих вопросах была совершенно исключительной и едва ли кто из лиц, занимавшихся этнографией Дальнего Востока, мог бы соперничать с ним в этом отношении. Тех, кто имел возможность ознакомиться с путевыми дневниками и записями В. К. Арсеньева, всегда поражало, какое обилие всевозможных и разнообразных этнографических материалов, находящихся в этих дневниках, осталось неиспользованным в описаниях его путешествий. В. К. Арсеньев готовил к печати специальный этнографический труд («Страна Удэхэ»), который он считал основным делом своей жизни и над которым работал, по собственному признанию, двадцать пять лет. Естественно, что, стремясь избежать повторений, он скупо вносил этнографические моменты в свои путевые очерки.
В. К. Арсеньев не боялся обобщений и теоретических рассуждений по поводу наблюдаемых им фактов. В описаниях его путешествий немало разного рода обобщений – географических, ботанических, климатологических, мало лишь обобщений этнографических. Причина коренится в том же – они должны были целиком войти в подготовляемую книгу. И сам он считал себя, как уже было сказано выше, преимущественно этнографом и археологом, подобно тому, как Пржевальский считал себя прежде всего географом и натуралистом-орнитологом. В одном из писем к Л. Я. Штернбергу, сообщая о плане построения своей книги «По Уссурийскому краю», В. К. Арсеньев писал, что видит необходимость «остановиться на одной какой-либо специальности» [30]. Этой специальностью он и избрал этнографию; археологию же рассматривал как подсобную отрасль для этнографических исследований, совершенно правильно полагая, что без параллельных археологических разысканий нельзя разрешить важнейшие этногенетические проблемы, возникающие при исследовании народностей Приамурья. Соответственно этому второй своей основной задачей он считал составление книги об археологических памятниках Уссурийского края.
Академик Л. С. Берг разделил путешественников на два типа: путешественники-романтики и путешественники-классики. К числу первых он относил Миклухо-Маклая, ко вторым – Пржевальского. Напомним подробнее это любопытное сравнение: «Миклухо-Маклай, – писал Л. С. Берг, – видел свою миссию в том, чтобы быть другом и заступником отсталых и угнетенных народов. В свое третье посещение Берега Маклая он отправился с исключительной целью – отвезти своим друзьям-папуасам обещанные подарки. Миклухо-Маклай совершил много путешествий, собрал громадные коллекции, напечатал серию весьма важных небольших статей, но главного отчета о деле всей своей жизни не успел опубликовать. Н. М. Пржевальский был человек иного склада. Он в своих путешествиях преследовал не филантропические цели, а чисто конкретные научные задачи, к выполнению которых и прилагал все усилия. Он никогда не отправлялся в новое путешествие, не представив основательного отчета о только что проделанном. Пржевальский может служить типом путешественника-классика» [31].
Это сравнение стало довольно популярным в географической литературе, однако согласиться с ним трудно. Вопрос о судьбе и характере литературного наследия Миклухо-Маклая и Пржевальского не может определять собой коренных различий их типов как путешественников. Способность быстро работать, четкость в организации своего труда, возможность довести до конца задуманные работы являются результатом не только свойств характера, но и тех условий жизни, в которых пришлось тому или другому лицу действовать. Жизнь Пржевальского сложилась так, что вся она почти без остатка заключена в его путешествиях; она как бы распадается на ряд отрезков времени, обозначенных его пятью путешествиями, промежутки же между ними посвящены работе над «отчетами» и подготовке к новым экспедициям. Иначе протекала жизнь Миклухо-Маклая. На берег, получивший затем название Берега Маклая, он вступил только ученым, исследователем-натуралистом, покинул он его борцом за права обездоленных народностей, «младших братьев» в общей семье человечества.
Л. С. Берг неправильно именовал задачи, которыми руководился Миклухо-Маклай, «филантропическими» (этот термин применял по отношению к нему и Д. Н. Анучин); великим исследователем руководили не отвлеченные «филантропические» задачи, но широкие гуманистические и принципиально-общественные идеи. Впрочем, тот же Л. С. Берг в другой своей статье, посвященной уже специально Миклухо-Маклаю, более правильно определяет основной смысл деятельности последнего: «В то время как другие географы открывали новые, доселе не известные земли, Миклухо-Маклай стремился прежде всего открыть человека среди исследовавшихся им первобытных людей, то есть, не затронутых европейской культурой народов». «Мы ценим его, – заканчивал свою характеристику Л. С. Берг, – как великого гуманиста, для которого не было высших и низших рас, как друга и защитника отсталых и угнетаемых народов, как борца за их свободу и право на самоопределение» [32]. Эта напряженная борьба, в которую весь ушел Миклухо-Маклай, действительно помешала ему так тщательно «отчитаться» в своих экспедициях, как это удалось сделать Пржевальскому; эта же борьба надорвала и физические и нравственные силы ученого, и он слишком быстро угас. По какому-то как будто злобному капризу судьбы в один и тот же год (1888) ушли из жизни оба великих путешественника, оба они скончались преждевременно и в полном расцвете сил: Пржевальский на 50-м году жизни, а Миклухо-Маклаю было всего лишь 40 лет. Миклухо-Маклай, по его собственному признанию, отошел от интересовавших его первоначально «зоологических вопросов» «ради вопросов по этнологии»; его внимание заняли всецело люди, которых застал он «в состоянии первобытного развития, не пережившего еще стадии каменного века» [33]. Но еще в большей степени его заинтересовали вопросы социальных отношений и социальной справедливости, что и привлекало усиленное внимание к его деятельности таких людей, как Лев Толстой или Тургенев.
Вопрос о сходстве и различии в деятельности обоих ученых разрешается вне проблемы «классики» и «романтики». Оба они классики, ибо их путешествия представляют образцовые и непревзойденные примеры, на которых учились целые поколения исследователей-путешественников; оба они романтики в лучшем смысле этого слова, как, например, понимал его Белинский, если разуметь под этим термином («романтизм») особую настроенность души, способность вносить в свое дело поэтическое начало и одухотворять его безграничным творческим энтузиазмом. И кто же, как не Пржевальский, с такой изумительной силой, с таким волнующим вдохновением раскрыл романтику путешествий по странам, куда редко ступала человеческая нога!
Установленные Л. С. Бергом категории бесполезны для уяснения сущности и смысла научного подвига Миклухо-Маклая, корни его не в романтическом складе характера ученого, а в той общественной среде, к которой он принадлежал. Миклухо-Маклай принадлежит к блестящей плеяде русских ученых, выросших и воспитавшихся в атмосфере идейного движения 1860-х годов; в науку он вступил одновременно с А. О. Ковалевским, И. М. Сеченовым, В. О. Ковалевским, И. И. Мечниковым, К. А. Тимирязевым и другими замечательными представителями русской науки того времени. И. П. Павлов говорил о знаменитой работе Сеченова, что она была «вкладом русского ума» в европейское естествознание. Этому замечанию следует придать расширительный характер: оно в равной степени относится и к обоим Ковалевским и к Миклухо-Маклаю, ибо все они решительно и авторитетно вписывали новые страницы в историю мировой науки. И эти новые страницы были страницами типично русскими, ибо все наши великие ученые этой эпохи – физики, биологи, физиологи, палеонтологи, антропологи – все они испытали могучее воздействие идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Герцена. Так создалась русская физиологическая школа Сеченова, русская палеонтологическая наука, возглавляемая В. О. Ковалевским, под могучим воздействием этих идей развивалась и русская этнографическая наука, наиболее ярким представителем которой был Миклухо-Маклай.
Мировая этнография дала нам ряд типов ученых-этнографов: этнографы-миссионеры; этнографы – жестокие и властные колонизаторы; этнографы – бесстрастные наблюдатели, для которых изучаемое племя – только музейный объект и, наконец, этнографы-гуманисты, никогда не забывавшие, что в своих исследованиях они имеют дело прежде всего с человеком, и для которых их этнографическая работа была тесно и органически связана с широкими общественными задачами и служила демократическим идеям. Это представители русской науки и русской традиции, таковы Потанин, Ядринцев, Штернберг и многие другие. Этот ряд имен этнографов-гуманистов, этнографов-друзей изучаемых ими народов возглавляется именем Миклухо-Маклая. В этот ряд имен включается и имя В. К. Арсеньева – типичного и яркого представителя русской этнографической школы.
Арсеньев никогда не был бесстрастным наблюдателем быта изучаемых им народностей. С первой же встречи с ними он – в отличие от многих своих предшественников – проникся глубоким сочувствием к ним и стал на всю жизнь их другом, защитником и представителем их интересов. Борьбе за улучшение их экономического и правового положения, за установление правильных воззрений на их значение в жизни страны, наконец, за гуманное отношение к ним была посвящена вся его общественная деятельность, неразрывно сочетавшаяся с научной. Особенно горячо ратовал он против установившихся ходячих представлений о малых народностях как дикарях. «Дикарей», «диких людей» и «диких народов», – заявляет он, – нет вовсе, есть народы «малокультурные» и народы «с высокой культурой»… Мышление так называемого дикаря нисколько не ниже мышления европейца… Человечество на земном шаре едино». Нетрудно узнать в этих утверждениях излюбленные мысли Миклухо-Маклая, которого, кстати сказать, В. К. Арсеньев считал одним из величайших этнографов всех времен и народов, как это неоднократно приходилось слышать от него [34]. Он мечтал, между прочим, и о некоем повторении метода Миклухо-Маклая, о чем свидетельствуют его письма к Л. Я. Штернбергу [35] и Б. М. Житкову [36].
И подобно тому как имя Миклухо-Маклая было окружено культом и преклонением у папуасов, так же благоговейно относились к имени Арсеньева орочи и удэхейцы. И по сейчас еще сохранились среди этих народностей трогательные и волнующие рассказы о путешествиях Арсеньева, о встречах с ним и о его неустанной заботе о своих «лесных друзьях». Некоторые из этих рассказов-воспоминаний уже облеклись в форму фольклорных рассказов и стали народной легендой, как всегда таящей под внешне неправдоподобной оболочкой глубокую внутреннюю правду.
У В. К. Арсеньева было немало завистников и недоброжелателей. Пишущему эти строки не раз приходилось слышать скептические замечания о путешествиях Арсеньева и наблюдать стремление снизить их значение и результаты. Неоднократно приходилось слышать о великом счастье, «привалившем» Арсеньеву в виде встречи с Дерсу; что без этой встречи Арсеньев никогда бы не мог благополучно довершить своих экспедиций и что вообще без помощи орочей и удэхейцев он бы очень скоро погиб. В такого рода утверждениях, как и вообще во всяких рассказах об «удачах» и «случайном счастье» выдающихся деятелей, всегда слишком много преувеличений. Но если бы даже и действительно было так, то и в этом следует видеть огромное значение нравственного облика путешественника. Нужно быть Арсеньевым, чтобы сразу понять, оценить и глубоко полюбить такого человека, как Дерсу, нужно быть Арсеньевым, чтоб завоевать любовь и преклонение всех этих обездоленных людей. Орочи и удэхейцы действительно не раз приходили на помощь В. К. Арсеньеву в самые трудные моменты его путешествий и действительно не раз спасали от гибели. Но нелепо видеть в таких фактах только «великую удачу» и «слепое счастье» Арсеньева, наоборот, все такие случаи были вполне закономерны. Арсеньев очень быстро стал популярен у местных обитателей и быстро завоевал их любовь и доверие. На всей территории огромного края гольды, орочи, удэхейцы и бедняки-китайцы следили из своих раскиданных по тайге и побережью юрт и балаганов за маршрутами Арсеньева, готовые немедля кинуться ему на помощь, как только появятся малейшие признаки, внушающие тревогу или подозрение о возможном несчастье. Экспедиционное снаряжение Арсеньева было сплошь и рядом небогато и даже скудно; его экспедиции, как мы будем говорить далее, организовывались в полном смысле слова «на гроши», его современники не раз удивлялись, как можно было при таких скудных средствах добиться таких богатых результатов [37], но его экспедиции в отличие от многих других были сильны тем, что их сопровождала народная забота.
3
Из всех экспедиций по Уссурийскому краю самими популярными и наиболее известными являются его экспедиции 1902–1907 гг. Причины эти вполне понятны: эти экспедиции связаны с именем Дерсу Узала, образ которого стоит в центре повествования В. К. Арсеньева и чье имя как бы слилось с именем путешественника. Но самой значительной, самой большой по 'времени, по количеству пройденных километров, по научному значению и по значению, наконец, для самого исследователя была Сихотэ-Алиньская экспедиция 1908–1910 гг.
Эта экспедиция самая замечательная из всех экспедиций В. К. Арсеньева; она была не только наиболее длительной, но и наиболее трудной. Организована она была Приамурским отделом Русского географического общества; денежные средства были предоставлены главным образом Штабом военного округа, поставившим перед экспедицией ряд особых задач, связанных с вопросами обороны края. В составленном В. К. Арсеньевым отчете подчеркнуто, что целью экспедиции были естественно-исторические исследования; по вполне понятным причинам он не мог и не имел права упоминать о других задачах.
Районом работ экспедиции была северная часть Уссурийского края: с одной стороны, река Амур и низовья Уссури, с другой-побережье Татарского пролива; с юга – река Самарга и Хади; на севере – озеро Кизи. «В этих местах, – писал В. К. Арсеньев, – горная область Сихотэ-Алиня являлась водоразделом между бассейнами рек Тумнина, Копи и Самарги, текущих в море, и бассейнами рек Хунгари, Хора и Анюя, несущих свои воды к Амуру. Несмотря на более чем полувековой период, отделяющий наше время от того времени, когда русские впервые вступили на эту территорию, к ней более чем применимо выражение Terra incognita (земля неведомая)» [38]. В своем «Отчете» В. К. Арсеньев противопоставлял пути сообщения двух частей Уссурийского края: южной и северной – в южной части проходит железная дорога, имелись почтовые тракты, грузовые и проселочные дороги; наконец, эта часть края изобиловала «бессчисленным множеством троп, проложенных китайскими охотниками в поисках женьшеня или в погоне за соболем». Такие тропы избороздили край в различных направлениях: «в каждой долине, в глухих горах, в любом ключике всегда можно найти тропинку, которая непременно приведет путника к маленькой зверовой фанзочке» [39].
Совсем другую картину представляла тогда северная часть края. Сейчас она перерезана железной дорогой, соединившей берег Амура с побережьем Татарского пролива, по автотрассам мчатся грузовые и легковые машины, но во времена Арсеньева там не было никаких дорог; там были только дорожки, протоптанные лосями вдоль горных хребтов, «по гольцам и осыпям». Но руководствоваться ими было нельзя, ибо они неизбежно завели бы «в такие дебри, откуда назад выбраться будет уже невозможно».
Южная часть края была сравнительно плотно заселена: там жили русские – крестьяне-переселенцы и казаки, – нанайцы (гольдьи), тазы, корейцы, китайцы; та же часть края, куда направилась экспедиция В. К. Арсеньева, представляла собой (за исключением районов Де-Кастри и Советской Гавани), по образному выражению одного из предшественников В. К. Арсеньева, «лесную пустыню». «Целыми неделями можно итти и нигде не встретить ни единой души человеческой! Только по большим рекам можно еще кое-где найти крытые корьем и берестой полуразвалившиеся юрточки орочей-удэхе, но стойбища их разбросаны и далеко отстоят друг от друга, и, наконец, места обитаний их так непостоянны, что на эту встречу не всегда можно рассчитывать» [40].
Экспедиционный отряд состоял из двенадцати человек; с B. К. Арсеньевым пошли: ботаник Н. А. Десулави, геолог C. Ф. Гусев, охотник-любитель И. А. Дзюль; помощником В. К. Арсеньева был штабс-капитан Николаев, которому поручили организовать заброску продуктов в различные места следования экспедиции. В пути присоединился спутник В. К. Арсеньева в его прежних экспедициях китаец Чжан-Бао (Дзен-Пау). Николаев в сопровождении шести человек отправился в Советскую Гавань для организации питательных баз, и отряд
В. К. Арсеньева в течение первых месяцев состоял из семи, а за скорым отъездом Десулави из шести человек. На различных участках пути к отряду присоединялись в качестве проводников нанайцы, орочи и удэхейцы.
Отряд В. К. Арсеньева шел следующим путем: от Амура он вышел на реку Анюй, затем, перевалив через хребет, отправился по направлению к реке Хуту, где должна была произойти встреча с Николаевым. Встреча эта произошла с большим опозданием, что едва не привело к трагическому исходу. «Опоздай еще штабс-капитан Николаев суток на двое, – писал в «Отчете» В. К. Арсеньев, – и, вероятно, трех четвертей людей не досчитались бы живыми. Только в конце сентября люди оправились настолько, что были в силах продолжать овое путешествие». Прибытием в Советскую Гавань закончился первый этап путешествия.
Из Советской Гавани Арсеньев пошел к югу, вдоль побережья; в октябре экспедиция достигла мыса Туманного и устья реки Самарги. Конец октября и весь ноябрь были посвящены изучению реки Адами, низовьев Самарги и других маленьких речек этого района. Вот этот путь и описан в его очерках «Из путевого дневника», печатавшихся в газете «Приамурье» и в книге «В горах Сихотэ-Алиня», но и газетные очерки и книга не охватывают всего пройденного экспедицией пути. Первые обрываются приходом на Самаргу, то есть октябрем 1908 г.; изложение путешествия в книге «В горах Сихотэ-Алиня» доведено лишь до конца июля 1909 г. Дальнейший путь экспедиции, во время которого Сихотэ-Алинь был пересечен еще пять раз, не нашел отражения в работах В. К. Арсеньева, сохранилось лишь несколько очерков, из которых самому описанию пути посвящено только два: «Мыс Сюркум» и «Зимний поход по реке Хунгари», в остальных нашли отражение лишь отдельные эпизоды, чем-либо привлекшие внимание путешественника («Птичий базар» и др.). Каждый из этих очерков – превосходная миниатюра, они свидетельствуют, как уверенно росло и зрело писательское мастерство В. К. Арсеньева, но они не вносят каких-либо существенно новых моментов в повествование. И только сравнительно скупые и сдержанные страницы небольшого печатного «Отчета» позволяют в полной мере охватить весь путь экспедиции и оценить огромную самоотверженную работу отряда. В собрание сочинений В. К. Арсеньева эти «отчеты» не включены, широким кругам читателей они малодоступны, поэтому следует привести подробную выдержку из них. По данным «Отчета» дальнейший путь экспедиции рисуется в следующем виде: с речки Копи путешественники решили направиться на орочских лодках снова в Советскую Гавань; сильная буря, заставшая их в пути, разрушила этот план. Лодка разбилась, отряду же удалось выброситься на берег около мыса Кекурного, отсюда В. К. Арсеньев со своими спутниками в начале мая прибыл пешком на Николаевский маяк. Из Советской Гавани экспедиция направилась в залив Де-Кастри. Этот маршрут, продолжавшийся около полутора месяцев, частично описан в очерке «Мыс Сюркум». От залива Де-Кастри В. К. Арсеньев пошел на озеро Кизи и вновь дошел до хребта. Этот перевал был назван им именем Русского географического общества. Отсюда сто маленьким речушкам он вновь спустился к Тумнину и в конце июля был снова в Советской Гавани. «Этот маршрут, – писал В. К. Арсеньев, – был самым счастливым, самым легким и совершен без всяких приключений» [41].
В течение всего августа месяца (1909 г.) В. К. Арсеньев исследовал небольшие речки, впадающие в Татарский пролив, вблизи Советской Гавани: речки Хади, Тутто, Ма, Уй, Чжуанко. Осенью был начат последний и самый тяжелый маршрут от моря к селению Иннокентьевскому на реке Амуре (устье реки Хайдур).
К этому времени отряд В. К. Арсеньева значительно сократился. Ботаник Десулави покинул отряд еще в самом начале экспедиции; геолога С. Ф. Гусева, с трудом переносившего тяжелые условия таежного странствования, В. К. Арсеньев отправил обратно после голодовки на Хуту; с ним вместе вернулся в Хабаровск и И. А. Дзюль. Один за другим уходили из отряда стрелки и казаки: кто по болезни, кто за окончанием срока службы. К исходу 1909 г. В. К. Арсеньев «остался один с двумя стрелками – Ильей Рожковым и Павлом Ноздриным». Имена этих спутников и сподвижников В. К. Арсеньева (к ним нужно еще присоединить казака Крылова) должны быть также сохранены в памяти потомства, как имена спутников Пржевальского – казака Пантелея Телешова, Дондона Иринчинова и др.[42].