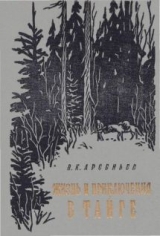
Текст книги "Жизнь и приключение в тайге"
Автор книги: Владимир Арсеньев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но в июле 1915 г. книга была еще только закончена в основном, необходимо было проверить и уточнить некоторые научные данные, особенно ботаническую часть, без чего он не считал возможным направить книгу в печать. Эта «правка» велась им с помощью научных друзей. В письмах 1915 и 1916 гг. он неоднократно упоминает о ведущейся им «корректуре» рукописи.
В конце 1916 г. эта «корректура» была уже вполне закончена; в письмах к друзьям и знакомым он неоднократно упоминает о размерах своего труда, каждый раз приводя более точную цифру числа страниц. В одном из писем ко мне он называл еще суммарно число: «около 1000 страниц», несколько позже в письме к Л. Я. Штернбергу – 800 страниц и, наконец, в письме к С. М. Широкогорову, относящемуся к последним дням 1916 г., уже, видимо, совершенно точно, называет: 838 страниц. Из этих же писем выясняется, что в 1916 г. им были закончены обе книги: и «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». В одном из писем 1916 г. он сообщает о невозможности «из-за отсутствия бумаги» приступить к печатанию книг. Таким образом, нужно отмести все различные сроки окончания этих работ, встречающихся в разных статьях и очерках об Арсеньеве, и считать годом окончательного завершения их 1916 г.
Все эти факты совершенно точно и ясно свидетельствуют о настойчивой, собранной воле В. К. Арсеньева; о его совершенно четких и вполне продуманных литературно-научных замыслах; о его исключительной трудоспособности; о безукоризненном умении организовывать свой труд и свое время. Одновременно рушатся и легенды о каких-то колебаниях Арсеньева, о длительных поисках литературной формы и о чьих-то «добрых советах», разрешивших все его сомнения и колебания. Печатающиеся в настоящем издании очерки «Из путевого дневника» особенно показательны в этом отношении; они написаны в той же литературной манере, что и поздние его книги, и, таким образом, свидетельствуют, насколько органична была для Арсеньева избранная им форма и что эта форма была им найдена сразу, без предварительных колебаний и каких-то указаний или советов извне. Разница между этими очерками и позднейшими, составившими две его книги о путешествиях по Уссурийскому краю, не качественная, а, так сказать, количественная, то есть, не в методе изложения, а лишь в степени зрелости и совершенства мастерства. Крепнул художественный талант, увереннее стала рука, все более и более обогащалась его литературная палитра, но метод подачи материала, форма его оставалась неизменной. В существующей биографической литературе господствует почти нераздельно убеждение, что как писатель В. К. Арсеньев проявил себя лишь в книге «В дебрях Уссурийского края», первые же его работы (в том числе и книга «По Уссурийскому краю») имели только научное значение, но не литературное. Н. Е. Кабанов утверждает, что «только со времени получения письма от А. М. Горького он (В. К. Арсеньев) начал заниматься более углубленной отделкой своих книг: «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» [53]. Это утверждение стоит в противоречии с известными хронологическими фактами. Ведь переработка В. К. Арсеньевым двух книг о путешествиях с Дерсу и объединение их в одну была закончена им еще до получения письма от А. М. Горького. Новое, переработанное издание под заглавием «В дебрях Уссурийского края» вышло в 1926 г., письмо же Алексея Максимовича было написано в 1928 г. и явилось результатом его знакомства именно с этим изданием, которое послал ему в Сорренто писатель М. М. Пришвин. Об этом подробно рассказывает сам Н. Е. Кабанов, опровергая тем самым свое утверждение о роли письма Горького в истории создания ставшей знаменитой книги Арсеньева [54].
Горький сыграл огромную роль в жизни В. К. Арсеньева. Он помог ему иными глазами взглянуть на свое писательское дарование и тем самым глубже осознать самого себя; он содействовал широкому признанию Арсеньева и его выходу из местной краеведческой печати в «большую литературу»; он разъяснил самым широким кругам советских читателей значение Арсеньева и первый дал правильную оценку его как писателя, с необычайной глубиной раскрыв и определив сущность его творчества. Но как писатель Арсеньев сложился еще до встречи с Горьким (то есть, вернее, до письма к нему Горького, ибо личной встречи, о которой так мечтал Владимир Клавдиевич, так и не произошло) – это должно быть установлено вполне определенно, иначе в неправильном свете изображается творческий путь В. К. Арсеньева и неясной представляется роль Горького в его литературной судьбе и репутации.
Неправильно и другое, также очень распространенное, суждение о коренном различии первой и последующей редакции книг В. К. Арсеньева о путешествиях 1902–1907 гг. Вторая редакция вовсе не является коренной переработкой в каком-нибудь новом плане, но сводится лишь к некоторым изменениям в составе и содержании книги. «Переработка» свелась лишь к ряду сокращений и некоторым упрощениям: исключены латинские названия, сокращены некоторые технические подробности, опущены или очень сокращены (к сожалению) страницы, касающиеся методики и техники путешествия, исключены, наконец, некоторые эпизоды или приведены в сокращенном виде. Сам В. К. Арсеньев рассматривал вторую редакцию именно как «краткое изложение» первой, в этом духе он неоднократно высказывался и в письмах. «В дебрях Уссурийского края» я Вам. не посылал, – писал он автору настоящей статьи, – потому что она есть краткое изложение первых двух книг, которые Вы уже имеете от меня с авторскими надписями». И действительно, по методу обе эти редакции вполне идентичны; и та и другая написаны в форме художественных очерков, в которых географические, геологические, биологические и этнографические описания чередуются с рассказами об отдельных эпизодах путешествия, где описания ландшафтов перемежаются с изображениями и характеристиками людей и где в основную ткань научного повествования вплетены страницы лирики и раздумий. Вся книга построена в форме живого рассказа, делающей научную тему и необычайно легкой для усвоения и увлекательной. Идентичность художественного метода и композиционное единство обеих редакций наглядно иллюстрируется и заглавиями отдельных глав и особенно подзаголовками, которые даны в первой редакции. Вот, для примера, несколько таких заглавий и подзаголовков: Глава I. Стеклянная Падь (Бухта Майтун. Село Шкотово. Река Бэйца. Встреча с пантерой. Дадянь-шань. Изюбри). Глава II. Встреча с Дерсу (Бивак в лесу. Ночной гость. Бессонная ночь. Рассвет). Глава III. Охота на кабанов (Изучение следов. Забота о путнике. Зверовая фанза. Гора Тудинза и верховья Лефу. Кабаны. Анимизм Дерсу). Глава IV. Пурга на озере Ханка (Исторические и географические сведения об озере Ханка. Торопливый перелет птиц. Заблудились. Пурга. Шалаш из травы. Возвращение на бивак). В этих перебоях подзаголовков с полной ясностью и отчетливостью раскрывается сущность композиционного замысла писателя и метод изложения. Это отдельные рассказы, где научные наблюдения чередуются и перемежаются с эпизодами жизни экспедиционного отряда в пути и на биваках. Эти заглавия и подзаголовки сохранены почти без изменений и в новой редакции, вполне соответствуя содержанию и порядку изложения книги. Тот же метод и та же форма очерков – в корреспонденциях 1908–1910 гг., что и показывает, как уже было сказано выше, органичность этой формы для Арсеньева.
Особенности арсеньевского художественного метода и стиля выразились в наиболее раннем его произведении – в «Отчете о деятельности Владивостокского Общества любителей охоты» (1905). Этот «Отчет» является первым известным нам печатным трудом В. К. Арсеньева. Н. Е. Кабанов сообщает, что при своем появлении он получил большую популярность, но потом оказался совершенно забытым. Ныне этот «Отчет» перепечатан (с некоторыми сокращениями) в собрании сочинений В. К. Арсеньева [55]. Нельзя только согласиться с той аннотацией, которая предпослана ему редакцией. «Эта работа представляет интерес, – говорится в редакционном предисловии, – сообщением данных о пятнистом олене, получившем в годы советской власти исключительное развитие в виде многих пантовых звероводческих хозяйств» [56]. Такой оценкой очень снижается значение этого раннего произведения Арсеньева, тем более что, тому вопросу, который выделен редакцией, посвящено всего одиннадцать страничек. Значение и смысл данного «Отчета» гораздо глубже: в нем даны обильные сведения не только о пятнистых оленях, но и о других представителях животного мира Уссурийского края, а также о формах организации охоты, об охране фауны края и проч. Но наиболее интересен этот «Отчет», как яркое свидетельство о научно-творческом облике молодого Арсеньева. В этом полуофициальном документе уже чувствуется будущий знаменитый путешественник и писатель: тщательность описаний, вдумчивые наблюдения, разносторонность сообщаемых фактов делают этот отчет, как и каждую последующую его книгу, незаменимым (и отнюдь не устаревшим) источником для географа, этнографа, натуралиста, экономиста-практика. Наконец, в нем уже сказывается и своеобразная писательская манера Арсеньева, в которой так счастливо сочетались органически и неразрывно исследователь и художник. В качестве примера можно указать страницы, посвященные описанию местных охотничьих собак, описание охоты на изюбря, перелетов птиц, характеристика подлинного зверопромышленника и «промышленника», встреча с которым в тайге «опаснее встречи со зверем», и т. д.
Описание двух типов «промышленников» особенно интересно: оно свидетельствует о живой наблюдательности молодого автора, его зоркости, цепкости памяти и рано сложившегося уменья давать четкие описания; «Зверопромышленник – это человек, живущий почти исключительно охотой и только досуг свой посвящающий хозяйству. В большинстве случаев хозяйством его ведает отец, брат или кто-нибудь из близких родственников. Весьма интересно ходить с ним на охоту. У этих людей на все имеются интересные приемы и сноровка, выработанные долголетним охотничьим опытом и практикой. Где держится зверь, как его обойти, где искать подранка, уменье различать след зверя и его свежесть, способность быстро ориентироваться и принимать соответствующие решения, угадывать намерения зверя, отличное зрение и тонкий слух, дающие возможность распознавать тайгу и читать ее жизнь как знакомую открытую книгу, способность найти пропитание, устроиться на ночь во всякую погоду, уменье быстро скрадывать зверя без всякого шума, подражать крику животных – вот отличительные качества и черты охотника-зверопромышленника» [57]. Арсеньев в этом очерке еще не дает полной воли своему художественному темпераменту. Но последний порой все же прорывается наружу, и страницы официального отчета начинают звучать, как поэма. Ярко обнаруживается здесь и поразительное арсеньевское чутье к природе: художественно эмоциональное ее восприятие и страстная влюбленность в нее. Вот, например, один отрывок: «…В это время тайга живет и дышит. Рев изюбрей, крепкие удары их рогов, фырканье рыси, лай красных волков, крик кабарги и рев тигра – все это стоит несмолкаемым гомоном в лесу от заката до утреннего рассвета. Целую ночь этот стон тайги (курсив наш. – М. А.) не дает сомкнуть глаза охотнику. Для охотника-любителя это самое интересное время, воспоминания и впечатление которого останутся в памяти на всю жизнь» [58].
Мы подробно остановились на этом раннем «отчете», так как он служит убедительным опровержением утверждений о позднем формировании литературного таланта Арсеньева и поздней выработки его литературной манеры.
Художественный темперамент автора проявляется и в «Кратком очерке»: таковы описания тайги, почти целиком перенесенные из очерков, печатавшихся в «Приамурье», описания таежных балаганов и некоторые другие. Маленьким шедевром является среди них описание «поединков рыб (кеты)» «…они (самцы) гуляют спокойно, пока не появятся самки. Как раз к этому времени у самцов появляются большие острые клыки. Тогда начинаются поединки: эти рыбы донельзя драчливы. Я видел раз, как один самец схватил другого за спинку, и так обе рыбы шли не разделяясь, по крайней мере около двухсот шагов… Когда рыбы дерутся, они настолько ослеплены бывают яростью, что не замечают приближения человека. Обыкновенно в таких случаях надо бить нижнюю рыбу. Она думает (курсив наш. – М. А.), что боль причиняет ей другая (верхняя) и с своей стороны с еще большей яростью кусает ее» и т. д.[59].
Эти особенности писательской манеры Арсеньева привели некоторых исследователей и критиков к ложным представлениям о характере и природе основных книг В. К. Арсеньева и о месте их в географической литературе; их относят не к научным сочинениям в собственном смысле слова, а к произведениям «литературно-художественным» и даже «беллетристическим». В библиографическом указателе русской охотничьей литературы (1929), вошедшем в состав пятитомных «Основ охотоведения» Д. К. Соловьева, сочинения В. К. Арсеньева включены в раздел «охотничьей беллетристики» [60]; близок к такому пониманию и Н. Е. Кабанов, который в своем обзоре «вклада В. К. Арсеньева в науку и литературу» рассматривает его книги о путешествиях исключительно как «литературно-художественные произведения». В проспекте шеститомного собрания сочинений В. К. Арсеньева книга «Дерсу Узала» названа повестью («Повесть о гольде – спутнике В. К. Арсеньева в путешествиях») [61]. Н. Е. Кабанов дал и обоснование этой точки зрения. «В самом деле, – пишет он, – кому может притти мысль, считаем ли мы Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова да и многих других, оставивших нам незабываемые описания своих путешествий, писателями. Конечно нет, мы считаем их учеными, исследователями, географами, путешественниками и пр.» [62] (курсив наш. – М. А.). Арсеньев же, по мнению автора, является ученым путешественником и исследователем лишь в своих ранних произведениях и в первой редакции книг о путешествиях с Дерсу, но в последующих сочинениях (в том числе и главным образом в книге «В дебрях Уссурийского края») он выступает уже как писатель. Так произошло странное и неожиданное исключение из науки трудов замечательного путешественника и перевод их в беллетристику, а отсюда были сделаны уже дальнейшие выводы. К книгам В. К. Арсеньева стали подходить с совершенно иными критериями и требованиями, окончательно ломающими представление об их научном качестве. На страницах дальневосточной печати раздавались голоса об «узости рамок, которыми себя ограничил» В. К. Арсеньев, об одностороннем по-показе края, об отсутствии интереса к городской жизни и жизни населения вблизи железной дороги; его упрекали, наконец, в пристрастии к таежной экзотике и т. д. [63] Едва ли возможно считать такие упреки закономерными и обоснованными, они были бы вполне уместны, если бы речь действительно шла о писателе-беллетристе, свободно избирающем свои темы и столь же свободным в выборе образов для показа особенностей края, который он стремится изобразить в своем творчестве, но они совершенно незаконны в применении к книгам путешественника, связанного своим материалом и обязанного описывать лишь то, что входило в поле его зрения во время путешествия. Арсеньева упрекали и в романтизировании Дерсу, забывая при этом, что Дерсу портрет не литературный, а (как это правильно указал Горький) реальный образ живого человека; романтический же ореол создан читателями и, следует добавить, критиками, забывшими о реальной сущности Дерсу.
Противопоставление, которое делается между Арсеньевым и Пржевальским, является не только глубоко ошибочным, но опасным, ибо внушает ложные представления о характере научного творчества обоих путешественников.
О литературной манере Пржевальского писали и упоминали почти все его биографы и авторы статей о нем, но до сих пор нет специальной работы, посвященной этой теме. Внимание исследователей останавливалось преимущественно на общем типе сочинений Пржевальского и их составе. Сравнительная характеристика сочинений Пржевальского, Певцова и Потанина находится в книге академика В. А. Обручева о Потанине: «Путевые отчеты всех трех пионеров, – пишет автор, – являются настольными книгами современного натуралиста, занимающегося изучением природы и жителей внутренней Азии, не только географа и этнографа, но и геолога, зоолога, ботаника, даже климатолога и археолога». «Но эти путевые отчеты, – указывает далее В. А. Обручев, – неодинаковы: у Потанина и Певцова даны более точные характеристики местности, более детальные данные о виденном и слышанном, у Пржевальского – «более красивые описания природы, более интересное изложение хода путешествия, путевых встреч, охотничьих приключений» [64]. Современный исследователь-географ, редактор новейших переизданий книг Пржевальского Э. М. Мурзаев еще более резко противопоставляет книги Потанина и Пржевальского. По его мнению, «Очерки Северо-Западной Монголии» читать и трудно и «порой скучно». «В деталях, представляющих большой научный интерес, слабо проглядывает романтика путешествия. жизнь экспедиции, ее люди и быт. Здесь нет и обобщающих тематических разделов; это только полевые дневники, очень нужные и полезные, но требующие еще окончательной обработки» [65]. Нам представляется несколько преувеличенной такая характеристика сухости «Очерков Северо-Западной Монголии» Потанина, но основное различие уловлено автором правильно. Книги Пржевальского пленяют сочетанием строгой научной точности с живым и ярким изложением, пленяют и чаруют исключительной свежестью восприятия природы и энтузиастическим отношением к ней, они пленительны, наконец, великолепным русским языком, которым в совершенстве владеет их автор.
Книги, совершившие переворот в географии, принадлежащие, бесспорно, к самым выдающимся памятникам научной географической литературы, являются вместе с тем и увлекательнейшим чтением, доступным любому читателю [66]. Страницы, посвященные обстоятельным и точным описаниям пройденного пути, чередуются с поэтическими описаниями природы, с философскими раздумьями, с лирическими переживаниями, вызванными созерцанием природы и чувством тоски по оставшейся вдали родине; гневные обличения продажной и лживой китайской администрации чередуются с выражением теплого участия и глубокого человеческого сочувствия к судьбе забытых кочевников, и, наконец, повсюду вкраплены страницы полные нежного и мягкого юмора, особенно в тех случаях, когда он говорит о повадках и нравах птиц или зверей. Незабываемы его описания нахальных и вороватых ворон, беспредельно любопытных монгольских пищух (оготоно) или элегантных любезников журавлей. Во всем прославленном сочинении Брэма не найдется ни одной строчки, которую можно было бы поставить рядом с этими выразительными, художественными страницами, пронизанными и согретыми каким-то особенно человеческим отношением к миру животных. Позволю себе привести два примера. Вот описание пищухи: «В характере пищухи сильно преобладает любопытство. Завидя подходящего человека или собаку, этот зверек подпускает к себе шагов на 10 и затем мгновенно скрывается в норе. Но любопытство берет верх над страхом. Через несколько минут из той же самой норы снова показывается головка зверька, и если предмет страха удаляется, то оготоно тотчас же вылезает и снова занимает свое прежнее место» [67].
Другой пример – «пляска журавлей» – описание «забавных плясок», которые затевают журавли «для развлечения и удовольствия своих любимых подруг». Это описание является подлинным шедевром художественно-научной литературы. «Ранним утром и в особенности перед вечером, – рассказывает Пржевальский, – журавли слетаются на условное место и, покричав здесь немного, принимаются за пляску. Для этого они образуют круг, внутри которого находится собственно арена, предназначенная для танцев. Сюда выходят один или два из присутствующих, прыгают, кивают головой, приседают, подскакивают вверх, машут крыльями и вообще всякими манерами стараются показать свою ловкость и искусство. Остальные присутствующие в это время смотрят на них, но немного погодя сменяют усталых, которые в свою очередь делаются зрителями. Такая пляска продолжается иногда часа два, пока, наконец, с наступлением сумерек утомленные танцоры закричат хором во все горло и разлетятся на ночь по своим владениям. А затем, – заканчивает он эту чудесную жанровую картинку, – «любезные кавалеры», изо всех сил стараются не упустить ни одного случая «выказать любезность» перед своими самками, тогда как их «более положительные супруги» «занимаются проглатыванием пойманных лягушек» [68]. И параллельно этому с глубоким сочувствием и состраданием описывает он скорбь журавля, потерявшего свою подругу, который, убедившись, наконец, в бесполезности своих поисков, решается покинуть это место [69].
Но с наибольшей силой художественное дарование и изобразительное мастерство Пржевальского проявилось в его описаниях пейзажей. К. А. Тимирязев любил говорить о существующем особом и «неразгаданном» «чувстве природы»: его «не берется выразить словом поэт, – говорит он, – в нем не в состоянии разобраться ученый», но оно сближает всех людей и в нем заложен какой-то «безотчетный», широкий патриотизм, соединенный с высокой «любовью к человеку» [70]. «Среди природы, – утверждал К. А. Тимирязев, – более чуток человек и к человеческому горю». В качестве великих примеров подлинной «простой и здоровой» любви к природе, сочетающейся с глубокой любовью к человеку, он приводил имена Тургенева, Некрасова, Мицкевича, Руссо и Байрона [71]. Этот круг имен можно, конечно, значительно увеличить, одно из первых мест в этом ряду должно бы занять имя Пржевальского, по поводу которого вполне уместно вспомнить один глубокий афоризм того же К. А. Тимирязева: «Все великие ученые были в известном смысле великими художниками» [72]. Значительность и вескость этого замечания усугубляется тем, что оно находится в статье, озаглавленной «Наука и обязанности гражданина».
Первым литературным опытом Пржевальского были «Воспоминания охотника», написанные им, когда ему исполнилось 23 года, и затерявшиеся на страницах специального журнала «Коннозаводство и охота». В дни столетнего юбилея Пржевальского они были, перепечатаны в «Известиях географического общества», но достоянием широких кругов читателей так и не стали. Между тем этот ранний очерк Пржевальского весьма примечателен: он поражает четкостью описаний, уменьем разложить свои переживания на отдельные элементы и тем дать как бы полный отчет о них, отчетливой и тщательной передачей красок и их различных оттенков и необычайной искренностью и страстностью тона и глубоким сознанием живой гармонии природы. Наивысшего же мастерства достигал он в изображении и передаче звуков, что, как известно, редко удавалось самым прославленным мастерам-пейзажистам. Ввиду малой известности этого очерка позволю себе привести одну, быть может, слишком обширную, но зато чрезвычайно характерную цитату… «Чудная весенняя ночь обнимала всю природу. Великолепным пологом раскинулось надо мной безоблачное небо, усеянное мириадами звезд; алый цвет вечерней зари догорал на западе. Это была не безмолвно мертвая осенняя или зимняя ночь, – нет, ее таинственная тишина была полна жизни, которой звуки слышались всюду вокруг меня. Дивными трелями, с тысячью перекатов, раздавался ночной соловей, то тихо, едва слышно, то доходя до самых высоких мотивов. Долго я слушал только одну эту песнь и на память невольно пришло известное описание ее Аксаковым…
Но не один соловей оживлял так эту ночь; дикий барашек (бекас) блеял над болотом; наигравшись вдоволь в поднебесье, он опускался на землю и страстным голосом манил свою самку. Деркачи и погоныши кричали, не умолкая, по временам раздавался тоскливый голос чибиса, выпь гудел в болоте, и голос его казался каким-то зловещим звуком; в лесу гукал филин. И все эти звуки, сливаясь в одно стройное целое, давали живо чувствовать гармонию жизни природы и вызывали тихое, ничем невозмутимое наслаждение. И не завидовал я ни одному сибариту, утопающему в роскоши и неге; нет, моя постель из нескольких ветвей была лучше их пуховиков; голоса птиц выражали более гармонии и глубже западали в душу, чем музыка любого артиста; легко и свободно было на сердце, вдали от пошлостей и мелочей повседневной жизни». И далее следует превосходное описание утра в лесу, представляющее собой великолепную звуковую симфонию. «Непотухавшая всю ночь заря начала обновляться на востоке; потянуло прохладным ветерком, проснулась природа. Зарянка запела свою тихую песню; как испуганный, дико закричал дрозд и с громким чавканьем понесся дальше; где-то прохрипел вальдшнеп, закуковала кукушка, болото вдруг огласилось тысячами голосов, заворковали в лесу голуби [73] …» Завершается картина звучащим, как величественный гимн, описанием всходящего и торжествующего дня». Солнце всходило и вызывало к жизни молодой и роскошной, к весенней жизни всю окружавшую меня природу… [74]. Этими взволнованными торжественными словами заканчивается и весь очерк.
В этом отрывке, который может быть включен в антологию лучших образцов русского художественного слова, весь будущий Пржевальский. И, читая его поздние страницы:, посвященные роскошной природе Уссурийского края, или суровым и безрадостным степям Монголии, или навевающим леденящий ужас вершинам «могучего плоскогорья», или грандиозной величественной панораме, открывающейся с вершины тибетских гор, или прелестному весеннему утру в тростниках Лобнора, или «великолепной заре» в пустыне Гоби – мы неизменно слышим и узнаем тот же голос восторженного юноши, который когда-то в волынском лесу с трепетом и благоговейным восхищением прислушивался к живому биению пульса природы и жадно впитывал все ее краски, звуки, запахи; в иной обстановке, в иных условиях звучит то же противопоставление жизни среди свободной природы прозябанию «сибаритов» в искусственном мире условностей и пошлости. Вспомним его знаменитое прощание с Уссурийским краем (которое, кстати сказать, наизусть помнил и любил цитировать В. К. Арсеньев): «Прощай, Ханка! Прощай, весь Уссурийский край! Быть может, мне не увидеть уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод и твоей богатой, девственной природы, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены отрадные воспоминания о счастливых днях свободной, страннической жизни…» [75].
Совершенно исключителен охваченный Пржевальским круг явлений природы. Ему выпало на долю великое счастье созерцать самые разнообразные и противоположные картины: леса и болота Смоленщины и Волыни, мягкие равнинные пейзажи средней России, могучие полноводные сибирские реки, великолепные и пышные леса Дальнего Востока, скудные степи, мертвые пустыни и величественные хребты Центральной Азии – все это нашло свое отображение в сочинениях Пржевальского, и каждое явление, каждый пейзаж переданы и изображены с сохранением свойственных лишь им, индивидуальных и часто неповторимых особенностей. Вновь невольно вспоминается одна страничка К. А. Тимирязева. В статье «Естествознание и ландшафт» он писал о Тернере, который был его любимым художником и непревзойденным в его глазах, художником-пейзажистом. «Его предметом, – писал К. А. Тимирязев, – была решительно вся природа, во всех ее проявлениях: было ли то пасмурное зимнее утро на однообразной равнине или разгул стихий в Альпах, или шторм на море, и, прежде всего, солнце с ослепительной игрой света и красок во всех их бесконечных сочетаниях». И далее. «Он охватил как никто ни до него ни после него всю совокупность, все бесконечное разнообразие форм и явлений природы от изящных изгибов лебединой шеи или сверкавшей под водой рыбки до причудливой листвы и развертывания деревьев и застывших гигантов горных кряжей, от грозных движений стихий в альпийской буре или урагане на море до ослепительных эффектов непосредственного солнечного света или опаловых переливов занимающегося пожара догорающей вечерней зари, – словом, потому, что он был величайший изобразитель природы, какого видел мир с той поры, как изощренный глаз человека стал улавливать ее красоту, а искусная рука нашла тайну передавать другим эти впечатления» [76].
Эти строки, принадлежащие замечательному естествоиспытателю, великому знатоку природы, содержат не только глубокую и выразительную характеристику мастерства художника, но определяют и требования, которые можно предъявлять к художникам-пейзажистам: как живописцам, так и писателям. Пржевальский – не Тернер, сравнивать их не приходится, хотя бы уже потому, что различны и сферы их действий и задачи, которые они перед собой ставили. Но тимирязевская оценка Тернера является великолепной и выразительной аналогией, способствующей уяснению характера изображений природы у Пржевальского: их глубину, поэтичность, проникновенность и тщательную точность, позволяющую им сохранить в полной мере научно-документальное значение.
В нашу задачу не может входить подробный анализ стиля Пржевальского и всех особенностей его литературной манеры. Мы остановились на этом вопросе лишь для того, чтобы в целях дальнейшего изложения выяснить основной тип или вернее сказать основной тон его произведений и тем самым показать незаконность и необоснованность противопоставления понятий «ученый» и «писатель». Такое противопоставление всегда неправильно, в применении же к Пржевальскому оно сугубо ошибочно. Ответом на риторический вопрос: «может ли кому притти в голову считать Пржевальского писателем» должно выдвинуть тезис о Пржевальском как об одном из замечательнейших русских писателей.
В. К. Арсеньев продолжает литературную традицию Пржевальского и может быть назван самым ярким ее представителем. Выше было приведено суждение академика В. А. Обручева о книгах Пржевальского; его можно повторить, говоря и об аналогичных сочинениях В. К. Арсеньева. Более же всего сближает и роднит обоих авторов их отношение к природе. Их книги кажутся порой какими-то вдохновенными поэмами, сочетающими научную точность в описаниях с подлинным и глубоким лиризмом.
У В. К. Арсеньева такое же преклонение перед красотой природы, такое же восторженное отношение к ней, какое было характерно для Пржевальского. О любви Арсеньева к природе, о его уменье понимать ее, о его глубоком и искреннем восхищении перед ней очень живо свидетельствуют страницы дневника П. П. Бордакова: «В. К. Арсеньев отдавал солдатам распоряжения и его блестящие глаза горели воодушевлением: «Итак, господа, первый камень заложен, – сказал он, потирая свои маленькие руки и подходя к нам. – Посмотрите, какая прелесть! Море, небо… ведь, небо-то какое! Чистое, яркое, без единого облачка… Эх, что может быть лучше природы! «И, словно не будучи в силах выразить своего чувства, он махнул рукой и повернулся к костру» [77]. И еще: «В. К. Арсеньев поглядывал по сторонам, и его энергичное лицо дышало бодрым радостным чувством человека, попавшего в привычную обстановку, где он может приложить в полной мере свои знания и силы. «Нигде не дышится так легко, как в тайге, – сказал он. – Я всегда преображаюсь среди лесов и не променяю их ни на один город в свете. Здесь и думается, и работается легче, и нет этой кучи всевозможных никому ненужных условностей, которые, как тенета, мешают движениям. Да разве не клокочет и здесь жизнь? И травы, и птицы, и звери – ведь все это живет… Надо только понять эту жизнь и уметь наслаждаться ею. Горожанин не любит и не понимает природы; он боится ее, боится грома, холодного ветра, самого безобидного животного, вроде ужа или лягушки, боится дождя, жары, темной ночи – всего боится и перед всем дрожит. Среди природы он беспомощен, как ребенок. А вдруг он заблудится! А вдруг промочит ноги или свалится с горы! Жалкие эти люди! [78].» Чрезвычайно любопытен рассказ П. П. Бордакова, как однажды он и Арсеньев были застигнуты! в пути грозой: дождь превратился в ливень и промочил их «до костей». Холод сводил члены; ветер налетал бешеными порывами и задувал «ни за что не хотевший разгореться костер». Буря валила с грохотом огромные деревья; беспрерывно сверкали молнии, оглушительно гремел гром. «А ведь красота-то какая! А?» – крикнул мне на ухо В. К. Арсеньев. С него(как и со всех нас) ручьями текла вода, он весь дрожал от холода, но глаза его горели воодушевлением и самым искренним восторгом [79].








