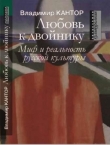Текст книги "«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов"
Автор книги: Владимир Кантор
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц)
Известно, что теснейшим другом его последних лет, начиная с середины 70–х, был В. С. Соловьев. Писатель ездил в Соляной городок слушать его «Чтения о Богочеловечестве» в 1877 г. Во Вл. Соловьеве находят черты и Ивана, и Алеши [139]139
О месте Соловьева в образной системе романа уже говорилось: «“Братья Карамазовы” написаны под влиянием Соловьева и его идей. Это мы чувствуем на каждом шагу, читая роман. Существует предание, что Достоевский изобразил Соловьева в лице Алеши Карамазова. <…> Но все же Соловьев был прежде всего философ, а не добрый мальчик, живущий одним сердцем. Первая статья Ивана “О церковном суде” <…> очень напоминает статьи Соловьева» (СоловьевС. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М.: Республика, 1997. С. 180).
[Закрыть]. Спросим, однако, как примирял в своей душе и мысли Достоевский католические пристрастия юного друга и свою православность. Но для него Запад не был антихристианским, на это он ответил довольно резко: «Вы скажете, что на Западе померк образ Спасителя? Нет, я этой глупости не скажу» (27, 56). Стоит отметить, что племянник великого философа (С. М. Соловьев), разделяя его жизнь и творчество на три периода, замечает: «Деление жизни на три периода находит аналогию у основателя западного богословия бл. Августина, столь родственного Соловьеву в основных идеях» [140]140
Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 6.
[Закрыть]. Строго говоря, свой последний роман Достоевский начинает с проблемы чисто августиновской: а возможно ли построение Града Божьего, если учесть, что государство – явление абсолютно языческое. Достаточно сравнить некоторые тексты из начала романа, где монахи обсуждают статью Ивана Карамазова, с отрывком из «Чтений о Богочеловечестве», где Вл. Соловьев перефразирует Августина.
«Это вот как, – начал старец. – Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. <…> Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется» (14, 59–60).
Сравним высказывание старца с позицией Соловьева, известной Достоевскому: «С религиозной точки зрения на этот вопрос возможен только один общий ответ: если церковь есть действительно царство Божие на земле, то все другие силы и власти должны быть ей подчинены, должны быть ее орудиями. Если церковь представляет собою божественное безусловное начало, то все остальное должно быть условным, зависимым, служебным. Двух одинаково самостоятельных, двух верховных начал в жизни человека быть не может» [141]141
Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. 2–е изд. СПб.: Просвещение, [1911–1914]. Т. 3. С. 17.
[Закрыть]. Именно это и проговаривает далее отец Паисий, как бы рефрен и подголосок старца Зосимы: «Совершенно обратно изволите понимать! – строго проговорил отец Паисий, – не церковь обращается в государство, поймите это. <…> А, напротив, государство обращается в церковь» (14, 62). Если вспомнить, что государство бл. Августин именовал «шайкой разбойников», что вся его идея Града Божия была направлена против Рима как государства, то близость полемики православных монахов этой идее просто удивительна.
Евг. Трубецкой писал об Августине: «Сознательно или бессознательно он участвует в строении нового христианского Рима, в котором дает себя чувствовать Рим старый, языческий. Его идеал вечного градаБожияесть прямая антитеза языческого вечного города – идеальный анти – Рим» [142]142
Трубецкой Е. Н. Религиозно – общественный идеал западного христианства. СПб.: РХГИ, 2004. С. 138.
[Закрыть]. Также и Достоевский, не раз провозглашавший любовь к царю и государству, тайно по сути дела пытался найти убежище для России, когда государство падет. А что оно падет, он предчувствовал: «Герои Достоевского как бы кричат из глубин своего молчания – это какая‑то кричащая гримаса молчания. И молчание это связано с тем, что для таких духовно и нравственно чутких, чувствительных людей, как Достоевский или, скажем, Ницше, вся судьба цивилизации зависела от того, насколько наши обычаи, законы, мораль, привычки имеют корни (в том числе, что они вырастают из каждого лично), а не просто являются законами силы, поддерживаемой пленкой цивилизации. Оба они чувствовали, что если цивилизация только пленка, то это не путь, это взорвется – что и случилось. Достоевский и Ницше в глубине своей души чувствовали эти колебания почвы и сдвиги, которые вулканически должны были поднять все это на воздух» [143]143
Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М.: Ad Marginem, 1995. С. 173.
[Закрыть]. Отсюда, от этого ощущения – страстный поиск убежища (в отличие от Ницше, ждавшего гибели, мечтавшего о ней). И ему казалось, что он его нашел. «Христианство есть единственное убежище Русской земли от всех ее зол» (30, кн. 1, 68), – писал он. Но не просто христианство, как полагал Соловьев, понимавший, как и Августин, важность Церкви для строения общества. Поэтому в своих речах в память Достоевского он так определяет его позицию: «Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то слово это будет не народ, а Церковь» [144]144
Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. 2–е изд. СПб.: Просвещение, [1911–1914]. Т. 3. С. 197.
[Закрыть], а точнее – Град Божий. Именно это он взял у Августина и пытался усвоить именно эту идею Достоевскому, ибо сам был захвачен августиновской концепцией: «В сочетании страстного религиозного чувства с железной мощью философско – исторических схем и построений, в понимании церкви как развивающегося в историческом процессе Града Божия – Соловьев является прямым наследником Августина» [145]145
Соловьев С. М. Богословские и критические очерки. М.: Изд. И. Кушнерев, 1916. С. 171.
[Закрыть], – писал его племянник.
Повторю: Достоевский не занимался философией религии, он создавал религиозную философию, укоренял ее в России. И вот из этой материнской плаценты вырастает религиозная философия России. Он сотворил из своих романов для России ту основу, сквозь которую некогда прошла философия всех европейских стран. Не случайно многие русские мыслители называли писателя «своим детоводителем ко Христу». Достоевский опирался на Пушкина в самостоятельном подходе к проблемам бытия, именно опыт Пушкина и Достоевского лег в основу русского философствования. И первым, кто самостоятельно поставил все философско – христианские проблемы европейской мысли (от Исповеди и Теодицеи), был Достоевский.
Бердяев определил линию, идущую от Достоевского, как центральную для русской мысли: «Когда в начале XX века в России возникли новые идеалистические и религиозные течения, порвавшие с позитивизмом и материализмом традиционной мысли радикальной русской интеллигенции, то они стали под знак Достоевского. B. Розанов, Мережковский, “Новый путь”, неохристиане, Булгаков, неоидеалисты, Л. Шестов, A. Белый, B. Иванов – все связаны с Достоевским, все зачаты в его духе, всё решает поставленные им темы. Людьми нового духа открывается впервые Достоевский. Открывается огромный новый мир, закрытый для предшествующих поколений. Начинается эра “достоевщины” в русской мысли и русской литературе» [146]146
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Орусских классиках. М.: Высш. школа, 1993. С. 21
[Закрыть]. Наступала эпоха массовых катастроф, а Достоевский гораздо жестче решает проблему теодицеи, чем Августин, ибо прозревает и те времена, где зло искренно объявляет себя добром, подменяя собой Божественный замысел о человечестве. Августин сказал, что в грехе виноват человек, Достоевский показал, до какого уровня зла человек способен опуститься. Этот уровень оказался беспредельным, вызывая философскую мысль на новое испытание – объяснить причины и пределы зла в человеческой природе. Вместе с тем он показывает и правоту человека, которому Бог даровал свободу, а потому и право оправдывать или не оправдывать Бога, создавшего эту чреватую злом свободу. Поэтому оказался столь востребован духовный опыт Достоевского.
Глава 4 Константин Леонтьев: христианство без надежды, или Трагическое чувство бытия
Чтобы всерьез рассуждать о Леонтьеве, необходимо вполне ясно осознать цельность его мировоззрения, его верность одной идее, точнее, одному экзистенциальному переживанию мира, из которого выходили все его идеи. Слишком много писали и пишут о его непримиримых противоречиях, забывая, что если бы не было цельности, то не было бы и явления. Цельность Леонтьева при кажущихся нестыковках в его взглядах, которые вполне объяснимы, очевидна, если мы правильно сложим пазл.
Говорят, что лучше чувствует движение времени человек, ощущающий себя не во вчерашнем дне, а в позавчерашнем. Исторически Леонтьев – это персонаж Екатерининского времени, да и его идея византизма вполне корреспондирует с византийским проектом Екатерины, а нравственная распущенность его молодости напоминает екатерининских вельмож. Пушкин, «певец империи и свободы» (Г. П. Федотов) показал силу личности, верной долгу и империи, противостоящей стихии крестьянского бунта. Его Гринев – это тот идеальный подданный России, каким мог бы быть в те времена Леонтьев. Судьба уготовила ему другой путь. Но верность имперскому пафосу он пронес через всю жизнь.
В России XIX века среди ее великих людей, всерьез принявших христианство и переживших это приятие на очень глубинном личностном уровне, я бы выделил три гигантские фигуры. Это Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев и К. Н. Леонтьев. Все они прошли через юношеский период сомнений, неприятия или равнодушия к христианству, все они пришли к исповеданию веры, как когда‑то отцы Церкви и прежде всего Августин, написавший «Исповедь» о своих терзаниях и метаниях. Августин, кстати, более других западных отцов Церкви повлиял на этих великих мыслителей России. Любопытна не только склонность каждого из этих мыслителей к исповедальной тематике, но и бесконечное свойство все метания своей души переносить на бумагу. Все их творчество вполне можно поставить на уровень великой средневековой патристики. Они были весьма разные, следившие внимательно друг за другом, общавшиеся, порой неприязненно, но понимая уровень друг друга.
Существенно еще отметить, что были они не просто мыслители, но и писатели. О Достоевском, величайшем романисте нового времени, вроде бы замечание нелепое, хотя тоже не всеми он приемлется. А при его жизни людей, принимавших его творчество, и вовсе были десятки, максимум сотни. Успех его был несравним с успехом Льва Толстого, которого он сейчас вполне затмевает. Вл. Соловьев принимается чаще как родоначальник символизма в поэзии, а не самобытный поэт.
Что уж говорить о Леонтьеве! Не случайно Розанов причислил его к литературным изгнанникам. А между тем он был большим писателем, и вслушивание, вчувствование в мир у него было на уровне писательско – эмоциональном. Романист, не имевший успеха из‑за своей оригинальности: основная тема его прозы – вопросы отношений мужчины и женщины, но вне социальных проблем – секс и воспитание чувств. Но, по словам С. Н. Булгакова, «кто хочет узнать подлинного Леонтьева, должен пережить чары и отраву его беллетристики и через нее увидеть автора» [147]147
Булгаков С. Н/Победитель – Побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева) // Булгаков С. НТихие думы. М.: Республика, 1996. С. 84.
[Закрыть]. Я бы привел еще одно высказывание, оно просится, ибо Леонтьев – прозаик фигура малоизвестная. А оценка Розанова немаловажна для привлечения внимания: «Много лет не читав беллетристики и как‑то, за исключением великих мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, думая, что это нечто “средненькое”. И никогда не искал с ними знакомства, пока случайно, года два назад, не наткнулся на них, в старинном издании, чуть ли не шестидесятых годов. Но едва я начал их читать, как поразился красотою и художественной верностью живописи» [148]148
Розанов В. В. Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым // Розанов В. В. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001. С. 335.
[Закрыть]. Ситуация меняется, но до сих пор подробного исследования художественного творчества Леонтьева так и не случилось.
Леонтьев был человек, писавший беспрерывно, заносивший все свои переживания и события личной жизни на бумагу, превращая их то в романы и рассказы, то в исповеди и мемуары, то в философскую публицистику. Причем острота его мысли была такова, что сиюминутная публицистическая статья, как правило, наполнялась весьма глубоким философским содержанием. Но прежде чем перейти к анализу его социокультурной позиции, остановлюсь на одном художественном тексте, где пафос мировосприятия Леонтьева особенно ясен. Я имею в виду его роман «Исповедь мужа», опубликованный в «Отечественных записках» (1867, № 7) под заглавием «Ай – Бурун». Откликов в печати не было. Но Леонтьев, видимо придавал этому тексту значение. Он сам перевел его на французский и отправил французский вариант Просперу Мериме. Тому роман не понравился, о чем он прямо написал автору. Леонтьев обиделся, хотел отправить резкое письмо, но так этого и не сделал, письмо осталось в его бумагах [149]149
См. их переписку в: Леонтьев К.Избранные письма. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 47–50.
[Закрыть]. Уже много лет спустя исследователи высоко оценили роман: «По четкости композиции, по напряженности действия “Исповедь мужа” – наиболее совершенное художественное произведение Леонтьева» [150]150
Иваск Ю. П. Константин Леонтьев (1831–1891). Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 327.
[Закрыть].
Роман этот чем‑то напоминает «Поленьку Сакс» А. В. Дружинина – о воспитании женщины любящим ее мужчиной. (Глухо звучит и тема Лопухова и Веры Павловны из романа «Что делать?», где герой воспитывает жену, а потом как бы кончает с собой, чтобы сделать ее свободной.) Но уже там прозвучала едва ли не главная его тема – о трагичности бытия, о том, что счастье никому на земле не обещано. Герой, которому перевалило за сорок, считает себя слишком старым, чтобы составить счастье молодой девушки. Еще до встречи с Лизой (напомню литературоведческое понятие «Лизин текст», где, начиная с карамзинской «бедной Лизы» носительница этого имени – трагическая героиня) он рассуждает: «Конечно, я бы мог жениться. Не далее как в Ялте есть молодая девушка. Я очень люблю, когда она в розовом холстинковом платье качается на большом кресле. Она небогата; русская; глаза у нее игривые, темные; щеки нежные и румяные; стройна; к музыке способна; умна. В комнатах у них много цветов; почти под окнами кипит море; чай она делает прекрасно, масло свежее; мебель скромная. Раз кто‑то играл на гармонии, а солнце садилось за горами; она качалась, а я смотрел на нее – и думал… Я выходил от них не раз умиленным и возвращался с радостью. Так мирно и сладко у них! Дочь шьет, мать шьет, отец вздыхает; часы, и те без звука идут и бьют глухо… Какая она хозяйка! Как шьет все сама! Какие дельные книги читает и как мила, кудрява, молода!.. Но у них много родных, и все недалеко отсюда. Я перестал ездить. Да и стар я и душою и на лицо; жаль губить девушку; жаль соблазнять садом, кипарисами, мраморными ступеньками, коврами. И недостало бы у меня никогда жестокости оторвать ее от родных и друзей, – так пусть хоть достанет твердости удалиться».
Но на Лизе он женится с тем, чтобы она стала обеспеченной материально и, развиваясь свободно, нашла молодого и красивого мужчину себе по сердцу и была с ним счастлива. И она находит смазливого грека, ездит с ним по Италии. Он начинает ее бить, это она еще переносит, но когда начинаются его измены, она умоляет мужа принять ее назад. Ее возлюбленный все же везет ее назад, но пароход попадает в бурю, Лиза тонет. И тут только герой понимает постигшую его катастрофу. Нельзя человеку пытаться на земле устроить чье‑то счастье. Нельзя человеку выполнять роль Провидения! Все получается прямо наоборот тому, что человек хотел. Конечно, стоит следовать велениям сердца, но катастрофа неизбежна. Повесть кончается воплем героя: «О, Лиза! Где ты? Где твои руки, твои глаза, твой голос? О, Лиза, дочь, отрада моя, ненаглядная! Лиза, Лиза моя! О, мое сокровище!» После чего герой застреливается. Всерьез, не как Лопухов, а скорее как юный Вертер.
Ю. Иваск пишет, что «эта драма – явление необычное в леонтьевском мире» [151]151
Иваск Ю. П. Константин Леонтьев (1831–1891). Жизнь и творчество. С. 327.
[Закрыть]. Но, на мой взгляд, именно в этой лучшей своей вещи Леонтьев абсолютно адекватно выразил свое миросозерцание. Его катастрофический взгляд на мир, как не обеспеченный никакими защитами, здесь абсолютно ясен. Вообще‑то публика не любит трагических эндшпилей, когда в конце сюжета все уходят, как в трагедиях Шекспира, «унося трупы». Лучше и на душе спокойнее, когда Гринев остается в живых, а Маша Миронова выхлопатывает ему помилование у императрицы, а Пьер Безухов женится на Наташе Ростовой, так даже великие исторические трагедии перестают быть страшными. К Гёте, Шекспиру и Достоевскому критика и литературоведение приучили публику, трагизм им прощается. Тип леонтьевского трагизма не был воспринят [152]152
Стоит привести хотя бы в сноске замечание тонкого и глубокого вроде бы критика русского зарубежья: «Леонтьев, даже как художник, искал черных оттенков с примесью красного цвета, – цвета огня и крови. <…> Если вовлечься в спор, хотелось бы сказать, что в целом зайцевская концепция чище леонтьевской, пусть и уступая ей в оригинальности и силе. Достоевский‑то во всяком случае был за Зосимой, а не за Ферапонтом, и надо иметь такую фантастически сложную, истерзанную психику, как у Леонтьева, чтобы искать света в проклятьях и анафемах вместо любви» (Адамович Г. В. Борис Зайцев // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. СПб.: Алетейя, 2002. С. 198).
[Закрыть].
* * *
Этот трагизм, все‑таки возможный в повести, еще страннее гляделся в его историософских трактатах и не принимался издателями и публикой. Великий трактат «Византизм и славянство» был написан в конце 60–х. Рукопись читалась Катковым, читалась в славянофильских салонах, была отмечена свежесть и самостоятельность, но ни одно консервативное издание текст так и не напечатало. Опубликован он был лишь в 1875 г. в «Чтениях в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете» славистом Осипом Максимовичем Бодянским, секретарем Московского общества истории и древностей Российских. То есть злободневный трактат попал абсолютно не в свою среду. Ушла надежда о влиянии на общество как мыслителя. Леонтьев не был оценен при жизни ни как писатель, ни как мыслитель. Розанов писал: «Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые нечаянности.Природа (творческие ее силы) любит как бы удивитьчеловека, видеть его удивленноелицо. Поэтому чего мы особенно сильно ожидаемили желаем,очень часто, до странности часто, не исполняется.Л – в, во – первых, имел право на огромное влияние и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, ждалего, а потом с каждым годом все мучительнее желал – и тоже ждал.Может быть, в истории литературы это было единственное по напряженности ожидание успеха,и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку [153]153
Розанов В. В. Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым // Розанов В. В. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001. С. 332.
[Закрыть]. Но можно сказать и иначе: Леонтьеву повезло, что он не был востребован при жизни. Его слово не было затуманено славословиями.
В 1883 г. Леонтьев знакомится с Владимиром Соловьевым, идеи которого произвели на него большое впечатление, он даже принимал его идею примирения с католицизмом. Стоит привести слова Соловьева о Леонтьеве, написанные им в некрологе: «Его имя останется в умственной истории России» [154]154
Соловьев В. С. Памяти К. Н. Леонтьева // Соловьев В. С. Собр. соч. в 10 т. СПб.: СПб.: Просвещение, [1911–1914]. Т. 9. С. 401.
[Закрыть]. Как понятно из фактов, если отбросить мифы о Леонтьеве, именно Соловьев был тем мыслителем, который вызывал его наибольший интерес, кем восхищался, с кем соглашался и спорил. Легенда о влиянии на Леонтьева Данилевского все же не совсем справедлива, действительные взаимоотношения их миропониманий много сложнее и не столь идилличны. Впрочем, об этом чуть дальше.
Но сам Леонтьев понимал свое значение и свою невостребованность. И от этого чувствовал себя, как и его герой из повести, на грани самоубийства. Поэтому подлинность его слова была невероятна: все, что он делал и писал, он писал как бы на краю смерти: «С нынешней весны я стал пониматьсамоубийство. – Я знаю, что я по страху Божиюникогда не решусь на него. – Но только по страху Божию. А сама жизнь,с нынешней весны особенно, стала так бессмысленна и пуста, что ее бы самое, такую подлую и без смирения униженную жизнь– что бы ее жалеть? Так, какая‑то скотская привычка!» [155]155
Леонтьев К. Н. Моя исповедь // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. СПб.: Владимир Даль, 2003. Т. 6. Кн. 1. С. 249.
[Закрыть]А такое самоощущение невольно придает и остроту, и горечь написанным словам. В 1878 г. в своей Исповеди он писал: «Ужасно то, что нынешний год в первый раз мне начала приходить мысль, что именно с тех пор как я обратился(с 1871 года) все мирские дела мои пришли в упадок. – С тех пор как я стал Православным, я нигде себе места не найду» [156]156
Там же. С. 228.
[Закрыть]. И речь не о воображаемых бедах. 44–летний Леонтьев пишет, как может писать впавший в нищету старик: С 1887 г. живет в Оптиной пустыни, в своем домике. 23 августа 1891 г. в Предтечевом скиту Оптиной пустыни Леонтьев принял тайный постриг с именем Климента. По совету старца Амвросия покинул Оптину пустынь и переехал в Сергиев Посад. 12 ноября 1891 года скончался от пневмонии и был похоронен в Гефсиманском скиту Троице – Сергиевой Лавры близ храма Черниговской Божьей Матери.
По словам Струве, «Леонтьев – самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX в.» [157]157
Струве П. Б. Константин Леонтьев // Струве П. Б.Patriotica: Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. С. 245.
[Закрыть]. Почему же его не принимали? А как могло быть иначе? Не было ни одного института или понятия, на которое он не взглянул с точки зрения заложенного в основах бытия катастрофизма и беспомощности людей перед Роком. Он был, пожалуй, единственным в России мыслителем, чувствовавшим трагическое движение времени. Не случайно Мандельштам, самый историософский русский поэт советской эпохи, берет Леонтьева в союзники, чтобы сказать о холоде и ужасе наступившего столетия: «Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.
Ему бы крикнуть: “Эх, хороший славный у нас век!” – вроде как: “Сухой выдался денек!” Да не тут‑то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути» [158]158
Мандельштам О.Шум времени // Мандельштам О.Собрание сочинений. В 4 т. М.: Арт – бизнес, 1993. Т. 2. С. 391–392.
[Закрыть]. Посмотрим на основные понятия, отстаивавшиеся Леонтьевым, которые были в центре обсуждения русской мысли.
* * *
Как и Соловьев, все свое творчество Леонтьев посвятил борьбе с кумирами, которым поклонялось русское общество. Он пытался разломать броню прогрессистского благодушия, навеянного позитивизмом, преданностью существующему порядку вещей, эгалитарному прогрессу, разрушить преклонение перед славянством как таковым, утвердить и объяснить величие дела Петра Первого, издевался над существующей в общественном сознании нечувствительностью к потоку изменений, которое несет время. Он был пророк, которого, как и положено, не желали слушать. Его называли реакционером, когда он провидел в грядущем путь к антихристову миру. Его тщетная попытка напугать обывателя тем, что изменения не всегда к лучшему, принесла ему прозвище реакционера. Сам он иронизировал: «О моем влияниина реакционные реформы? Разве метеоролог, верно предсказывающийпогоду, имеет на неесам влияние?» [159]159
Розанов В. В. Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым. С. 356.
[Закрыть]Из самых главных его пророчеств трудно выделить наиважнейшие. Но я все же попробую.
Во – первых, это конечно, преодоление мифов под названием Россия и Европа. Речь, разумеется, прежде всего, именно о мифах, окутывающих реальность великих культур. Непредвзятому читателю бросается в глаза страстная критика Леонтьевым как русской (в целом), так и западной (современной ему) культуры. Причем критика России по резкости равна, быть может, только критике Чаадаева, да редким, но чрезвычайно жестким инвективам Хомякова.
Во – вторых, это миф национальности, в котором он ощущал великую опасность, ибо этот путь вел к национализму, способствовавшему разложению великой империи.
В – третьих, это миф народа, в котором он видел не богоносца, а малообразованное крестьянство, которое своим невежеством вполне бессознательно сдерживает разлагающее влияние радикальных движений. Но лишь в той мере, в какой оно религиозно. Он писал: «Смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как смирение перед тою самою Церковью» [160]160
Леонтьев К. Н. Овсемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М.: Книга, 1990. С. 28–29.
[Закрыть].