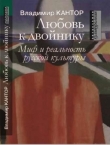Текст книги "«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов"
Автор книги: Владимир Кантор
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 50 страниц)
Обычно герой попадает в страну – утопию извне, у Замятина явно новый ход – речь изнутри утопии, рассказ от лица героя – жителя этой утопии. Это перенесение говорит о том, что утопия уже не воображаемый, а почти свершившийся факт. Надо учесть, что герой строит некий космический корабль «Интеграл», должный проникнуть в сопредельные части Вселенной. Герой не раз произносит слова о необходимости строить жизнь по законам разума. Сошлюсь опять на Мильдона: «В русских литературных утопиях XIX в. очень силен рационалистический дух, уповающий на жизнь по заранее определенным условиям, охватывающим все стороны человеческого бытия. Е. Замятин в “Мы” развил это представление, сатирически фантазируя на тему, непременную в отечественной утопии» [807]807
Мильдон В. И.Указ. соч. С. 51.
[Закрыть]. Нечто похожее произносит и И. В. Кондаков, говоря, что в своем романе Замятин изображает «иго разума» [808]808
Кондаков И. В., Шнейберг Л. Я.Русская литература ХХ века. М.: Новая волна, 2003. Кн. 1. С. 359.
[Закрыть]. И, приводя последние слова героя, утверждает, что это издевка Замятина: «Только в самом конце романа, уже после операции по удалению фантазии, герой вновь, как и в начале своего рассказа, записывает: “И я надеюсь – мы победим. Потому что разум должен победить”. Это последняя фраза романа “Мы”: индивидуальное сознание героя без остатка растворяется в “коллективном разуме” масс; надежда на всеобщую логику сменяется уверенностью в ней» [809]809
Там же. С. 347.
[Закрыть]. Но Замятин знал, что разум не может быть коллективным. Коллективным может быть только безумие. И так ли рационалистичен Замятин в своей контрутопии? Скорее, у него демонстрация иррационализма, до которой может довести рационализм.
Карл Шмитт писал в 1923 г. о «Пролеткульте», как «замечательном случае радикальной диктатуры воспитания». И добавлял: «Но этим еще не объясняется, почему именно в России идеи промышленного пролетариата современных больших городов смогли обрести такую власть. Причина в том, здесь действовали также новые, иррационалистические мотивы применения силы. Не рационализм, который из‑за крайнего преувеличения превращается в свою противоположность и предается утопическим фантазиям, а новая оценка рационального мышления вообще, новая вера в инстинкт и интуицию, которая устраняет любую веру в дискуссию» [810]810
Шмитт К.Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт К.Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 237–238.
[Закрыть].
Кому как не британцу Замятину, строителю ледоколов и автору «Островитян», это было знать. Он и знал. И понимал.
«Поражение, мученичество в земном плане – победа в плане высшем, идейном. Победа на земле – неминуемое поражение в другом, высшем плане» [811]811
Замятин Е.Скифы ли? // Замятин Е. И.Я боюсь. С. 23.
[Закрыть], – писал он. Разум никогда не побеждал, побеждало безумие. Разум Сократа привел его к чаше с цикутой, которую его заставил выпить сошедший с ума «коллективный разум» афинян [812]812
Замятин писал: «Несчастный, лысый старик Сократ. У него – только слово; против него – тысячи тяжеловооруженных. Но он один против тысяч был страшен: ему дали цикуты» ( Замятин Е. И.Они правы // Замятин Е. И.Я боюсь. С. 42).
[Закрыть]. У толпы вообще нет разума. Не случайно в новом обществе так ненавистен Кант, который показал возможности чистого разума, писал, что пользование собственным умом есть выход человека из эпохи несовершеннолетия. Иными словами, вне этой кантовской идеи человек инфантилен. «Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать целые библиотеки о каком‑нибудь там Канте(курсив мой. – В. К.) – и едва замечать Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед» [813]813
Надо сказать, имя Канта поминается в романе не раз, и всегда с негативным оттенком. Вот еще пример: «У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении)» (11).
[Закрыть]. Заметим, что «кремлевский мечтатель» ненавидел Канта, но проповедовал тэйлоризм, где разум заменен статистикой и повторяемостью движений.
Именно одного из основателей философии рацио отвергает новый мир. И это не случайно, поскольку Кант полагал, что пользоваться разумом человек может только сам. Напомню эту, уже цитированную мною в этой книге великую формулу: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетиеесть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого‑то другого. Несовершеннолетие по собственной вине– это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого‑то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения» [814]814
Кант И.Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И.Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. М.: kami, 1994. С. 127.
[Закрыть]. Об инфантилизме как непременном условии тоталитаризма писал Карл Манхейм. Это важнейшее прозрение Замятина.
У Замятина есть небольшие рассказы: «Мамонт», «Пещера», «Дракон», о том, как люди после революции превращаются в троглодитов. Откуда же разум в государстве Благодетеля? Можно пойти по вульгарному пути, предположив, что троглодиты – те, кто за кремлевской стеной, а машину строят те, кто внутри.
Накануне романа «Мы» в 1919 г. он пишет статью «Завтра», где очень четко расставляет акценты. Он не против будущего, но он реалист, или, если угодно, как он сам себя называл, «неореалист». Поэтому главное оружие свободного человека, по его мнению – это разум, это слово, т. е. Логос. Он выступает как наследник русской интеллигенции, выраставшей на текстах классической филологии, понимавшей ценность слова. Приведу слова Аверинцева: «Слово “филология” состоит из двух греческих корней. “Филейн” означает “любить”. “Логос” означает “слово”, но также и “смысл”: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается “смыслом” – смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, – но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное» [815]815
Аверинцев С. С.Похвальное слово филологии // Юность. 1969. № 1. С. 99.
[Закрыть].
В этом контексте, думаю, стоит прочитать слова Замятина, воспевшего не «иго разума», но его величие и его трагедию. Вот его текст: «Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека – это слово. Словом русская интеллигенция, русская литература – десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек . Гордый homo erectus становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке – побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. <…> На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен сегодняшним днем; наше обращение к тем, кто видит далекое завтра – и во имя завтра, во имя человека – судит сегодня» [816]816
Замятин Е. И.Завтра // Замятин Е. И.Я боюсь. С. 49.
[Закрыть].
В этом тексте «мы» – это вымирающие единицы. В романе «мы» – стройно и грозно марширующие колонны.
4. Почему вдруг «мы»?.Обычно, говоря о замятинском романе, вспоминают бесконечное «мы» поэтов Пролеткульта. Однако тема «я» и «мы» была давней темой русской мысли. Не будем вспоминать споры славянофилов и западников. Но Чаадаева, мыслителя, от которого пошла русская философская мысль, который стал родоначальником самокритической направленности отечественного самосознания, миновать нельзя. Чаадаев, в своих «Философических письмах» говоря о России как некоей культурно – исторической общности, себя от России при этом не отделял. Постоянное его слово в рассказе о русских проблемах – «мы» («мы никогда не шли об руку с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода.» [817]817
Чаадаев П. Я.Философические письма // Чаадаев П. Я.Статьи и письма. М.: Современник, 1987. С. 35.
[Закрыть]). Такая позиция была расценена правительством и обществом как безумие. Вообще, как ни странно, в российских самокритических по отношению к культуре текстах часто используется это патриотическое местоимение, но с негативноаналитическим оттенком, вплоть до романа Замятина «Мы». Соответственно, возникала и ярость соплеменников, мол, мы не такие. Серебряный век (годы становления Замятина как писателя) обсуждал чаадаевские проблемы, тогда впервые был издан Гершензоном двухтомник Чаадаева, миновать его тексты Замятин не мог.
Стоит еще указать на эпоху становления народничества, из которого вырос большевизм. Как напомнил Н. Валентинов, еще в 70–х годах, характеризуя, деревенскую Русь, Глеб Успенский сравнил ее со скопищем плывущей по морю воблы, показав отсутствие в крестьянстве «я» [818]818
Валентинов Н. Два года с символистами. М.: Издат. дом XXI век – Согласие, 2000.С. 150.
[Закрыть]. Валентинов цитирует Успенского: «Однородное племя, живущее какой‑то сплошной жизнью, какой‑то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу – дело невозможное» [819]819
Там же. С. 150–151.
[Закрыть].
Но, продолжает Валентинов, будучи тогда марксистом, к 1908 г. (время действия его рассказа) он уже видел новые варианты отказа от «я» и замены его в человеческом сознании обобщением «мы». В политической жизни ХХ века уже он видел «радостно ощущаемый выход из своего узкого “я” в широкий мир коллективной души» [820]820
Там же. С. 154.
[Закрыть]. Он очень тесно общался тогда с Андреем Белым, которому и рассказал свои соображения. Реакция Белого была резка и моментальна. Он ответил картинкой будущей жизни, в которой угадывается схема замятинского романа: «Вижу дортуары, тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда‑то в бесконечность. На кроватях спят “мы”. У всех одного и того серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол и вложила в них подобие души. <…> Заявляю: среди “мы” я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером [821]821
Тут уже можно увидеть и одинаковую одежду замятинской контрутопии («юни– фу»), понимание героя, что он заболел, когда начал видеть свои сны и обрел настоящую душу, соответствующие каждому номера и т. д.
[Закрыть]мне отведенную, не пойду» [822]822
Там же. С. 158–159.
[Закрыть].
Эта же тема звучит в знаменитом, событийном романе Белого «Петербург», где герой возмущается, что ему предлагают быть не «я», а «мы». Здесь мы можем найти любопытные сопряжения. Не раз справедливо говорилось, что «Петербург» с его темами и проблемами нужно рассматривать в контексте тем и образов Достоевского. Скажем, изображение Белым Невского проспекта весьма напоминает изображение Достоевским Кристального дворца, ужас перед толпой. К этому стоит добавить еще одно сближение, что Замятин считал себя в области формы учеником Андрея Белого, тексты которого, особенно «Петербург», где был изображен мир «нумерованной циркуляции», знал очень хорошо, как и положено талантливому ученику. В положительном – и угрожающем – контексте слово «мы» задолго до Пролеткульта прозвучало у Блока: «да, скифы – мы, да, азиаты – мы!» Тут, разумеется, номеров не было, была стихия. Но именно стихию «мы» и брали в Едином Государстве романа под контроль номерами. «Я» менее стихийно, чем «мы», ибо «мы» существует вне разума. В первобытном стаде – подчиняясь правилам стада, роевому принципу, а в развитом обществе существует как нечто идеологически заданное.
Поразительно, что самые первые строчки романа «Мы» как бы отрицают романность, художественность предлагаемого читателю текста: «Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете». Разумеется, это голос героя, а не автора. Герой выражает вроде бы новое мировоззрение, удивительно совпадающее с определенной жизнестроительной концепцией начала 20–х годов: «Я, Д-503, строитель Интеграла, – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это “МЫ” будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю». Такова же была и позиция идеологов левого коммунизма, полагавших, что жизнь становится прекрасной, как поэма. Поэтому и нечего сочинять!
Стоит привести «Писательскую памятку» Н. Чужака, как бы квинтэссенцию футуристической и лефовской идеи «литературы факта», говорящего, заметим, от лица «мы»: «Новая литература – это и есть литература утверждения факта.<…> Литература есть такой же осколок жизни, как и всякий другой участок. Мыне мыслим себе отрыва писателя от того предмета, о котором он пишет. Намсмешно сейчас всякое воспевание со стороны, и насне убеждает даже та сатира, объект которой не подвергался предварительно определенному воздействию со стороны сатирика. Мытребуем строительной увязкиписателя с темой» [823]823
Чужак Н.Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 15.
[Закрыть](выделено мной. – В. К.)
Можно вообразить Единое Государство Замятина как авангардистский проект. Авангард – это система упрощения высокой культуры. Напомню, что Лефовец Михаил Левидов в январе 1923 г. писал: «Полтораста лет после Петра – один Пушкин и 90 % безграмотных. Нет, довольно! Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови, как лебедь, горделивая и белоснежная, плавала безмятежно культура, нужно разбить» [824]824
Левидов М.Организованное упрощение культуры // Левидов М.Простые истины (о читателе, о писателе). М.; Л.: Издание автора, 1927. С. 156.
[Закрыть]. И заключал: «Достоевского в музей, а Россию из музея, из банки со спиртом – в живую жизнь. Вот где смысл и значение организованного упрощения культуры, которое осуществляет революция» [825]825
Там же. С. 190.
[Закрыть]. Простодушие и откровенность замечательные. Уничтожение культуры воспринимается как заслуга. Но это и есть позиция Единого Государства. Вот слова героя: «К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и достоевских – или как их там – прошли, – нарочно громко сказал я».
Что же делают поэты Единого Государства? Об этом тоже существует издевательски – сатирическое описание (словами героя, разумеется): «Величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах силлионы килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное: и точно так же у нас приручена и оседлана когда‑то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность.
Наши знаменитые “Математические Ноны”: без них – разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А “Шипы” – это классический образ: Хранители – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний… Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих как молитву: “Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун – ой, ой – бежит домой” и так далее? А “Ежедневные оды Благодетелю”? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие красные “Цветы Судебных приговоров”? А бессмертная трагедия “Опоздавший на работу”? А настольная книга “Стансов о половой гигиене”?
Вся жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов».
Здесь очевидна пародийная проекция, пародийное развитие идей стихотворения Маяковского «Поэт рабочий» (1918):
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы.
Душа – такой же хитрый двигатель.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова
А также усиление идей платоновского «Государства» – не изгнание поэтов, а превращение их деятельности в государственную пользу.
А вот и конкретный пример из романа:
«А, вы тоже пишете для “Интеграла”? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.
– Сегодня – ни о чем. Другим занят был… – “Б” брызнуло прямо в меня.
– Чем другим?
R сморщился:
– Чем – чем! Ну, если угодно – приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов… Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе: “Я, говорит, – гений, гений – выше закона”. И такое наляпал… Ну да что… Эх!»
И вот перед казнью поэта – преступника его сотоварищ по цеху читает стихи: «Резкие, быстрые – острым топором – хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался… нет, у меня не поднимается рука повторить».
Замятин боролся с идеологией, перспективы которой он увидел лучше многих. Дело не в одной России, а в системе насилия, которое организует мир по правилам сумасшедшего дома. За год до романа он пишет: «Остричь все мысли под нолевой номер, одеть всех в установленного образца униформу; обратить еретические земли в свою веру артиллерийским огнем. Так османлисы обращали гяуров в истинную веру; так тевтонские рыцари мечом и огнем временным спасали язычников от огня вечного; так у нас, на Руси, лечили от заблуждений раскольников, молокан, социалистов. И не точно ли так же теперь? Константин Победоносцев умер – да здравствует Константин Победоносцев!» [826]826
Замятин Е.Скифы ли? // Замятин Е. И.Я боюсь. С. 27.
[Закрыть]Вообще возрождение русского великого инквизитора конца XIX века в советское время увидел не только Замятин, но и Маяковский в своей великой комедии «Баня», где зрителю и читателю является руководитель окружающего мира Победоносиков.
Замятин, конечно, родил не только «1984» Оруэлла, но и «Исправительную колонию» Кафки, и социальную фантастику – «Неукротимую планету» Гарри Гаррисона (о столкновении жителей города, отделивших себя стеной от жителей леса). Машина благодетеля неуловимо напоминает машину для наказания преступника в новелле Кафки. «Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо – острое лезвие луча – как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце…» Но, если вспомнить, у Кафки машина вырезала на теле преступника его приговор. А вот, скажем, прямое предложение Кафке: «Когда вошел R-13 (поэт. – В. К.), я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.
– …И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно – непременно как‑нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, – закончил я».
У В. И. Мильдона есть тонкое замечание о сути утопии – она магична: «Психо– и гносеологические предпосылки утопии уходят в те слои человеческой натуры, где возникают многообразные формы магических представлений. Утопия – та же магия: благое (вымышленное) место наделяется свойствами, каких нет у окружающего. Только потому, что эти свойства воображаемы, они могут (таково магическое условие) сделаться действительными. Стоит подумать, и мыслимое воплотится. Вероятно, этим вызвано то, что грядущее (место, которого нет) наделялось признаками, свойственными теперешней жизни (месту, которое есть). Это место не понималось другим , в нем лишь устранялись дефекты, в соответствии с магической практикой» [827]827
Мильдон В. И.Санскрит во льдах, или Возвращение из Офира. С. 10.
[Закрыть]. Но это именно утопия. В романе Замятина «Мы» изображен шаржированный магизм утопии. Скажем, даже прогулка в Едином Государстве выглядит как магическое действо: «Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов – две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта – там, где грозно гудела аккумулирующая башня – навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади – стража. <…> Огромный циферблат на вершине башни – это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало». Но особенно это магически – ритуальное действо видно в описании Дня Единогласия: «Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов, – я на секунду забыл все: забыл что‑то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. <…> Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще – жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе, – и все выше навстречу ему миллионы сердец, – и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун – как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (– сияние блях); и в центре ее – сейчас сядет белый, мудрый Паук – в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья». Для контрутопии Замятина это выявление сути псевдоразумности описываемого им мира.