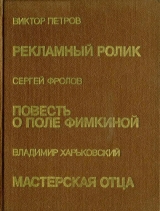
Текст книги "Мастерская отца"
Автор книги: Владимир Харьковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
– А то не знаешь – что! – ответил злобно Володька, щурясь от сигаретного дыма.
Валентин Иваныч «проглотил», но когда вновь глянул на Володьку, то выражение на его лице возмутило Картошкина. Возбуждался он медленно. Не способен был к сильным чувствам с утра.
– Так ты что? Уже того – совсем отца не признаешь? Открыто дымишь…
– Я не в затяг! – нагло усмехнулся Володька.
– Нет, ты точно – обнаглел!
Валентину Иванычу следовало бы шумнуть сейчас на Володьку, но только сил совершенно не было, даже язык плохо шевелился.
– С тобой не то, что обнаглеешь, с тобой оборзеешь скоро! – небрежно реагировал сын на критику.
Равнодушие Володьки к словам, в которые он, Картошкин-старший, вкладывал сильный смысл, и главное – его независимый тон, как будто он – Володька – сам по себе, а родитель – тоже, возмутили Валентина Иваныча. Однако, не зная, как вести себя дальше: то ли обидеться и не разговаривать больше, то ли просто по шее врезать сыночку? – хотя и то и другое было совершенно глупым в его положении – он все же выбрал последнее, подошел к сыну, выдернул у него из зубов сигаретку и дернул его за ухо.
– Да как ты смеешь?!.
Володьку словно пружиной снизу подтолкнули, словно и ждал он того, что родитель его за ухо потянет. Рванулся он, схватил Валентина Иваныча за грудки и от себя – на диван, только кости родителя загремели да пружины диванные сыграли:
– У-ух! Змий зеленый!
Сорвал с вешалки курточку, да так резанул входной дверью, что стекла звякнули. Табуретка с варевом покачнулась – керогаз в одну сторону, кастрюля – в другую. Кипяток по ногам Валентину Иванычу плеснул, у того аж глаза на лоб – больно! А с другой стороны пламя из керогаза под потолок метнулось, занавески на окне занялись, на стол кухонный пламя поползло…
Как был в исподнем, босой, ног не чуя, выскочил Валентин Иваныч на улицу. Володьки и след простыл. Пробежал Картошкин-старший в горячке через дворик на улицу:
– Горю-у! Горю-уу!
Рядом сосед – Анатолий Сучков – лучковой пилой березовые дрова пилит на железных козлах. Вжик-вжик – пила. Глянул он на Картошкина неодобрительно, усмехнулся:
– Я тоже, Валентин, горю. Да вот баба план дала – один куб, а после, говорит, полторашку выставлю..
Однако разглядел, что сосед не по форме выбежал, обеспокоился:
– Ты что, Валентин? Зайди в избу. Хоть и месяц май, а инфлюэнцию запросто подхватишь… Да и люди тут всякие ходят и женщины…
Словом, взялся рассуждать, но Картошкин ничего на его замечания не отвечал путного, только размахивал рукой. Тут-то Сучков и заподозрил что-то. Видел ведь, как Володька из дому выбежал, и он, прихрамывая, застучал литыми резиновыми сапогами к Картошкинскому жилищу.
В полутемных сенях он стукнулся лбом о низкую притолоку, матюгнул хозяина-столяра и, не найдя впопыхах ручки, рванул за свисающий клок утеплителя дверь на себя.
«Ну и мастера!»
В кухне пластали занавески и половики. Керосин растекался.
«Хорошо горит!» – мысленно определил про себя сосед и в горячке проявил героическую решительность. «Потому что был в рукавицах», – объяснил он позже соседкам. Выбросил на улицу керогаз через окно, сорвал остатки занавесок и закатал в кучу половики. И тут сгодился Картошкинский бушлат, лежавший на диване. Им сосед и сбил пламя.
Люди набежали. Шум поднялся. На крыльце рыдал Валентин Иваныч, натурально, со слезами и воплями:
– За что караешь, создатель небесный, человека?.. Голые стены оставила супружница!.. Сын родной спалить хотел! Отца в исподнем по миру отправить…
Не только от горя и боли скорбел Валентин Иваныч. Картину гнал перед соседками, сочувствия, стало быть, искал. Все ведь в округе знали и видели, как делились они: Валентину Иванычу – дом, Лизавете – обстановку и вещи… Знали соседки все, да человеческое сердце не камень, жалели Картошкина.
Анатолий Сучков, погасив огонь, на улицу вышел – герой дня! Теперь-то точно жена сто пятьдесят граммов без стахановской нормы выставит – соседа спас от огня и разорения, это не каждый день случается… И вдруг пугливая такая мыслишка у него мелькнула: «А ведь щуренок его – того, и меня может спалить, если отца родного не пожалел… Послал бог соседей…» И тут же шепнул жене, слушавшей вместе с бабами стенания Картошкина:
– Ты вот что, Нюра, сходи-ка до телефона. Звякни участковому: так, мол, и так, Иван Димитрич! Разберитесь, прореагируйте! Из-за ихней распри и мы имущества лишимся. Постройки рядом, пойдет пластать – никакой госстрах не остановит… – И громко вслед супружнице: – Да не забудь «скорой помощи» сказать: ожог, мол, у Валентина Иваныча тяжелой степени… – И бабам всем: – До чего молодежь распустилась!? Отца искалечил, на имущество покушался! К чему придем, товарищи?
* * *
Юный Картошкин летел со злости прямо в центр Каменки.
Эх, жизнь, жизнь! Родитель пропился весь. В один вытрезвитель двести рублей должен… Участковый сказал, если не остановишься с питьем, на принудительное лечение в элтэпэ отправим… Из-за его пьянки совсем обнищали – картошку в погребе всю доели, где семена брать? Да и зачем они нужны, если у них теперь такая жизнь пошла!?
Уже в центре, когда дома пошли каменные, двухэтажные, Володька повернул к товарищу – Боре Щукину. В классе Боря – бо-ольшой оригинал. Ходит все время нечесаный, в мятой одежде, и это не от скудности жизни. Поворот в уме. Родителей считает мещанами и жить желает просто, как народ, как Володька Картошкин. Хотя, казалось, чего не жить? Мать в бухгалтерии сидит, на микроэвм цифры считает, отец – в рентгенкабинете. От родителей и на Борю почет распространяется, даже в милиции. Прошлым летом Володька, Витя Фролов и Боря баловались на главной райцентровской площади, дурили и случайно выдавили в газетном киоске стекло. Тут их постовой и забрал в отделение. На Володьку и Витю учет завели, а Щукина отпустили, вроде как сын приличных родителей и они его своими силами перевоспитают, чтоб не давил больше стекол…
Щукинская квартира на втором этаже. Дверь обтянута темно-синим дерматином и в несколько рядов пробита мелкими декоративными гвоздиками. На двери сверкающая бронзовая табличка «Доктор-рентгенолог В. А. Щукин».
Володька утопил белую пластмассовую пуговку в черной чашечке, услышав, как в квартире чирикнул звонок-кукушка. За дверью гудело-шумело, потом стихло. «Пылесос», – догадался он.
В оптическом глазке на миг померк свет, и Володька, поняв, что за ним наблюдают, тут же прикрыл глазок большим пальцем.
Загремела цепочка, засов, защелкали задвижки, поршневые замки одно– и двухцилиндровые с секретами и суперсекретами, и наконец на пороге объявился Боря Щукин собственной персоной.
– О-о-о! Вольдемарчик!
«Нарисовался! – почему-то с неприязнью подумал Володька. – Рот до ушей, хоть завязочки пришей!» – Но ответил товарищу ласково:
– Привет, Боб! Трудишься, один?
– А-ах! Вольдемар! – простонал Боря, пропуская Володьку в прихожую, изобразив на лице непридуманное горе.
– Моль истребляешь? – догадался Володька. У Щукиных с наступлением весны в коврах, которые пушились на всех свободных стенках, в паласах, ковровых дорожках выводилась в неимоверном количестве моль, и теперь вот Боря и вылавливал ее пылесосом.
Квартира у Щукиных вполне приличная – три комнаты с кухней и лоджия. Мебель сияет полировкой, в серванте хрустали мерцают, в книжном шкафу собрания сочинений разных писателей золотыми корешками поблескивают…
– Теперь вот я поработал и стану алгебру читать, – говорит Щукин. – Мне в политехнический поступать и никак не ниже. Я – надежда семьи.
– Зачем тебе политехнический? – спрашивает Володька, принюхиваясь к запахам в квартире Щукиных (мясом жареным пахло!) – Поступай в сантехники… Очень заметная фигура в современной жизни… Вон, Павел Петрович, осенью поехал в отпуск и закрыл всего лишь один кран в клубе… Так вся культурная жизнь в Каменке остановилась. – И совсем без перехода сказал: – Выручай, Борис…
Боря сразу затосковал. Подозрение у него такое, что Володька станет денег просить. У Щукиных особая педагогическая доктрина: деньги детей портят, развивают неправильные потребности. Володьке, слава богу, если теория эта права, ничто не грозит – когда еще Валентин Иваныч за свой вытрезвитель расплатится? Да и зачем Боре Щукину деньги? У него и так все есть, что Володьке следует покупать. Даже спирт свой – доктор Щукин его из рентгенкабинета тащит. Выдают, говорят, им там ректификат, чтобы снимки быстрее сушить. И зачем, спрашивается, государство в ущерб себе идет? Сушил бы, как прежде, доктор свои пленки над плиткой, все равно весь спирт к нему в квартиру уходит!?
Папиросы Боре тоже не нужны магазинные, он их у отца ворует. Откроет пачку, несколько штук вытянет, а потом пачку заклеит, словно так и было! Родитель его только возмущается: опять на фабрике не доложили! Куда только отэка смотрит?
– Меня, Боб, Картошкин из дому выгнал, по своей пьяной бессердечности, – говорит Володька. – Налей мне кофейку, залить горе…
– О-о-о! Вольдемар! – у Бори гора с плеч. – Кофейку – это всегда можно. Ком цу мир!
На кухне у Щукиных все блестит и сверкает, как в операционной. Живут люди – газ казенный у них все варит, не то, что у Картошкиных – керосин. Прогуливаясь за этим нефтепродуктом с жестяным бидончиком на другой край Каменки, Володька за свою жизнь уже не одну пару ботинок истоптал. Чад от керосина в доме, копоть, одна только и польза, что клопы его запаху не переносят. Мать Картошкину все уши прожужжала – возьми да возьми плиту газовую! А как ее возьмешь, если дом у них свой и называются они по сельсоветским книгам «частный сектор» – за свои деньги, пожалуйста, бери… Так, видно, век и вековать Картошкиным с керогазом…
Выпил Володька кофе, колбаской копченой закусил, ободрился.
– Может, полторашку примешь? – спросил Боря не очень решительно. – У папы тут что-то на лимонных корочках настояно.
Володька понял, что Боря от него спиной кухонный шкаф заслоняет, чтобы он не увидел графинчик. Но шила в мешке не утаишь, и ему вроде как неловко за свое скупердяйство стало, вот он и предложил – смотри, мол, какой я широкий! И по нему видно – отца боится… Подозревает Володька, что несмотря на этот размах все-то в доме Щукиных тщательно измеряется и подсчитавается. Сам видел, как доктор В. А. Щукин папиросную пачку рассматривал, перед тем, как распечатать…
– Нет! – очень решительно ответил он. – Нету у меня сегодня настроения.
* * *
Первый урок в десятом классе – обществоведение. Володька, едва заметив, как приоткрылась дверь и в образовавшуюся щель просунулся кончик грязной замусоленной указки, гаркнул во все горло:
– Взвод, встать! Смирно-а!
По тому, как дернулся, чуть было не подавшись назад, учитель Митя, Володька понял, что тот стушевался, и с ухмылкой пронаблюдал, как историк торопливым, бодрым шагом прошествовал к учительской кафедре.
– Та-ак! – сказал он озабоченно. – Значит, так! Для начала произведем перекличку.
– К чему эта формальность, Бори-ис Сергеич? – нараспев протянул Щукин. – Тут же свои люди, не подведут! У нас железно, как в танке.
– Да-да! – закивал классный эрудит Прохор Шерстобитов. – Мы, как в депо, мы не подведем!.. Кстати, Борис Сергеич, как ваши дела?
– Прекрасно! – бодро вскричал учитель Митя, закрывая журнал. – И, надеюсь, товарищ Шерстобитов, у вас так же, ага? – не давая больше никому прервать себя, он схватил тетрадку с конспектом: – Новая тема: управление производством… Для того, чтобы сельское хозяйство наилучшим образом удовлетворяло потребности страны, управление предусматривает гармоничное сочетание общегосударственных и внутрихозяйственных интересов…
– Извините, Борис Сергеич! – вежливо остановил его Прохор Шерстобитов. – Это мы прочтем в учебнике. Расскажите нам лучше что-нибудь занимательное, как делал это ваш предшественник Иван Иваныч. Ведь в любом деле должна быть преемственность… Мы, в некотором роде, на пороге жизни. Ага. Так что большинству из нас небезынтересно узнать: как пролегла ваша стезя в науку? Для чего вы бросили свой паровоз…
– И на кого его бросили? – гнусаво пробубнил Боря Щукин.
– …и почему пошли подвижником: нести светлое, доброе, вечное? Хонорис кауза, ради почета, как говорили древние, или были другие веские причины?
– Почему-почему? – бурчал Боря Щукин. – Козе понятно – за длинным рублем, почему еще сюда идут?
Володька, всегда с интересом и усмешкой слушавший товарищей, плетших словесные кружева на уроках учителя Мити, вдруг почувствовал отвращение к этому «упражнению». И как-то невыносимо ему стало смотреть на людей, на их веселые лица, ради собственного удовольствия травивших человека, и на учителя Митю, стоявшего перед ними истуканом – бледневшего, багровевшего от разных сильных чувств. Он облокотился на парту и прикрыл глаза ладонью.
Между тем учителю Мите очень не понравилось, что его заподозрили в корысти. Лицо его при этом приобрело буроватый оттенок, на губах мелькнула кривая, злобная усмешка. Оправдательный монолог он начал медленно, словно взялся разогревать воду в паровозном котле, старательно подбирая слова, а потом разошелся необыкновенно, так что Володьке стало немного жутко от этого буйного азарта. Он доказывал, что взялся за эту работу не ради денег, хотя, признаться, хе-хе! и денег никто не отменял. «Когда я мантулил на паровозе, то получал в три раза больше!..» Он так и сказал: «Мантулил!» – приведя слушателей в совершенный восторг. От этого слова на них повеяло живым настоем трудовой жизни, которая весомо и грубо пульсировала где-то совсем рядом. «А здешние рубли, как это кажется некоторым товарищам, даются людя́м не так просто!..» – сардонически ухмылялся как бы напоследок учитель Митя.
– Так вы бо́рец за идею? – делал удивленные глаза Прохор.
– Бо́рец, как вы изволили выразиться, слишком громко сказано, – несколько остывая от своего бурного и буйного монолога, отвечал учитель Митя. – Но в самом деле следует признаться, когда я работал на паровозе, то многие вещи видел в несколько розовом свете…
– Послушайте! – спокойно и нагло «срезал» его Боря Щукин. – Давайте по существу, без паровоза. Нам скоро сдавать экзамены по истории, а не по материальной части локомотива…
От этого заявления учитель Митя моментально скис, извинился и, к полному удовлетворению класса, начал бормотать что-то из своего конспекта.
И тут в коридоре прозвенел электрический звонок. Как трамвай мимо Володькиного класса проехал. Он бодро вскочил и выкрикнул:
– Взвод, встать! Смирно-а!
Класс встал. Учитель Митя схватил с кафедры журнал, указку, тетрадку с конспектами, раскланялся и выбежал вон.
Следующий урок – математика.
Мимоходом как-то вспомнив о вчерашнем, Володька подумал: придет ли на урок Зоя Михайловна, разве можно после таких издержек работать?
Зоя Михайловна пришла. Только во взгляде ее заметил Володька то, чего никогда не замечал, – тоску и безразличие.
Понимающе переглянулся с Прохором, Борей Щукиным. Они сидели и ждали событий. А на уроках Зои Михайловны всегда что-нибудь было. Предмет у нее такой сложный, умственный, а народ, как ни странно, в выпускном классе подобрался легкомысленный. Учит, учит Зоя Михайловна своих учеников, надоест ей одно и то же вдалбливать – хрясть метровой линейкой по столу и в крик: да где же вас с такими кремневыми головами изобрели!?
Замечал раньше Володька, что учительница красилась, как-то по особому волосы укладывала. А теперь… Довел, стало быть, ее муж-алкаш, как и Володьку родитель, до крайности. А сделаешь-то что? Словами алкоголика в хорошего человека не переделаешь и участковому не заявишь – еще только штраф выпишет, тем дело и кончится…
Ну, а если на то пошло, что уж и жить ему невозможно с родителем, потому что пакость всякую приходится терпеть, – Володька на всякий случай ухо потрогал, не больно, а обидно – сам же родитель виноват вкруговую и еще за уши теребит! – то не проще ли собраться ему вслед за своим товарищем Витей в Челябу, на свободную городскую жизнь?
В те дни, когда завершалась семейная распря Картошкиных, Володька уже составил в голове план будущей жизни. После школы он решил учиться на водителя трамвая. Любая профессия даст деньги и свободу от отца и матери с ее начкаром… И был у него запасной вариант – мечта, давняя, тихая, обдуманная… Он хотел выучиться на историка, но не на такого, как учитель Митя, а чтобы заниматься изысканиями, раскопками древних курганов, расшифровывать старинные документы… Но из-за того, что в этот последний год жизни в их семье все нарушилось и неизвестно, когда поправится, то исполнение его мечты откладывалось на неопределенный срок… Неужели так надолго, как у историка Мити?..
– Картошки-ин! – услышал он, словно издалека, голос Зои Михайловны. – Почему домашнее задание не показываете?
– Я, Зоя Михайловна, все исполнил, – ответил Володька очень вежливо, поднявшись с места. – Только по личным делам задержался в другой части нашей деревни и тетрадки не успел взять.
Математичка верит и не верит, но все же вызывает его к доске. Вышел Володька, мелок кругленький взял, от руки фигурку изобразил – глаз ватерпас! – углы разметил и тут же, с ходу, начал задачку решать.
Говорит, а сам чувствует, что Зоя Михайловна в двойственном положении: ей бы похвалить его надо за то, что он все так бойко и складно докладывает, и нельзя. Если так пойдет, то все повадятся не носить в школу тетрадки… Выводит она ему задумчиво четверку в журнале и уже намеревается сказать, чтобы шел он на место и сел, как стук в дверь. Все глаза – туда: кто пришел и зачем? Зою Михайловну даже перекосило – страшно не любит она, когда на уроке отвлекают – и без того времени мало. Это сорок пять минут-то! – и говорит громче, не останавливаясь, чтобы за дверью ее услышали, что тут она очень занята – объясняет, значит, и мысль ее прерывать никак нельзя. Человек, если из робких, постучит и засовестится. Но тут стук еще настойчивее. Раз такое дело – весь класс на дверь – никто не слушает.
Вышла Зоя Михайловна, постояла с минутку и вернулась:
– Картошкин, вас вызывают!
– С вещами! – сострили в классе.
…Больше всех страдала классная дама юного Картошкина Стелла Илларионовна. Она видела, как тоненький чернильный стержень шариковой ручки торопливо бегал по разграфленному листу бумаги, складывая отдельные слова в предложения. Причем он писал даже в тот момент, когда Стелла Илларионовна молчала, и тогда она с тревогой думала: какие необратимые последствия это может иметь для юного Картошкина?
Стелла Илларионовна с трепетом вдыхала острый скипидарный запах сапожного крема, которым были смазаны сапоги старшего лейтенанта, запахи кожаных ремней, цветочного одеколона, которым он освежил после бритья свое лицо, – на висках и твердом прямоугольном подбородке играл сиреневый глянец, – крепкого табака, и где-то в глубине сознания у нее напряженно билась мысль: с Картошкиным что-то случилось…
Сдержанно кашлянув в кулак, старший лейтенант сказал глухим, простуженным голосом:
– Мы подозреваем Картошкина Владимира Валентиновича в совершении преступления, которое квалифицируется статьей сто сорок девятой Уголовного кодекса Российской Федерации, частью второй, предусматривающей наказание…
В ее сознании отпечаталось лишь – «умышленный поджог», слово «подозреваем», она не восприняла.
Милицейский подал бумагу, исписанную с обеих сторон ровным убористым почерком:
– Ознакомьтесь и подпишите.
Стелла Илларионовна глянула на лист: «По существу заданных мне вопросов поясняю следующее». Наморщила лоб, вникая. Другая фраза, начинавшаяся с немыслимого деепричастного оборота и следующие за ним ряд причастных – привели ее в ужас. Она сжимала губы, покашливала, делая вид, что понимает все это, но смысл написанного совершенно не давался ей, ускользал, прятался в сложнейших синтаксических конструкциях и, казалось, тем самым бесконечно усугублял вину юного Картошкина… С радостью пробежав глазами последнюю фразу: «С моих слов записано верно и мною прочитано», она быстро поставила коротенькую изящную роспись и отдала документ милицейскому, и тот, в свою очередь, высморкался в крупный клетчатый платок и быстро спрятал бумагу в планшет. Он был крайне смущен тем, что ему приходится общаться с людьми учеными, с буквоедами, как любил он, за глаза, величать учителей, ожидая, что юная учительница начнет придираться к его бумаге, вычеркивая слова, запятые – переживал и маялся…
Вот что перенесла Стелла Илларионовна перед тем, как они остались с глазу на глаз с Володькой Картошкиным в коридоре.
Она думала, что Картошкин насторожится, испугается, а может быть, и сбежит от нее. Но он был беспечен, доверителен и весел.
– Мне всегда нравилась твоя честность, Картошкин! – подчеркнуто вежливо сказала директриса. – В наше время – это очень положительная черта. Учителя могут гордиться, что за десять лет сумели сделать честность неотъемлемой чертой твоего характера…
Володька слушал ее и не слышал, на участкового глядя, а тот на него – задумчиво, исподлобья, вроде как изучал, думал – что же он, поджигатель-то, такой спокойный?
А директриса – свое, не без тайного умысла, конечно: осенью в гардеробе целая вешалка курточек и пальто сгорела – должно быть, кто-нибудь из учеников плохо окурок затушил и в карман положил. Так у нее мысль мелькнула: не Картошкина ли это рук дело? – если так, то деньги, которые у нее из зарплаты за испорченную одежду высчитали, вроде как за небрежную охрану школьной собственности, теперь могут обратно вернуться:
– …честность, Картошкин, лучшее качество молодого человека. С возрастом она приобретает особую ценность. Она помогает человеку правдиво прожить жизнь, и как это прекрасно – с правдой через всю жизнь!..
Наконец она кончила, на участкового смотрит: уйти им со Стеллой Илларионовной или остаться? Им интересно, как Картошкина будут допрашивать и вроде как неловко – не хочется человеку мешать, так как он при исполнении.
Понял старший лейтенант чужие сомнения.
– По закону я обязан провести опрос несовершеннолетнего в присутствии педагога…
– Хорошо! – тут же откликнулась директриса.
– Пишите, Иван Димитрич! – оживился Володька, увидев, что участковый достал из планшета бумагу. – Картошкин Владимир Валентинович… Семнадцати лет. Не женат. Образование незаконченное…
Покряхтывая, милицейский взялся записывать на бланк изученную им вдоль и поперек анкету юного Картошкина.
Соседские ссоры, хулиганства на Северной улице райцентра, кражи голубей, кроликов, угон велосипедов – обо всем что-нибудь знал или слышал Володька, и этим был очень полезен участковому.
А Володька, решив, если с ним разговаривают в школе, а не в отделении, то старшего лейтенанта опять привела к нему какая-нибудь бытовая тяжба, напряг память: что он знает? Но кроме того, что несколько дней назад через три дома от Сучковых сняли с веревки простыни, не вспомнил.
* * *
Кончалась Володькина ученическая жизнь. Оставались от нее считанные дни, и от того в школе учителя смотрели на десятиклассников почти как на посторонних. Уроки в эти последние дни перед экзаменами шли с пятого на десятое. Выпускные классы, а их было два в школе, то объединяли для лекций, то водили на экскурсию на животноводческую ферму, где они смотрели, как доят коров, или в промкомбинат, где женщины на швейных машинах шили чехлы для матрасов. А однажды к Володьке в класс Стелла Илларионовна привела видного молодого мужчину с припухшим лицом и темно-коричневой нутриевой шапкой в руках. Несмотря на май, погода на дворе держалась прохладная.
– Вот! – сказала Стелла Илларионовна. – К нам пришел товарищ Бобков из газеты «Голос труда»…
– Здрасте, товарищи! – солидно и густо сказал Бобков. – Прошу садиться, задержу вас маленько…
Он взял журнал и, совершенно не извращая фамилий, как это делали до него почти все новые учителя, стал спрашивать: «А вот вы, Артемов, кем хотите стать? А вы, Семенов? А вы – Щукин?..»
Боря Щукин, как и пророчили родители, «мечтал» стать инженером.
Прохор Шерстобитов наметил себе дипломатическую карьеру.
Паша Попов готовился в кинооператоры…
Бобков от бодрых ответов Володькиных товарищей устал и потерял часть жара, с которым начал свое длинное интервью. Он уже знал, что напишет. Перед ним замаячила идея, которую следовало протащить через статью о школе. И вот поэтому, когда он задал дежурную фразу Володьке: «А вот вы, товарищ Картошкин, кем мечтаете быть в жизни? – очень удивился, услышав:
– Дежурным слесарем на ремзаводе…
– А что же так? – механически переспросил Бобков. – Товарищи в африканские дипломаты, в космические конструкторы целят, а вы сразу же себя подрубаете?
– Да так! – усмехнулся Володька. – Мечты бескрылы, не летают. Ага. Да ведь кто-то должен у дипломата машину помыть, масло в картере сменить…
Одноклассники с пониманием переглянулись. Бобков что-то спросил у Стеллы Илларионовны.
– А-а, – довольно слышно ответила она корреспонденту. – Это наш нигилист.
Бобков открыл рот, чтобы еще что-то спросить у Володьки, но тут прозвенел звонок. Интервью кончилось.
Началась большая перемена, весь класс пошел в сад – гулять. Хорошее время было в саду – цвели яблони и сирень. Володька, Боря Щукин и Прохор Шерстобитов остались в школе. Слоняясь по пустым коридорам, они неожиданно наткнулись на учителя рисования Креминского. Тот развешивал на стенке рисунки для пионерской выставки.
– Помочь? – участливо спросил Володька.
– С толстым удовольствием! – воскликнул Креминский.
Все четверо тут же распределили между собой обязанности. Креминский бойко постукивал красивым декоративным молоточком. Володька держал при этом картинку, Боря подавал сапожные гвоздики, Прохор – очередной рисунок и болтал, болтал без умолку о будущих выпускных экзаменах, о поступлении в институт («По прогнозам специалистов нынче повышенный конкурс в вузы!») – ну, а если не повезет, то можно попытать счастья и на заочный («Учатся ведь Борис Сергеич, в тридцать лет университет кончают…»)
– Лажа, чуваки! – перебил Прохора Креминский. – Все эти митькинские университеты – чистая лажа! – В разговоре со старшими школьниками он любил блеснуть уличным арго. И откуда он только вылупился с этими своими словечками? Никто из них не мог, не смел ему объяснить, что слова «лажа» и «чуваки» в их среде уже безнадежно устарели. Они прекрасно чувствовали фальшивый тон Креминского… («Но, что поделаешь, господа! – восклицал порой Прохор Шерстобитов. – Время от времени в жизни приходится делать хорошую мину при плохой игре, как любят иронизировать немцы…») – По-моему так, чуваки, – он доверительно глянул Володьке в глаза и даже для верности пристукнул себя ладошкой в грудь. – Если мужик, этакий, пардон, здоровенный жлоб, не нашел до тридцати лет своего места в жизни, то лажа – амба! Лучше лазить по паровозу, крутить гайки да после смены давить с корешами «полбанки» в подворотне, чем перед умными людьми толочь воду в ступе… Со временем Митькин поймет, что человек в своей жизни на нужное место взлетает сразу, с юности, а не потом, перепробовав сотню специальностей… Со временем Митькин поймет, что педагогика – это не профессия, педагогика – это…
И тут вдруг они словно по команде обернулись и увидели учителя Митю, стоявшего в нескольких шагах от них.
На красивом лице учителя рисования появилась сладенькая до приторности улыбка:
– А-а!.. Борис Сергеич!.. Ну, а как вы находите рисунки наших пионеров? Не правда ли, среди них есть очень толковые ребята, правда?
Володька почему-то обратил внимание на руки учителя Мити. Огромные медно-красные кисти бывшего кочегара сжимали классный журнал и две половинки серой, запачканной указки.
– Н-н-да! – ответил он как-то задумчиво и виновато, чуть погодя, повторил: – Н-да… – И медленно, устало как-то пошел прочь. Его сгорбленная фигура в коричневом бостоновом костюме вызывала откровенную жалость, но Володька почему-то в последнее время перестал ощущать в своей душе это чувство.
Стараясь как бы сгладить промах Креминского, Прохор глубокомысленно изрек:
– Урби эт обри! Городу и миру, как говорили древние… По-моему, с Митькинскими знаниями по истории далеко не уедешь! Перед университетом придется потеть над учебниками или нанимать репетитора… Это в копеечку родителям выйдет. И зачем только государство тратится на этих заочных историков…
Володька хотел поправить Прохора: следует говорить «Урби эт орби», но на душе у него сделалось совсем тошно, и, ни с кем не прощаясь, он медленно пошел прочь, а вслед ему неслось:
– Зато какой паровозный мастер!
– История – предмет гибкий…
– Лажа, чуваки, чистая лажа…
* * *
С Володькиным родителем Лиза сошлась в семнадцать. Валентин поглянулся ей веселым, щедрым – при деньгах всегда, стало быть, виделась перспектива обеспеченной жизни с таким человеком. Летом по деревням с бригадой шабашил – дома колхозникам рубил, коровники строил, а зиму в тепле отсиживался, в столярной мастерской, где делали, рамы оконные, тарные ящики для завода тракторных запчастей.
И родственникам Лизиным Валентин пришелся. Широтой своей привлек, размахом. После шабашки всем непременно подарки: тестю – литру белой и сапоги хромовые, теще – отрез на платье, младшим сестренкам Лизиным – мятных пряников мешок…
Было время, да все вышло. Незаметно, но верно, скосил Валентина алкоголь. Последние годы Лизе казалось, что она не помнит дня, когда Валентин был трезвым. И хотя все вокруг говорили, что вино – яд, страшное зло, она думала, что даже лучше, когда муж пьян, – разговаривает, шутит, играет с детьми, а как очнется, проспится, зверь-человек, к любому пустяку цепляется, грубит…
Лиза в больничной прачечной на машинах казенное белье стирала, а вечерами еще больничные коридоры мыла. Начальник в ее положение вник, находил подработку. Забыл теперь Картошкин про свои шабашки, а если и случалась левая работа, то все туда же и уходило, даже с ее прачечных денег прихватывал, не гнушался.
Соседки насоветовали – подай, дескать, Лиза, на алименты, не для себя ведь, для детей… Послушала. Да только себе дороже вышло. Совсем от Картошкина житья не стало: нанесла она, видите ли, его личности непоправимый моральный урон, даже истопник Брюханов его стыдит, хотя сам двум женщинам алименты платит…
Так вот ее терпение и кончилось. Ушла она жить к начкару Ивану Савельичу.
Трудно сказать, чем привлек ее этот маленький тусклый человечек с крупным землистым лицом? Просто не могла объяснить – и все тут. Может, обхождением особенным? А собственно не столько обхождение было редкое у начкара, сколько голос – мягкий такой, звучный. Когда же Иван Савельич находился в приятном расположении духа, звуки его голоса прямо-таки порхали, не давая ни остановки собеседнику, ни продыху, и казалось, от того, что все вокруг тоже порхает и вертится, вот какой славный голос у Ивана Савельича! Лиза прямо млела, когда его слушала.








