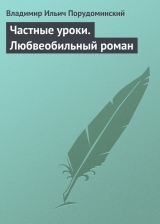
Текст книги "Частные уроки. Любвеобильный роман"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Глава четырнадцатая. Взморье
Мне случилось увидеть Юрика двумя годами раньше, на Рижском взморье.
Отсчитывало дни второе послевоенное лето. Курортные поселки Юрмалы, вытянувшиеся цепочкой вдоль залива, густо заселяли отдыхающие. Прибалтийские курорты были в моде. И причина тому не в климате (как раз ничего не стоило угодить в полосу затяжных, на неделю-другую, дождей), не в море (для россиянина, привыкшего к черноморским здравницам, холодном и мелком), не в дюнах и соснах, а в манившем, дразнившем воображение, тотчас увлекавшим, едва оказывался там (хоть и успели повсюду насадить навязшие в зубах меты советской действительности), ощущении неискорененного Запада – Европы.
Рижское пиво, светлое и темное, выигрывало, по оценке российских знатоков, состязание с жигулевским, но не только пиво – столик в пивной, и стулья, и повадка официантки, и какой-то незнаемый у нас сухарик соленый с тмином, даже самый воздух в непросторной кубатуре помещения, хоть и отдавал, как ему положено, солодом, был другой, мало что замешан на холодном морском ветре, набравшемся песка, водорослей, крика чаек, главное – прежний еще не выветрился.
В ресторане «Лидо» на границе Майори и Булдури, играл сохранившийся из прежней жизни джаз-оркестр Фомина. Не берусь судить, да теперь и не помню, что это были за музыканты, но не об этом речь, а – речь об ощущении: незримый рубеж отделял сидевших в зале от эстрады, невысоким округлым мысом вторгавшейся в пространство между столиками. Фомин выходил на авансцену – волосы, сильно посеребренные сединой, незаискивающая, отчужденная красота лица, черный вечерний костюм, заметно не новый, но сидящий вместе строго и свободно. Испонялось многое такое, чего у нас, приученных к Утесову, даже к «иностранцу» Эдди Рознеру, в ту пору еще не арестованному, не было на слуху, но пел и знаемое, иногда предлагая, впрочем, иные, нежели сидевшие у нас в памяти, и теперь чутко схватываемые на лету слова и строчки. «Я помню синюю рапсодию...» Мы то привыкли, что рапсодия – лунная, но тотчас верили ему, что – синяя, ну, конечно, синяя: это странное, неожиданное синяя таило какую-то странную достоверность реально существуемого где-то, за рубежом, окаймлявшем мыс эстрады, но нам доныне не доступного, не открытого.
Гвоздем программы были «Журавли» – не гамзатовские, положенные на музыку Яном Френкелем (до этих «Журавлей» предстояло еще миновать целой эпохе), – другие «Журавли», исполненная тоски по отчизне эмигрантская песня, – этих «Журавлей» нетерпеливо ждали окучившие ресторанные столики курортники из Москвы, Пензы, Новосибирска, Тмутаракани, – ждали, просили, требовали, «Журавлей» им подавай, и, когда спеты, еще раз, на «бис». А зачем, если задуматься, нужны были нам, осужденным черпать сведения об эмиграции, если вообще интересовались ею, из лживых статеек карманных борзописцев, эти надрывные, тоскливые «Журавли»? Только ли для того, чтобы подкрепить уверенность в правоте и удаче собственной судьбы? Похоже, как раз наоборот: для того, чтобы острее ощутить себя, хоть на минуту, вне территории отечества, где вершители судеб наших предполагали хранить нас вечно. Седеющий певец, с лицом отчужденным и строгим, слегка запрокинув голову, провожал взглядом клин улетавших вдаль журавлей, и сам словно улетал с ними, и пока он пел, округлая линия эстрады уже не разделяла нас, рубеж на минуту-другую перемещался, обегал и захватывал в свои пределы весь четвероугольник зала со всеми, находившимися там. Но вот обрывался негромкий, печальный голос певца, скрипач постепенно замирающим касанием смычка отмечал скрывающийся из глаз пролет прекрасных птиц, Фомин отступал на шаг от края эстрады и склонялся в достойном поклоне. Аплодисменты вновь отделяли посетителей от певца, морок развеивался, мы разбирались со своими салатами-оливье и шницелями и, перелистывая меню, произносили русские слова в холодные лица латышек-официанток. Пушкинская иллюзия, запечатленная в Путешествии в Арзрум: поэт подъезжает к пограничной реке Арапчай («Никогда еще не видал я чужой земли... Никогда еще не вырывался из пределов России»), конь выносит его на противоположный, турецкий берег, но... «Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России».
В латышах подозревали неприязнь, да ее и доставало, конечно: передавали один другому разные истории об аборигенах, которые, когда спросишь у них дорогу, намеренно показывали не в ту сторону, о магазинах, где убирали с витрины хорошие товары, чтобы не продавать нам, советским, но на Взморье, на той его полосе, где сразу же после войны была развернута насыщенная сеть домов отдыха и санаториев, и латыш-то возникал нечасто: этот берег был уже завоеван. Завоеватели, заполняя улицы, расхаживали в полосатых пижамах и – женщины – в модных тогда длинных, до земли, халатах с застежкой у пояса, так что полы, откидываемые при ходьбе ногами, свободно развевались. (Многие пожилые модницы – почему-то именно пожилые – были обмундированы в добытые где-то в массовой продаже кимоно, черные, на спине – яркие цветы и драконы.) Недоброжелательность виделась за нарочито неторопливыми движениями продавцов, не тревожимых нервической горячностью очереди, за белым кокетливым фартучком официантки и ее улыбкой, приклеенной на безразличном лице, в остром, снизу вверх от верстачка, взгляде часовщика, которому вы принесли для починки ваши трофейные ручные часы, в незнании встречными латышами (предполагалось – вымышленном) русского языка. Но и сама эта (угадываемая или зримая) недоброжелательность, – как необычной для нас формы пивная бутылка, как лунный полумесяц песочного пирожного с кремом, как «Лидо» и Фомин, как непонятный разговор торговок в рыночном ряду, – сама недоброжелательность поддерживала, укореняла это непривычное, манящее ощущение – заграница.
Родители не без труда добыли мне трехнедельную путевку на Взморье.
Дом отдыха размещался в небольших, по большей части, двухэтажных корпусах, – в прошлом это, скорей всего, были частные дачи. Главная улица поселка тянулась вдоль моря. Но наш корпус стоял в глубине другой – узкой – улицы, впадавшей в главную, он был окружен невысокими соснами, дышащими солнцем и здоровьем.
Меня вместе с двумя соседями поселили на втором этаже, в мансарде, окно, не исчерченное переплетом рамы, было врезано в крутой скат потолка и выходило в небо. Оно оказалось прямо над моей кроватью: по ночам, пока я не засыпал, я смотрел на звезды. Похоже, тогда я впервые ощутил, осознал себя частичкой – пылинкой – Вселенной, затерявшейся в хаосе плывущего надо мной потока Млечного пути. Пройдет немало времени, прежде чем мне с такой же очевидностью станет ясно, что Бог, Который больше созданной им Вселенной (как горшечник больше горшка, им слепленного, – говорится в Писании), непостижимо умещается в каждой пылинке своего создания, в каждом из нас.
Оба моих соседа, по милости позаботившейся об удобстве отдыхающих администрации, были лишь двумя-тремя годами старше меня. Одного я почти не помню: он приехал с большой компанией и поселился с нами по жребию – комнаты, которая вместила бы без изъятия всю компанию, не нашлось. В памяти осталась лишь круглая, как мяч, поблескивавшая смуглой кожей, голова, которую сосед, борясь с выпадением волос, на что он нам пожаловался в первую минуту знакомства, каждые несколько дней, по графику, запечатленному в записной книжке, брил наголо. Другой был заводской парень из Ярославля – Эраст Крынкин. Как многих моих современников, появившихся на свет в двадцатых годах прошлого столетия, которое я по привычке, видимо, уже неистребимой, продолжаю называть (кажется, и считать) нынешним, родители нарекли его красивым, как им чудилось, иностранным именем, вступившим в заметное противоречие с простецкой российской фамилией (в детстве я учился в школе с сестрами Скотуниными, одна из которых звалась Музой, а другая – Мимозой). Эраст, который с первой же минуты общения просил именовать его Эриком, был, что называется, свой парень, очень спортивный: день-деньской, одолев прибрежную отмель, он надолго скрывался из глаз, без устали плавал в охотку где-то за чертой горизонта, а, едва вновь оказывался на берегу, тотчас пристраивался к какому-нибудь кружку страстных волейболистов – прыгал выше всех, пушечными ударами гасил мяч или, не жалея себя, падал плашмя на песок, чтобы отбить такой же мощный, колом вниз удар кого-либо из партнеров.
Однажды, когда мы с ним рано утром отправились к морю (первый раз мы непременно купались до завтрака, в самой холодной, ночной воде), на берегу появился известный кинорежиссер Пудовкин. Неподалеку от нас он бросил полотенце на песок, движением плеч дал тяжелому махровому халату скатиться со своего отлично сложенного тела, уже успевшего покрыться светлым, с позолотой балтийским загаром. Он был замечательно мускулист: мускулатура не грубая, напоказ, – легкая, пластичная, будто вычерченная карандашом какого-нибудь из мастеров Возрождения. Такая мускулатура не дается природой – ее надо упрямо и с любовью создавать. Скинув халат, Пудовкин начал делать гимнастику – необычную, прежде нами невиданную: сгибая и разгибая руки, наклоняясь и присаживаясь, он не напрягал мышцы, но, наоборот, расслаблял, как бы встряхивал их. Эраст-Эрик не выдержал и без стеснений подошел к нему с вопросами. Оглядев мрачноватым, оценивающим взглядом спортивную (узкий таз, крепко развернутые плечи) фигуру моего соседа, режиссер довольно долго открывал ему секреты, меня не занимавшие. «Классно!» – коротко оценил, возвратившись, Эрик и, разучивая новые упражнения, тоже пытался потряхивать своими железными бицепсами. Несколькими годами позже, Пудовкин умер, еще весьма молодым (тем более на мой нынешний взгляд), там же в Риге, в разгар лета, может быть, в своем гимнастическом увлечении – подробностей не ведаю (или уже не помню).
Из писательского пансионата в соседних Дубултах приходил к нам в дом отдыха известный драматург Арбузов, незадолго до войны вырвавшийся на авансцену тогдашнего театра со своей пьесой «Таня» (премьера в Театре Революции с несравненной Марией Ивановной Бабановой в главной роли – во время трансляций из театрального зала люди по всей стране лепились к репродукторам, чтобы услышать ее чарующий голос). Арбузов ухаживал за Лариской, студенткой, моей московской приятельницей, красивой девушкой с тяжелыми рыжими волосами, с которой мы по воле случая оказались вместе на Взморье. Я издали наблюдал за ними. Он называл ее Ларушкой. Понимаю некоторую неуместность сопряжения на сравнительно небольшом пространстве текста имен «Малушка» и «Ларушка», но что поделаешь, коли так и было, тем более, если по милости стилистической шероховатости упрочится ощущение достоверности рассказа. Три десятилетия спустя, когда меня уже связывало с Арбузовым доброе знакомство, Алексей Николаевич прочитал мне как-то свою новую пьесу «Счастливые дни несчастливого человека»: в одном из действий передо мной вдруг вновь возникло давнее лето, Взморье, девушка Ларушка, – драматург, конечно, и предположить не мог во мне свидетеля имевших, как оказалось, странную власть над ним событий, а я в который раз с изумлением и радостью подивился странным причудам творческого воображения.
В компании с Арбузовым забредал к Лариске поэт Михаил Голодный, который, как вскоре обнаружится, доживал в ту пору свою короткую жизнь вместе со своими стихами, славившими беззаветно верующую в революцию, героическую «комсомолию» двадцатых годов. Первые сборники с романтическими названиями, вроде «Сван», «Земное», сделали известным его имя, но ко времени, когда я увидел его, идеалы любимой поэтом «комсомолии» зачинались не в сердцах, а в райкомах, – скоро нахлынувшая волна разоблачения псевдонимов и под романтическим именем поэта высмотрит нечто вовсе неромантическое – Эпштейн. Михаил Голодный развлекал Лариску экспромтами, которые записывал на случайных клочках бумаги, что-нибудь вроде: «Холодный и голодный // Был Михаил Голодный» (строчки, можно уверенно предположить, многократного использования) или (при тогдашней подозрительности даже крамольно пародийное, но желание блеснуть – один из главных импульсов пренебрежения к опасности): «Много верст по свету пройдено, // По земле и по воде, // Но такой, как здесь смородины // Не едали мы нигде» (в горланимой повсеместно песне: «Но такой, как наша родина, не видали...»). Экспромты очень нам нравились, – вот ведь и шестьдесят лет спустя выковыриваю что-то из памяти.
Неподалеку от нашего корпуса, на огороженной штакетником территории, стояло несколько белых строений, именуемых госдачами. Внешне они не отличались от остальных, да и охранялись, кажется, нестрого. В одной из них обитал в то лето руководитель Монгольской народной республики Хорюйгин Чойболсан.
После завтрака, когда нежаркое прибалтийское солнце, набираясь тепла, всё выше выкатывалось на небо и потоки отдыхающих в пижамах, халатах и размалеванными пестрыми драконами кимоно по всем улицам поселка устремлялись к морю, вождь братского народа появлялся из своей калитки и медленным, мерным шагом направлялся в ту же сторону. На нем была полная маршальская форма – мундир с высоким воротом, золотыми погонами и ленточками орденов на груди, высокие сапоги. Его сопровождал моложавый человек в сером штатском костюме, возможно, посол страны или какой-нибудь из помощников вождя. Смуглое неподвижное лицо Чойболсана было, как принято говорить в таких случаях, будто вырезано из цельного куска темного дерева, – впрочем, может быть, точнее и уместнее сравнить его с темной бронзой буддийских скульптур, тем более что главный человек коммунистической Монголии провел детские годы в ламаистском монастыре, откуда бежал, подобно Мцыри, уже в годы юности мятежной. Сосредоточенно глядя перед собой, Чойболсан, как-то никуда, казалось, не сворачивая, шел неторопливо вперед и вперед, пересекал белесую полосу пляжа и, оставляя на мокром песке тяжелые отпечатки военных сапог, останавливался у самой кромки воды. Он высился неподвижный, мощный, будто отлитый из бронзы, как изваянные ему статуи высились на площадях молодых монгольских городов – тяжелые якоря, ознаменовавшие остановку, чудилось, нескончаемого движения кочевого народа. Он сосредоточенно всматривался в даль своими навсегда прищуренными глазами, точно ожидая какого-то ему одному ведомого и предназначенного знака, который появится над горизонтом; может быть, плоское серое море виделось ему выцветшей, выветренной степью, лишь изредка, всё так же, не оборачиваясь, он быстро произносил что-то на своем проворном языке, человек в сером костюме, почтительно стоявший на шаг позади руководителя, слегка склонялся вперед, непостижимым образом успевал разобрать тотчас уносимые быстрым балтийским ветром слова и отвечал также кратко. Через полчаса Чойболсан поворачивался и, провожаемый взглядами курортников, попрежнему глядя прямо перед собой, устремлялся в обратный путь, – казалось, он попадал сапогами в собственные следы.
Оттуда же, с госдач, приплетался на пляж, и тоже в полной военной форме, генерал-майор Чернецкий – имя это в военные годы, особенно последние, победные, то и дело произносилось по радио. «Марш Чернецкого!» – с горделивой радостью объявлял главный диктор страны – и звуки марша победительной музыкой грозы обрушивались на просторы площадей, врывались в русла улиц, под своды торжественных помещений, раскачивали утлые стены жилых комнат. Мощно дыша всей грудью, выпевали такт духовые, звенела медь, барабаны гремели, – Семен Александрович Чернецкий, композитор и капельмейстер, дослуживал свой долгий военный век инспектором оркестров Советской армии. Я-то, признаться, до того, как увидел его воочию, был убежден, что Чернецкий – фигура историческая и что если не в годы русско-турецкой войны сочинял он свои марши, то никак не позже, чем в русско-японскую. И вдруг, пожалуйста, на пляже заботливо расставляют шезлонг и усаживают в него старичка в теплой на вате генеральской шинели (сукно с сиреневым отливом), он снимает с головы глубокую, съезжающую на уши фуражку, вокруг его высокого гладкого лба поднимается нимбом седой пух; возле него, в нескольких шагах, крошечная девочка в одних трусиках (внучка, наверно), он перебрасывается с ней большим детским мячом. Был он тогда десятью с лишним годами моложе меня нынешнего и, по нынешним моим меркам, не безнадежно старый, но для меня тогдашнего, хоть и удивился, застав его в живых, маячил в возрастной табели о рангах где-то возле генерала Скобелева. И уж вовсе было мне неведомо, когда я, вбегая в черных плавках в воду, усмешливо взглядывал на старика, который с умиленной улыбкой на губах и в уже нездешних глазах бросал и ловил сине-красный мяч, какие перемены готовит мне судьба в недальнем будущем, сколько предстоит мне вскоре прошагать под уверенные, словно рождающие шаг мелодии этого доброго дедушки – походные марши, и марши-броски, и торжественные марши, и... «По-о-олк смирна-а!» – каждое утро дежурный по части, шлепая всей подошвой парадный шаг, под встречный марш пересекает плац, направляясь навстречу полковому командиру с утренним докладом. Но пока я, похоже, несколько больше, чем надо разбрызгивая воду, пробегаю мимо старичка и бегу дальше, дальше в поисках и предвкушении желанной глубины.
Почти всякое утро в определенный час на нашей улице можно было встретить и направлявшегося в сторону моря Леонида Юрьевича. Он, видимо, тоже обитал на госдаче, но не на одной из тех ближних, которые я приметил, а на какой-то другой, может быть, иного ранга, таившейся где-то в глубине поселка. Не исключено, что он селился в несколько загадочном, молчаливом и точно всегда пустующем особняке, стоявшем посреди небольшого ухоженного сада в тупиковом проулке, куда редко кто забредал, – этот особняк с фасадом, отделанным белым и коричневым камнем, называли дворцом баронессы Беньяминьш (что это была за баронесса, которую молва наделила в кругу несведущих, жадно дышащих заграницей курортников таинственной знатностью и влиянием, я, признаюсь, до сих пор поленился выяснить).
Леонид Юрьевич не относился к числу руководителей, чьи портреты были необходимой принадлежностью служебных кабинетов, тем более элементом оформления государственных праздников, – в эпоху отсутствия телевизионного экрана и строжайше регламентированной информации («где каким висеть портретам, уже навек заведено») многие деятели с часто повторяемыми и памятными именами были как бы безлики: всем известны, но внешне неопознаваемы: соответственно, интерес визуального знакомства обретал особую остроту. Сам факт хронологического совпадения дарованных тебе судьбой трех недель с пребыванием на Взморье столь значительного лица, как Леонид Юрьевич, должен был в будущих рассказах прибавлять весу твоему курортному времени, возможности же сообщить некоторые зримые подробности о человеке, чье имя в официальных сообщениях звучало почти не поддающимся расшифровке иероглифом, значимо приумножало этот вес. Наружность Леонида Юрьевича можно было назвать неприметной: простое, несколько плоское лицо, гладко зачесанные назад рыжеватые волосы, правильная умеренность в сложении, не выдающая никаких чувств сдержанность движений. Выглядел он человеком, занятым собственными мыслями, ход которых заведомо отличался от главенствующего общего настроения окружающих. Заложив руки за спину, он шел неторопливо, но и не медлительно, спокойным ровным шагом, с какой-то им самим несознаваемой определенностью опуская ногу на покрытую толстым слоем сухих сосновых игл песчаную мостовую, и сама его завершенная неброскость обособляла его в шумной, подвижной курортной толпе. При том, что по тогдашней табели о рангах лицо Леонида Юрьевича не предназначалось для всеобщего обозрения, и при неприметности самого лица, он, конечно же, едва появился на Взморье, был тотчас кем-то узнан, всякое его перемещение по улицам поселка помечалось повышенным вниманием встречных, шопотом (по обычаю того времени, непременно – шопотом) сообщавших несведущим его имя, чего он, казалось, не замечал, продолжая свое ровное, неторопливое движение. На нем был светлый чесучевый полувоенный френч с одиноко поблескивавшей на левой стороне груди золотой звездочкой Героя – во мнении понимающих людей, опять же по тогдашней табели о рангах, эта скромное облачение стоило маршальского мундира.
Конечно, Леонид Юрьевич был обречен привлекать любопытствующие взгляды аккуратно обтекающей его курортной толпы, оставлять за спиной торопливые и опасливые (шепотом) пересуды. Но внимание к нему было многократно обострено, не исчерпывалось, не стиралось от ежедневного употребления благодаря присутствию Юрика. На прогулке Юрик, точно так же, как отец, заложив руки за спину, шествовал слева от Леонида Юрьевича, чуть приотставая, на полшага-шаг, – он заведомо старался идти в ногу с отцом, но его тяжелые, будто неуправляемые ступни, не умея уловить ритм движения, вкривь и вкось падали на покрывавший землю мягкий ковер. Юрик был заметно крупнее отца – выше и шире в плечах, масти же был материнской, темной. Он вообще походил на Ангелину Дмитриевну – то же удлиненное лицо, нос с горбинкой, те же темные глаза, но все черты искажены рукой неумелого пародиста: лицо слишком длинно, что особенно заметно из-за выдавшейся вперед нижней челюсти, нос выточен слишком резко, глаза глубоко упрятаны под надбровными дугами, и этот ровный воспаленный блеск глаз, скрывающий их глубину и словно преграждающий доступ в них картинам окружающего мира. Юрик, слепо ступая, вышагивал вслед за отцом, иногда спотыкался, цепляя носком землю и отбрасывая в сторону комок слежавшейся хвои, бормотал что-то, ему одному понятное, но иногда вдруг останавливался, резким движением обнимал отца, протяжно и громко кричал, прижимаясь к нему лицом, и постороннему невозможно было угадать, был ли это крик отчаяния или странный невеселый смех. Леонид Юрьевич минуту-другую неторопливыми размеренными движениями гладил его длинную спину, что-то шептал в ухо, Юрик успокаивался, и оба продолжали путь. Они выходили к морю и шли вдоль пляжа, не подступая близко к воде. Если им сопутствовала Ангелина Дмитриевна, то она обычно держала Юрика за руку; возле матери Юрик бывал очень оживлен, они, как дети, когда идут по двое, весело размахивали сцепленными руками, и Ангелина Дмитриевна громко считала: «и раз, и два, и три, и раз, и два, и три». Время от времени Юрик останавливался, кричал и обнимал мать. Во всякую пору дня на Ангелине Дмитриевне был светлый костюм (никогда – халат) – узкая юбка, модный тогда жакет-пиджак с высокими плечами.
Наличие Юрика привносило особые оттенки в отношение к Леониду Юрьевичу. Этот недосягаемый по своей признанной значимости и представимому кругу общения человек был несчастлив, причем несчастлив не в силу каких-то (за семью печатями) совершаемых смещений в высших политических пластах, но просто – несчастлив, несчастлив несчастьем, которое дается человеку не в силу его положения, характера занятий, образа жизни, особенностей натуры, но просто выпадает по воле судьбы, как единственная в колоде карта: могло достаться любому другому, но досталось именно ему. Он заслуживал сочувствия людей, произносивших его имя шепотом. Люди, которым приходилось запрокидывать голову, чтобы определить его место на небосклоне, не желали бы поменяться с ним судьбой. Статуя наливалась теплом тела и под бронзой слышалось сердцебиение.
(Полтора десятилетия спустя, в начале шестидесятых я вспомню давно забытого Юрика, когда прочитаю в газете официальное соболезнование тов. Такому-то Л.Ю. В связи с преждевременной кончиной его сына после продолжительной, тяжелой болезни.)
Мой сосед по комнате Эрик Крынкин поведал мне со слов какого-то всезнающего украинского волейболиста, что Юрик на самом деле взятый Леонидом Юрьевичем на воспитание сын его друга, знаменитого героя гражданской войны Щорса (еще со школьных лет зацепилась в памяти песня о Щорсе: «голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по степной траве»). Во время немецкой оккупации Юрик сражался в партизанском отряде, был ранен, попал в плен, но своих не выдал. Мифотворчество, как известно, не обременяет себя дружбой ни с логикой, ни с хронологией. Я, впрочем, не спорил. Юрик, Леонид Юрьевич, маршал Чойболсан, конечно, вызывали во мне любопытство, но лишь самое беглое – мимоходом. Нечто совсем иное сделало мою жизнь на Взморье значимой и волнующей...








